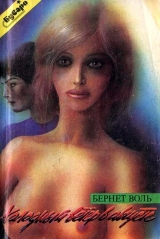
Текст книги "Холодный ветер в августе"
Автор книги: Бернет Воль
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Бернет Воль
Холодный ветер в августе
1
Раннее лето в Нью-Йорке. Пение и свист весны в прошлом. Забыто почти все, за исключением случайной легкой дроби, похожей на ту, которую издает механический цилиндр кондиционера, включаясь среди ночи. Да еще кружевного дымка. На дворе июнь. На дворе лето. Весна прошла.
В районе Ректор-стрит – полуденный поток машинисток и стенографисток, затянутых, увешанных безвкусными украшениями а-ля Катерина Гиббс. Вместе с этими тысячами граций, жующих резинку, в коттеджи Бикфорда врывается запах «Ноксемы», достаточно сильный для того, чтобы обратить в камень тушеное мясо.
В жилых кварталах полные мамаши тычут своих отпрысков под солнечные лучи, свирепо приказывая им немного подрасти. На 40-х улицах раздраженно шагают мужчины, ощущая, как прошлогодние сэнфорские брюки врезаются в промежность. На Пенн-Стейшн мужчина сражается с окном поезда и падает замертво от разрыва сердца. Это только первый, потом будут еще.
А на Ист 60-х день поднимается из-за реки, влажный, с привкусом моря. Вдоль рядов жилых зданий – монотонное жужжание кондиционеров, пережевывающих пыльный воздух.
В одной из таких квартир – тишина, дурное настроение, беда. Кондиционер молчит.
Айрис Хартфорд, лениво скользя между сном и бодрствованием, прижала бледно-голубую простынку к обнаженной груди. Медленно, потому что это было самое важное, она приступила к первому исследованию дня. Начав прежде всего с головы, она широко распахнула глаза, еще не видя, а только впуская в себя свет. Слава Богу, не было никаких признаков похмелья. Ни горящих век, ни рези в уголках глаз.
Благодарно, но слегка пожав плечами от сожаления, она вновь закрыла глаза. Ей всегда нравилось заниматься любовью с похмелья, это действительно было лучшее время. Был такой музыкант, кажется, Эдди? Френк? Фредди? – нет, Чак. Вот кто.
Альт-саксофон. «Химера-клуб». Что же он всегда пил? Перно. Господи! – подумала она. Но и перно не так противно, когда к нему привыкнешь. А по утрам, когда они просыпались – может быть, в 11, в 12 часов – они занимались любовью.
Айрис нравилось это, потому что сначала она была полусонной. А затем, мало-помалу, она просыпалась, чувствуя, как ее тело вырывается из плотного слоя головной боли и усталости. Это было прекрасное ощущение, почти полная отрешенность.
Она обычно лежала с открытыми глазами, наблюдая… наблюдая за… за Чаком, вот за кем… наблюдая, как он движется и чувствуя, как он движется, как если бы это происходило с кем-то другим. Затем неспеша, потому что это было несправедливо, он был хорошим парнем, действительно милым парнем, она оставляла свою отрешенность и начинала двигаться в ответ. И если двигаться достаточно долго и усердно, внезапно накатывали резкие приступы головной боли, и от этого – смешно, действительно странность – было еще лучше.
Через какое-то время он устал от этой связи. И она тоже. Она снова пожала плечами. Всегда одинаково начиналось, всегда одинаково заканчивалось. Везде.
Размышляя об этом, она почувствовала себя одинокой. Что ж, продолжим инспекцию. Волосы? Не раньше завтрашнего дня. Можно было бы вымыть их и самой. Хоть какое-то занятие в уик-энд – вместо того, чтобы ехать в Коннектикут с Джули Францем.
Мысли о Франце грозили поглотить ее, но она упрямо отогнала их. Проводя ладонями под простыней, она положила пальцы на грудь и в порядке эксперимента нажала на соски. Они начали твердеть, и она улыбнулась.
Что за лакомые кусочки, сказала она себе, фактически произнеся это вслух. Потрясающие. Самые потрясающие. Затем ее руки скользнули по плоскому животу и узким бедрам.
Напрягая мышцы, она подняла ноги и вытянула носки, ощущая силу мускулов на бедрах. Твердые, как камень. Сгодятся еще лет на десять, подумала она. Здесь нет причин для беспокойства. В первую очередь сдадут груди. Ну, всегда есть хирургия. Но сейчас не хочется думать об этом. В любом случае, пройдут годы, пока это понадобится, и к тому времени она, может быть, уже будет не у дел. Может, она выйдет замуж за Джули Франца, за кого-нибудь, быстро подумала она.
Она рывком встала с постели и подошла к большому зеркалу. Стоя перед зеркалом, она положила ладони на диафрагму и сдавила грудь. Сначала левую, потом правую, затем наоборот, затем обе вместе. Они ожили и резко дергались, отвечая ее мускулам и нервам, как дрессированные животные. Шлепок, шлепок. Затем она развела колени и сделала медленное вращательное движение бедрами. Заканчивая его, резко толкнула груди вверх.
Самые потрясающие, сказала она себе.
Прежде чем отойти от зеркала, она повертелась в обе стороны и еще раз осмотрела себя. Нигде ничего не висит. Ни одной складочки на боках, где груди переходят в грудную клетку. Она вновь сдавила их – очень быстро.
– Боинг, – сказала она и потянула себя за сосок, как будто это был куклин нос. Улыбнулась.
Затем остановилась и замерла. Что, черт возьми, было не так? Что-то было не так. Что же, черт побери! Она почувствовала, как начинают потеть ладони. Что это? Кто-то есть в квартире? Паника росла. Что…
О Господи, сказала она себе.
Кондиционер молчал. Проклятая штука. Она потянулась за халатом и подошла к окну. Аппарат не издавал ни дуновения, ни звука. Она пощелкала выключателем, покрутила тумблер. Не работает. Проклятая штука никогда хорошо не работала.
Вот что она получила, поручив это дело Джули Францу. Если бы я покупала его сама, подумала она, я бы пошла к Саксу, нет, не к Саксу, а к Мейси или к Джимбелу, или еще куда-нибудь и купила бы хороший кондиционер, вот так. Но Джули все покупает на распродажах. У него всегда есть друг, который все может достать за полцены, и… Она остановилась.
Устанавливал его большой и сильный негр. Он вообразил, что она собирается уступить ему. Она засмеялась. Больше никаких негров. Нет, СПАСИБО! Так ужасно видеть их руки на своем теле.
Сколько лет ей было? Она попыталась вспомнить. Девятнадцать, двадцать? Была ли она замужем? Она нахмурилась, покусывая костяшки пальцев. Это было… это было после того, как Джонни разбил свою машину – на самом деле ее машину, и она навещала его в больнице с парой ребят из их оркестра и… Теперь она вспомнила.
Они поднялись к ней, а затем они все напились, и она оказалась в постели с ними обоими. Это было в последний раз.
– Уф! – сказала она громко. Хочется принять ванну. Но сначала – телефон.
Голос на другом конце провода был тонким, но звучным. Мистер Пеллегрино. Он нравился ей. Он не был одним из этих слабых белых итальяшек. Как жаль, что он уже такой старый, ему, должно быть, пятьдесят.
– Мне ужасно неловко беспокоить вас в этот час, мистер Пеллегрино, – и, подав реплику партнеру, она подождала. Знатная леди. Бесстыдно улыбаясь, она машинально поглаживала низ живота.
– Нет, не думаю, что это серьезно, – продолжала она, – потому что я проверяла его всего лишь месяц назад. Может быть, просто что-то с выключателем, предохранителем или еще что-то. Но сегодня суббота, и я подумала, может быть, если это не очень трудно, может быть, вы…
Она засмеялась, настоящим смехом. Мистер Пеллегрино сказал, что он боится кондиционеров. Он убежден, что они только поднимают ужасный ветер, похожий на сирокко. Знает ли она, что такое сирокко? Нет, но это ничего. Ей нравится разговаривать и мистером Пеллегрино. Он отправит к ней своего сына.
– Хорошо, но скажите ему, пусть он подождет, пока я приму ванну. Я могу не услышать звонок… Я жутко благодарна вам, мистер Пеллегрино, это действительно очень мило с вашей стороны…
Невероятно знатная леди.
Затем она отправилась в ванную.
Грушевое мыло, думала Айрис, держа коричневый полупрозрачный кусок в руке, это единственная вещь, которой стоит пользоваться. Это английское мыло, и уж, конечно, англичане знают, какой сорт мыла лучше всего подходит для английской кожи.
У Айрис была английская кожа. Она гордилась этим, была благодарна за это. Плотная, изумительно белая, с очень мелкими порами, удивительно гладкая и матовая. Ни одна вена не просвечивала под ней. У других девушек были голубые вены на груди – но не у нее, ни тени, ни следа. И на ногах тоже ни одной. Она беспокойно осмотрела внутренние части ног под коленками. Вен нигде не было видно.
Айрис нравилось быть англичанкой, иметь английскую кожу, английское тело. Дорогое английское тело. Не как у той девчонки, которая рассказала ей о грушевом мыле. Собственно говоря, она так и не призналась той девушке, что «заимствовала идею» у нее, потому что та девушка была просто бродяжкой. И у нее были такие плохие зубы. Это всегда отличало дешевый товар. Айрис, помнится, где-то читала это: у дешевых англичанок, бедных недотеп, у всех плохие зубы.
Нужно не забыть как-нибудь поинтересоваться у матери, какие зубы были у отца. Забавно, но он всегда фотографировался так, что она не могла сказать, были ли у него хорошие зубы или плохие. Бедный ублюдок никогда не улыбался, подумала она. Он бросил мать, когда Айрис было десять лет. Привет!
Но – она вздохнула – возможно, ее мать сама виновата. Она попыталась представить мать в постели с отцом, но отбросила эту затею. Должно быть, мать была в этом смысле ничем. Возможно, подумал она, я весьма плоха, но по крайней мере я умею притворяться. И иногда я получаю чертовское удовольствие от этого. Но мать…
«Мужчины всегда думают только о себе. Каждый первый». Айрис помнила, как мать это говорила. Она часто повторяла это. Если бы она могла заставить себя употребить более сильное выражение, она бы сделала это. Но Айрис весьма хорошо понимала, что она имеет в виду: что мужчины эгоистичны, требовательны, сластолюбивы – словом, неприличны.Айрис очень любила мать, она сочувствовала ее тяжелой и одинокой жизни. И несмотря на то, что в детские годы ей так не хватало материнской ласки, она, пожалуй, не могла обвинять мать за ее суровую, сдержанную натуру.
Айрис говорила себе: это часть ее воспитания, это потому, что она англичанка. Став взрослой, она начала гордиться тем, что мать никогда не разрешала ей считать себя своей подругой. «Неприлично», сказала Айрис про себя, подумав об этом, и улыбнулась. Упрямая старая сука, но нужно отдать ей должное: она никогда не просила о помощи.
С десяти лет, с того времени, как отец исчез, Айрис была одинока. Эти воспоминания рассердили ее. Она почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы, и напрягла мышцы лица, чтобы удержать железы от действия. Какое-то время она отрешенно смотрела на кран горячей воды, сдерживая эмоции и мысли до тех пор, пока желание плакать не прошло. Слезы, даже в небольших количествах, ужасно портили глаза.
Тридцать лет, и все еще одна, сказала она себе. Она любила отца. И гордилась им. Она помнит, как говорила другим детям в школе: «Мой папа – мастер-пивовар». Тогда, до ухода отца, они жили в Сен-Луисе.
Он был большим мужчиной, она помнила это и у него были нафабренные усы. Иногда он разрешал ей накладывать воск. У воска был замечательный запах – запах сладкой фиалки. Она улыбнулась своим воспоминаниям. До сих пор она не выносит запаха сладкой фиалки. Интересно, что сказал бы ей об этом психиатр?
Может, стоит сходить к психиатру? Иногда ей кажется, что это неплохая идея… Но черт возьми, она знает, что было не так.
Если бы отец не ушел, и если бы у нее в детстве не было астмы, и если бы она не стала вдруг такой уродливой… Забавно, но астма прошла, когда ей было четырнадцать. Тогда она впервые переспала с мужчиной. Так кому нужен психиатр?
Она не сердилась на отца. Она даже навестила его однажды, когда была в Детройте. Он жил у границы, в Канаде. Все еще большой, но прибавил в весе. Работал в страховании. У него была молодая жена – ненамного старше Айрис. Сначала он слегка смутился, но преодолел это.
– Я вижу, ты делаешь успехи, – сказал он со своим широким йоркширским выговором. Айрис была в норковой шубке, с чьей-то машиной, темно-зеленым «кадиллаком». Да, помнится, она делала успехи, и немалые.
Они легко проговорили с час или больше. Он спрашивал о матери. Но не пытался оправдаться. Он ни о чем не сожалел и, казалось, ни в чем не нуждался. Даже не скучал по ней по-настоящему. Больше ее там ничто не задерживало. Помнится, у двери она помедлила и спросила его:
– Я вижу, ты все еще носишь усы. Это она накладывает тебе воск? – и показала жестом в сторону его жены, сидевшей в другой комнате.
Он прекрасно отыгрался, вспомнила она. Он улыбнулся.
– Нет, – ответил он. – Ты – единственная женщина, которой я разрешал помогать мне бриться.
Какой верный тон, подумала она с благодарностью. Не слишком сентиментально и не фальшиво. Это немного облегчило ей уход. Она ничего не сказала об этом матери, когда поехала навестить ее. Она рассказала матери о визите, но не об этой истории с усами. Мать бы смутилась.
Ей нравилось, что мать пила чай и всегда носила шляпку. Она тоже носила шляпку и перчатки. Ей нравилось, что ее родители англичане, хотя она родилась в Сен-Луисе, там пошла в школу и там же в 14 лет впервые раздвинула ноги перед молодым студентом лютеранского колледжа, расположенного в трех кварталах от ее дома. Он был из Висконсина. Бад Айкс. Она никогда это не забудет. Она также никогда не забудет своего удивления, ощущения того, что ее захватили, но, как оказалось, ни в малейшей степени ею не овладели. Позже – и это она тоже помнит – он закричал. Она до сих пор видит этот юный мягкий рот, мучительно искривленный рот на белом, худом лице, как на изображениях Христа, которые пуэрториканские музыканты таскали повсюду в своих бумажниках.
Вплоть до 18 лет – хотя уже была замужем и развелась, хотя у нее уже было столько мужчин, что она больше не могла запомнить их имена, хотя и старалась вести список – вплоть до этих пор не могла понять, почему студент кричал. Она поняла это однажды ночью, когда позволила одному молодому солдату из Техаса – он был немного похож на индейца – проводить ее домой.
– Что я должен сделать? – кричал он на нее в крайнем раздражении. – Что я должен сделать, вышибить твои мозги? Неужели это ничего не значит для тебя, вообще ничего?
– Не ори, болван, я не хочу, чтобы соседи жаловались. Все, о чем ты думаешь, это ты сам. Ты, и ничего другого!
– Но это неправда! Боже правый, если бы ты только соизволила…
– Черт возьми, почему я должна? Я делала то, что ты хотел, не так ли? Ты получил то, за чем пришел, не так ли? Черт возьми, чего ты от меня хочешь – чтобы я запылала, как рождественская елка, только из-за того, что у тебя есть эта штука? Почему ты думаешь, что ты какой-то особенный? Вы все одинаковы. Все одинаковы.
Неожиданно она вспомнила студента и поняла тогда, только тогда, почему он кричал. Она была полупьяна и начала смеяться.
Солдат дал ей за это затрещину. Два дня она не ходила в театр из-за того, что лицо распухло.
После этого она научилась осторожности. Ее больше никогда не били. По временам она подходила очень близко к этому, и был один человек, который имел обыкновение хватать ее за горло, но у него не было мужества сжать пальцы. Она знала это.
– Продолжай, – говорила она, не испытывая ни малейшего страха, – ты сильнее меня. Ты можешь причинить мне боль. Ну, давай, сделай мне больно.
Это было первое оружие, которым она овладела: презрение.
Другим был класс.
Вот почему она радовалась, что она англичанка. Это была основа класса. Когда ей еще не было шестнадцати и она поступила в кордебалет ночного клуба Сен-Луиса, в ней вскоре обнаружилось одно качество, которое фактически стало ее карьерой. Неуклюжая, с фигурой, еще хранившей следы подростковой полноты, она стала исполнительницей стриптиза. Она снимала одежду – более или менее под музыку – и на крошечных помостках ночного клуба разыгрывала искусственный, но по-детски неудержимый оргазм.
Это представление отличалось не только ее растущей красотой, которая даже тогда была очевидной. Его выделяла какая-то особенная светскость, какой-то след буржуазной стеснительности. Это смущение было куда более реальным, чем застенчивость, которую разыгрывали другие девушки, ее соперницы по сцене. Джентельменам из среднего класса, заполнявшим зал, это напоминало их собственную брачную ночь, идеализированную, конечно; фантазия становилась явью.
А для рабочих людей, для тех, кто стремился выбиться, но все еще не получил статуса среднего класса и тосковал о женщинах недоступных, это было обещанием, доказательством и подтверждением мечты.
Почти с самого начала Айрис имела оглушительный успех. Ее программа много раз изменялась, прежде чем она достигла вершины своей профессии, став «Голубым бериллом». Она перешла из круговерти театра бурлеска в дорогие ночные клубы Лас-Вегаса, Чикаго, Майами. Но она никогда не выходила из этого образа – красивая, сдержанная, даже аристократическая леди, одержимая дьявольским желанием. Она сохранила и улучшила это качество, сделав его мотивом своего выступления. Этот номер стал моральной игрой от обратного. И мужчины послушно платили за привилегию представлять себя демоном «Берилла» – достаточно много для того, чтобы она сейчас зарабатывала около 40 тысяч долларов в год.
Кроме того, класс Айрис был не просто театральным приемом, частью бизнеса. Он также стал составляющей ее частной жизни за пределами сцены. На протяжении многих лет она облекала плотью образ буржуазной респектабельности. Когда было возможно, она жила в «лучших» отелях. Одевалась со вкусом и даже в изысканном стиле. Стала снобкой, но не просто госпожой Беббит. Беббиты среди ее зрителей – как и их жены – были, она чувствовала это, безнадежно вульгарными и «мещанскими, грязными».
Она же жаждала хорошего вкуса, чувственности, интуиции. Если она находила это – или думала, что нашла – в негре-трамбонисте, в бармене, в промышленном воротиле – обычно она шла с ним в постель. А если, как это почти всегда случалось, она обнаруживала грубость, невоспитанность, бесчувственность, она покидала постель или, в некоторых случаях, прогоняла мужчину.
Айрис считала так: или у тебя есть класс, или его нет. Если у тебя нет класса, нет разницы, кто ты и что ты – ты все равно никчемный человек.
Сорок недель в году Айрис Хартфорд была исполнительницей стриптиза, «Голубым бериллом», «экзотической» танцовщицей. Но она не была никчемным человеком. А в течении двенадцати недель в году – в жаркие летние месяцы – она оставляла сцену и жила под своим именем, никому неизвестной Айрис Хартфорд, в небольшой красиво обставленной квартире в Нью-Йорке. Это было своего рода отступление, проверка и новое подтверждение ее кредо.
Эти три месяца Айрис посвящала своему телу – дорогому, любимому. Безусловно, она заботилась о теле постоянно, но с такой расточительностью – только во время своего затворничества в Нью-Йорке. Кроме того, в это время – и это более важно – она практиковала светскость, класс. Она посещала самые изящные магазины, покупала дорогую, казавшуюся аристократической одежду. Читала книги, модные и часто трудные книги, и тщательно просеивала предложения большого города, остерегаясь того, что она считала обычным или мещанским.
Эти вещи, покупки – одежду, книги, китайский чайник – она приносила в свою квартиру только после самого тщательного размышления. Они должны были заслуживать того, чтобы быть посвященными, чтобы быть установленными, по сути дела, в ее святой обители.
Это было спокойное, важное для нее время. Она не обрекала себя на одиночество, хотя ее романы в этот период обычно приобретали смягченную, пристойную окраску, сообразную с ее ролью. Но одно нерушимое правило она действительно соблюдала: ни одному поклоннику не разрешалось входить в ее квартиру – ни на чашечку кофе, ни на то мгновение, пока она сменит перчатки или сумочку. Если было нужно, она оставляла мужчину ждать за дверью.
Никто, решила она, не войдет сюда, кроме меня. На этой кровати никто, кроме меня, спать не будет. Никто не выйдет погулять через эти двери, кроме меня.
Она всегда держала свой храм на замке – точно так же, как всегда были раскрыты ворота ее тела. И, случалось, предпочитала заняться любовью на сиденье машины или в полумраке подъезда, случайно и неожиданно, как дворняжка, чем привести мужчину к своей целомудренной кружевной кровати. Святость места была предметом ее гордости.
Даже сейчас, в ванне, она наслаждалась удовольствием от нерушимости обрядов. Подняла и внимательно изучила маленькую гладкую руку. Пальцы переливались в мыльном блеске, а малиновые ногти были совершенны, как половинки миндаля.
Она сделает долгий, ленивый маникюр, решила она. Это займет первую половину дня… Тут она остановилась.
Порывисто потянулась к телефону и набрала номер.
– Мистера Франца, пожалуйста.
Она подождала. Из трубки послышался низкий мужской голос. Он был сильным и агрессивным. Он вызвал в памяти аромат дорогого лосьона для бритья, дорогих сигар. Он свидетельствовал о властности, роскоши, движении.
– Детка? Я ждал, как на булавках – не хочу сказать «как на иголках» по той причине, что, возможно, этот телефон прослушивается и нас слушает какой-нибудь наркоман. Итак, что с тобой, куколка?
– Клоун, – сказала Айрис. Затем ее голос стал тоненьким, детским, как у девочки:
– Я принимаю ванну.
– Как вам это нравится? В одиннадцать часов утра!
– Ты бы хотел быть вместе со мной?
– Ну, детка…
– Все теплое, скользкое и гладкое, м-м-м… Джуджу, тебе не хотелось бы приехать и принять ванну вместе со мной?
– Слушай, что ты пытаешься со мной сделать? Я имею в виду, что это деловая контора и мой секретарь здесь, то есть… ты понимаешь.
Он засмеялся. Затем, все еще смеясь, но с легким усилием он спросил:
– Итак, как насчет сегодняшнего дня? Ты сможешь вырваться?
– Нет. Как раз об этом я и хотела тебе сказать. Поезжай без меня, Джуджу. Я хочу остаться дома.
– Но это глупо. Это было бы так весело… Хорошо, я останусь с тобой.
– Ты сумасшедший. Не оставайся здесь из-за меня. Поезжай. Поиграй в гольф. Позагорай немного. Тебе это нужно.
Он помедлил.
– У тебя свидание?
– Ага.
Она коротко рассмеялась.
– У меня свидание с мальчиком, который придет ремонтировать этот вшивый кондиционер, твою покупочку. Он снова не работает.
– Послушай, я прямо сейчас пришлю человека…
– Нет-нет. Ничего. Я уже позаботилась об этом. Послушай, Джуджу, желаю тебе хорошо провести время. Позвони мне, когда вернешься, хорошо?
– Хорошо, детка, но ты пропускаешь отличный вечер. Провинциальная знать и вся эта братия.
– Вся эта шатия-братия… Пока.
– Ты уверена, что не хочешь…
– Уверена, что уверена. Я хочу оставаться дома всю неделю, я имею в виду весь уик-энд, и готовить себе сама.
– Думаю, что ты сошла со своего дивного ума.
– Конечно, но именно за это ты и любишь меня.
– Ну да, детка, ты же это знаешь, правда же?
– Вздор! Но ты милый. Пока. Позвони мне.
Она повесила трубку и вздохнула. Гос-с-споди! Затем улыбнулась. Он хороший парень, этот Джули. Смешно, но сейчас она чувствовала себя намного лучше. И голодной. Было бы замечательно, подумала она, приготовить завтрак. А затем съесть его в постели. Но потом она вспомнила, что должен прийти сын Пеллегрино и отремонтировать кондиционер. Ей бы следовало подкрасить губы.
Квартира Алессандро Гаспаре Пеллегрино, эсквайра, в прошлом из Флоренции (Италия), Восточного Бронкса, отеля «Куинз Плаза», а в настоящее время – с 64-й Ист-стрит, имела куда меньше общего с квартирами, расположенными одним или двумя этажами выше, чем с квартирой любого concierge, portinaio или hausmeister на добрых три тысячи миль от его правого локтя.
В ней было то, что есть во всех подобных жилищах: окно, отделявшее (или соединявшее?) сиянье улицы и мрак помещения. Из нее так же, как из любой такой человеческой конуры, открывался беспрепятственный вид на «ворота риска» – в данном случае, на узкий, зажатый между стен проход, которым пользовались кошки, разносчики телеграмм и человек, считывающий показания газового счетчика. И, наконец, в ней был Алессандро Гаспаре Пеллегрино собственной персоной, который, в равной мере уважая пышность и абсурд, почти постоянно сидел у этого окна в надежде, что однажды кто-нибудь – кот, разносчик, газовщик, все равно кто – признает в его позе возмутительную пародию на ученость святого Иеронима. Пеллегрино казалось справедливым предложить ключ к этой шараде, поэтому на выступе окна он поселил – не совсем льва, но блестящую черную керамическую пантеру.
На большом столе, под руками, лежали предметы, к которым Пеллегрино обращался в течение дня. Там были книги – труд о колониальной бактерии, работа об утопических обществах и полный муниципальный свод законов города Нью-Йорка, который, как полусерьезно считали, он заучивал наизусть. Там были также нож и два яблока на тарелке, коробка грубых черных sigari toscane, вонючих итальянских сигар, недовязанный серый носок и, наконец, его сын, наклонившийся над тарелкой и насыщавшийся так изящно и целеустремленно, как молодая черная лиса.
– Ах, figlio mio, figlio mio, – бормотал Пеллегрино в тональности похоронного плача.
– Что случилось? – спросил мальчик, успокоенный знакомым музыкальным стилем отца. Он чувствовал, что не было нужды поднимать глаза или прерывать поглощение пищи.
– Что случилось? – повторил Пеллегрино. – Ничего. Un bel'niente. И чем меньше я имею, тем меньше я хочу. И чем меньше я хочу, тем больше я получаю. Это парадокс, Вито mio. А парадоксы – не для молодых, они для стариков, как и вязанье. Они – способ времяпрепровождения.
– Ты заказал масло? – спросил Вито.
– Нет. Зачем? Сейчас лето. Кому нужно масло летом? Ах, масло, оливковое масло из Лигурии, первой выжимки. – Он причмокнул. – Я клянусь тебе, Вито, это похоже на… Его можно пить, оно получше кока-колы.
– Папа, – мальчик, Вито, поднял глаза и уставился на отца сквозь длинные черные ресницы. Его лицо было живым, хитрым и настороженным, как морда лисы.
– Папа, – сказал он, улыбаясь, со следами молока на губах, – ты сумасшедший.
– А ты счастливый, – сказал Пеллегрино ядовито. Если бы я был нормальным, тебе бы Бог помог.
– Ты на меня рассердился?
Пеллегрино поднял руку в жесте, символизирующем мир. Он не сердился.
– Я заказал масло, – сказал он. – А тебе бы лучше оторвать зад да пойти отремонтировать эту штуку. Возможно, она не догадалась повернуть кнопку вверх или вниз. М-м-м! Что за женщина! A madonna. Che coscie! Так говорят римляне. Что за бедра! – сказал он. – Вито, посмотри на меня!
– Дай мне поесть.
– Посмотри на меня, – он вновь засмеялся. – Подними лицо. Arrosolato, застенчивый, как девушка. Ах, Вито, Вителлоне.
Он поднялся со стула и сжал тонкую шею мальчика.
– Когда-нибудь у тебя будет такая женщина. Не сейчас. Сейчас ты еще маловат для таких. Сейчас для тебя – нервного, нетерпеливого – нужны девушки. Но позже, когда ты станешь мужчиной…
– Ладно, что ж, я не мужчина. Это моя вина?
– Ох, Вито, я только дразню тебя.
Он схватил сына за черные волосы и повернул юное лицо так, чтобы глубоко посмотреть ему в глаза.
– Вито, скажи-ка мне, – сказал он, пристально вглядываясь в черные глаза сына. – Это еще не произошло, нет? Ты все еще девственник, нет?
Мальчик вздрогнул, его смуглые щеки порозовели. Он попытался убрать отцовскую руку с волос.
– Черт возьми…
– Не чертыхайся, – сказал Пеллегрино, грозя ему пальцем. – Я не говорю тебе, что делать, я просто задаю тебе вопрос: ты все еще девственник?
– Господи Иисусе!
– Хорошо, – сказал Пеллегрино. Он улыбнулся и нежно потрепал Вито по щеке. – Хорошо. Не беспокойся об этом. Это вскоре произойдет. Ты станешь мужчиной, Вито. Ты станешь таким мужчиной… У тебя будет столько женщин. Поверь мне. Я счастлив за тебя.
– Ах-х, – мальчик оттолкнул стул и бросил на отца взгляд, полный гордости и смущения. Затем подошел к зеркалу, висевшему над раковиной, и тщательно пригладил волосы. Отец смотрел на него, глубоко тронутый красотой мальчика.
В такие моменты он был благодарен за сына – не потому, что это его кровь, что это он породил такое быстрое и изящное создание, но просто потому, что Вито был чем-то красивым, чем-то блестящим и сверкающим в установленной им самими суровости его жизни.
Надежда увядала в Алессандро Гаспаре Пеллегрино медленно, ветвь за ветвью, радость за радостью, как слабеющее дерево. Это дерево никогда не цвело. Кривое, худосочное, рожденное на узких задних улочках Флоренции, как и сам Алессандро и, как и он, искалеченное и увечное от рождения, это деревце уходило корнями глубоко в камни. Эти каменные глыбы когда-то были цветами, самым лучшим, самым ярким цветом человеческого сердца и ума. Все погибло, все задавлено, все свалено в кучу, все превратилось в холодный камень. Справедливость Бога, цветок. Доброта Христа, божественность человека, вечность искусства, независимость разума – все цветы превратились в камень.
И вот так, питаемая только анархическими мечтами – мечтами поэзии, политики и парадокса – и скудной жизненной силой молодости, осторожно росла его надежда. И наконец выросла – достаточно для того, что он смог жениться, ухитрился перебраться в Америку и осесть в Нью-Йорке. Там-то и началось увядание этого молодого человека с укороченной ногой, страстным лицом и бледной беременной женой, молодого человека, который, кроме того, обнаружил немного сторонников, готовых разделить его роскошную мечту о том, чтобы выкорчевать все эти уродливые камни, перевернуть все скамьи в судах, сбить с голов епископов митры, уничтожить все мучения человечества одним последним чудовищным взрывом динамита. Там-то и началось его увядание.
Что это было, как это случилось? Уродливость. Он бы ответил: прежде всего – уродливость. Но, конечно, никто не задал ему этого вопроса. Вот и вторая причина: одиночество. И еще одна: цинизм, этот бесцветный ледяной флорентийский яд, который он впитал из родных камней. Уродливость, одиночество, самонадеянность – вполне достаточно, чтобы иссушить человека.
Даже тогда надежда Алессандро хотя и не давала никаких новых побегов, но все же еще жила. До тех пор, пока однажды в «Брукалине» он не застыл в черном костюме, держа своего маленького четырехлетнего сына, укрытого от ноябрьского дождя промасленной материей, и ожидая, когда можно будет бросить горсть мокрой земли в могилу жены. Теперь все было кончено. Basta. Хватит.
Не сумев найти работу по специальности (он был столяр-краснодеревец), Алессандро подрядился на службу привратником, чтобы можно было присматривать за мальчиком. Он перебрался из одной мрачной закопченой дыры в другую, таща своего Данте, свои стамески и шила, забавную причудливую гравюру с изображением Бакунина, на которой он был скорее похож на щеголя начала XIX века, и своего сына.








