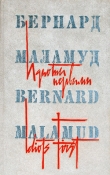Текст книги "Бенефис"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
– Я опасаюсь, что одно потянет за собой другое – дальнейшие расспросы, досмотры. И было бы, по меньшей мере, глупо, если бы в моем чемодане обнаружили вашу рукопись, при том, что я даже не читаю по-русски. Могут подумать, что я подрядился перевозить украденные документы, иначе говоря, что-то вроде курьера?
От одной этой мысли меня точно подкинуло. Напряжение в комнате почти физически сгустилось, и источником его был я.
Левитанский вскочил – он был взбешен.
– Ни о каком шпионаже речь не идет. Я, по-моему, не давал никаких оснований видеть во мне изменника родины.
– Ничего подобного я и не говорил. А сказал только, что не хочу неприятностей с советскими властями. Ничего предосудительного тут нет. Другими словами, я за это не берусь.
– Я недавно навел справки. – Левитанский не отступался. – Если турист приехал в Советский Союз под эгидой «Интуриста», пробыл у нас всего несколько недель и к тому же не говорит по-русски, бояться ему нечего. Политическим деятелям иногда устраивают что-то вроде допроса, ну и буржуазным журналистам, если их поведение вызвало нарекания. Я передал бы вам рукопись перед самым отъездом. Она занимает меньше ста пятидесяти страниц, напечатана на тонкой бумаге – это маленький сверток, он ничего не весит. Возникнут у вас какие-то опасения – выбросите сверток в урну. Моего имени на нем не будет, но, если рассказы найдут и дознаются, кто их автор, я скажу, что выбросил их сам. Мне не поверят, но что еще я могу сказать? Да и какая разница? Если я прекращу писать, мне лучше умереть. А вам это ничем не грозит.
– И все же, как хотите, но я вынужден вам отказать.
В отчаянии Левитанский, по всей видимости, выругался, схватил с полки портрет Пастернака и швырнул в стену. Пастернак угодил в Маяковского, разбился, осыпав его осколками, и оба портрета рухнули на пол.
– И еще называется свободный журналист! – орал он. – Катись в свою Америку! Заливай неграм про Билль о правах! Заливай, что они свободны, хоть вы и держите их в рабстве! Заливай несчастному вьетнамскому народу, что вы его уважаете!
В комнату вбежала Ирина Филипповна.
– Феликс, – упрашивала она его. – Ковалевские всё, буквально всё слышат! Прошу вас, – обратилась она ко мне, – прошу вас, уйдите. Оставьте бедного Левитанского в покое. Умоляю, мне и без того тяжело.
Я поспешил уйти. И назавтра улетел в Ленинград.
* * *
Спустя три дня после выматывающей поездки в Ленинград и через полчаса после прилета в Москву я сидел, расслабившись, в видавшем виды такси с бойкой интуристкой. Мы ехали в гостиницу «Украина», где мне предстояло дожить оставшиеся до отъезда из Советского Союза дни. Я предпочел бы снова остановиться в «Метрополе» – уж очень удобно он расположен, да и привык я к нему, но по зрелом размышлении счел, что лучше жить там, где некая личность не будет знать о моем местопребывании. «Волга», которая везла нас, показалась мне знакомой, но, даже если это та же самая, причин для беспокойства я не видел: ее водитель мозгляк в большой вязаной шапке и темных очках – не обращал на меня никакого внимания.
В первый день в Ленинграде мне выпало пережить несколько исключительных минут. Белой ночью, распаковав по приезде в гостиницу «Астория» чемодан, я вышел на Невский проспект – в конце его передо мной встали Зимний дворец и Эрмитаж. На Дворцовой площади, просторной и безлюдной в этот поздний час, в памяти моей всплыли происходившие здесь революционные события, и я – вот уж чего не ожидал – пережил сильное потрясение. Господи, подумал я, ну почему у меня такое чувство, что русская история мне не чужая? Все, что происходит с людьми, тебя касается – вот почему. Стоя на Дворцовом мосту, я любовался леденисто-голубой Невой, золотым шпилем собора, построенного Петром Великим, сверкающим под гонимыми ветром тучами, в прогалы между которыми проглядывало зеленое небо. Конечно же это Советский Союз, но Россией он быть не перестал.
Завтра, когда я проснулся, на душе у меня было неспокойно. На улице ко мне дважды обратились по-английски, по всей видимости, этих типов привлекли мои замшевые ботинки. Первый – дурно одетый, с близко посаженными глазами – хотел всучить мне рубли по цене черного рынка.
– Нет, – сказал я, приложил руку к соломенной шляпе и прибавил шагу.
Второй, рослый парень с косо подстриженной – левая сторона длиннее правой – бородой в зеленом пуловере-самовязе, попросил продать ему джазовые пластинки, «молодежную одежду» и американские сигареты.
– Извините, ничего не продаю. – Я отделался и от него, с той только разницей, что зеленый пуловер тащился следом за мной вдоль канала еще целый километр. Я припустился бежать. Но, оглянувшись, увидел, что он уже отвязался. Спал я плохо – за окном за полночь было также светло, как днем, – и утром навел справки: не могу ли я сегодня же улететь в Хельсинки. Мне сообщили, что на ближайшую неделю места на всех рейсах раскуплены. И я вернулся в Москву днем раньше, чем предполагал, преимущественно для того, чтобы хорошенько осмотреть Музей Достоевского.
Левитанский не покидал мои мысли. Что он за писатель? Я прочитал три рассказа из предназначенных для печати восемнадцати. Что, если он показал мне лучшие, а остальные были так себе или вроде того? Стоит ли идти на риск ради такой книги? Я подумал: для душевного спокойствия лучше и думать позабыть о Левитанском. Перед отъездом из «Астории» мне передали длинное письмо от Лиллиан, переправленное из Москвы, судя по всему, она написала его до того, как получила мое. Жениться ли на Лиллиан? Хватит ли у меня решимости? Пронзительно зазвонил телефон, однако, когда я снял трубку, никто не ответил. В самолете по дороге в Москву мне все казалось, что наш самолет вот-вот упадет: наверняка далеко не обо всех катастрофах сообщают.
* * *
Я расположился отдохнуть в моем номере на двенадцатом этаже «Украины» в зеленом, обтянутом пластиком кресле. Имелась тут и односпальная кровать на низких ножках, и утилитарного назначения сосновый письменный стол, на который был водружен телефон салатного цвета. Еще неделя, и я дома, подумал я. А теперь надо побриться и узнать, есть ли на сегодня билеты на концерт или в оперу. Настроение требовало музыки.
Штепсель в ванной не работал, и, отложив электробритву, я намыливал щеки, когда в дверь так сильно саданули, что я подскочил. Осторожно приоткрыв дверь, я увидел Левитанского – в руке у него был обернутый коричневой бумагой пакет.
Он что – задался целью скомпрометировать меня, этот сукин сын?
– Как вам удалось найти меня через двадцать минут после приезда, мистер Левитанский?
– Как я вас нашел? – Писатель пожал плечами.
Выглядел он смертельно усталым, лицо его вытянулось, осунулось, он напоминал отощавшего лиса, который на ногах еле держится, но козней своих не оставляет.
– Мой шурин вез вас из аэропорта. Он слышал, как интуристка выкликала ваше имя. Я говорил с ним о вас. Дмитрий – это брат моей жены – сообщил, что вы остановились в «Украине». Внизу мне сказали, в каком вы номере.
– Не важно, как вы узнали о моем местопребывании, – отрезал я, – важно, чтобы вы знали: я своего решения не изменил. И не хочу, чтобы вы вовлекали меня в свои дела. В Ленинграде у меня было время все обдумать, и вот мое решение.
– Можно войти?
– Входите, но по вполне понятным причинам я попросил бы вас не задерживаться.
Левитанский сел в кресло, плотно сдвинул острые коленки, поместил на них пакет. Если он и обрадовался, разыскав меня, то вида не подал.
Я побрился, надел чистую белую рубашку и присел на кровать.
– Извините, что не предлагаю вам выпить, – у меня ничего нет, но я могу позвонить вниз.
Левитанский жестом показал, что ему ничего не нужно. Одет он был точно так же, как и раньше, вплоть до носков. Как это понимать: его жена каждый вечер стирает одну и ту же пару носков или у него все носки трехцветные?
– Откровенно говоря, – сказал я, – меня тяготит, что по вашей милости я вынужден жить в постоянном напряжении, и я попросил бы вас оставить меня в покое. Никто в здравом уме не может рассчитывать, что совершенно незнакомый человек, турист, станет ради него так рисковать. В писательских делах вам препятствует ваша страна, а не я и не США. Раз вы живете здесь, вам ничего не остается, как жить по здешним законам.
– Я люблю мою страну, – сказал Левитанский.
– Никто этого не отрицает. Я и сам люблю свою страну, хотя любовь к своей стране – посмотрим правде в глаза – штука разноречивая. Национальность и душа – не одно и то же, я уверен, с этим вы согласитесь. И вот что еще я хочу сказать: в каждой стране есть много такого, что тебе не нравится, но – ничего не попишешь – приходится с этим мириться. Вы, я полагаю, не думаете о контрреволюции. Словом, если перед вами стена и через нее нельзя перелезть, сделать под нее подкоп или ее обойти, прекратите биться о нее головой, тем более моей головой. Делайте то, что по силам. Просто удивительно, как много можно выразить в притче.
– Хватит с меня притч. – Левитанский помрачнел. – Настало время говорить правду, неприкрытую правду. Я готов мириться до тех пор, пока не приходится поступаться внутренней свободой, в ином случае мириться я не могу. Вот и шурин мой говорит: «Пиши рассказы, приемлемые для печати, пишут же другие, почему ты не можешь?» А я ему сказал: «Они должны быть приемлемыми для меня».
– Вам не кажется, что в таком случае ваши проблемы неразрешимы? Позвольте задать вам вопрос: вот у вас в рассказе евреи лишены и мацы, и молитвенников, так неужели их религиозная жизнь более свободна, чем ваша писательская? Я что хочу сказать: надо трезво оценивать природу общества, в котором живешь.
– А свое общество вы трезво оцениваете? – В голосе Левитанского сквозило презрение.
– Мои трудности не в том, что я не могу высказать своего мнения, а в том, что не делаю этого. По моему мнению, война во Вьетнаме – ошибка, она деморализует нацию, но что я сделал, чтобы ее прекратить? – всего-навсего подписывал петиции да голосовал за конгрессменов, которые выступали против войны. Моя первая жена корила меня этим. Говорила – и пишу я не то, что нужно, и участвую в чем угодно, только не в том, в чем нужно. Моя вторая жена все знала, но делала вид, что не знает. Может быть, я лишь сейчас начал понимать, что правительство США уже много лет подряд подрывает мое самоуважение.
Кадык на шее Левитанского взлетел, как флаг по флагштоку, и тут же опустился вниз.
Левитанский снова взялся за свое, сказал:
– Советский Союз хранит великие завоевания революции. Вот почему я мирился с государством. Меня по-прежнему вдохновляют коммунистические идеалы, хотя удачным этот исторический период из-за вождей с убогими представлениями о человечестве не назовешь. Они испоганили нашу революцию.
– Это вы о Сталине?
– О нем в особенности, но не только о нем. И все же, несмотря ни на что, я следовал партийным указаниям, а когда не мог им следовать, писал в стол. Говорил себе: «Левитанский, история ежеминутно меняется, коммунистический режим тоже изменится». Верил: если даже двум-трем поколениям художников и придется терпеть гнет государства, что это по сравнению с построением подлинно социалистического общества, по всей вероятности, лучшего общества в мировой истории? Политика, революционная необходимость, наверное, важнее эстетики. Через полвека государству ничто не будет угрожать, и тогда все советские художники смогут творить как душе угодно. Так я думал раньше, но теперь я так не думаю. Я больше не верю в партийность, в ее направляющую силу, эта формулировка представляется мне смехотворной. Я не верю, что в стране осуществилась революция, если прозаики, поэты, драматурги не могут публиковать свои произведения, вынуждены прятать в стол книги, из которых могла бы составиться библиотека, и книги эти не будут напечатаны, а если и будут, то лишь после того, как их авторы сгниют в могилах. Теперь я думаю, что государству вечно будет что-то угрожать – вечно! Революция не кончается – такова природа политики, природа человека. Евгений Замятин говорил, что революции нет конца. Революция бесконечна.
– Что ж, тут я с вами соглашусь, – сказал я, надеясь в целях самосохранения удержать Левитанского от последней прямоты: опасался, что иначе его воля и история меня осилят, но он – взгляд у него при этом был отсутствующий – неумолимо продолжал:
– Именно потому, что я писатель, я понял: воображение враждебно государству. Понял: я – не свободный человек. И я прошу вас помочь мне не для того, чтобы нанести вред моей стране – ведь она еще и сейчас вполне может построить социализм, – а для того, чтобы не стать жертвой одной из худших ее ошибок. Я не хочу клеветать на Россию. Моя цель – показать ее душу, как есть. Так поступали все наши писатели от Пушкина до Пастернака, ну и Солженицын, на свой лад. Если вы верите в демократический гуманизм, ваш долг – помочь художнику обрести свободу.
Я встал – думал, что ли, отделаться так от его вопроса?
– В чем именно мои обязательства перед вами? – Я старался держать себя в руках – не выдать своего раздражения.
– Каждый из нас – часть человечества. Если я тону, ваш долг помочь мне спастись.
– В незнакомом водоеме, вдобавок не умея плавать?
– Не умеете плавать, так бросьте веревку.
– Как я вам уже говорил, не исключено, что я под подозрением. Откуда мне знать: может быть, вы – советский агент и хотите меня подставить, может быть, в комнате жучки, и что тогда? Мистер Левитанский, прошу вас, я больше ничего не хочу: ни слушать вас, ни спорить с вами. Готов признать, что я, лично я, не способен вам помочь, и прошу вас уйти.
– Жучки?
– В комнате установлено подслушивающее устройство.
Лицо Левитанского помертвело. Он погрузился в свои мысли, с минуту посидел так, потом тяжело поднялся:
– Я больше не прошу вас помочь. Уверен, вы на это не пойдете. И не порицаю вас. Тем не менее, господин Гарвитц, хочу сказать одно: изменить имя – дело нехитрое, куда труднее изменить свою натуру.
Левитанский ушел, оставив после себя запах коньяка. И испортив воздух.
– Вернитесь! – позвал я его, позвал не очень громко, но если он и услышал меня – дверь уже была закрыта, – то не ответил. Скатертью дорожка, подумал я. Не то чтобы я не сочувствовал ему, но что он сделал с моей внутренней свободой? Стоило ли ехать за тысячи и тысячи километров в Россию, чтобы попасть в такой переплет? Нечего сказать, хорошенький получился отдых.
От писателя я освободился, но освободиться от его рукописи оказалось не так-то легко. Вот она – на кровати. Чье это дитятко – его, вот пусть он о нем и заботится.
Клокоча, я завязал галстук, надел пиджак и заказал – через англоговорящую службу гостиницы – такси.
Полчаса спустя я колесил взад-вперед по Ново-Остаповской улице, пока не разыскал наконец многоквартирный дом, где, как мне помнилось, жил Левитанский. Ан нет, я ошибся, просто этот дом мало чем отличался от дома Левитанского. Я расплатился с шофером и исходил улицу из конца в конец, пока не набрел на вроде бы нужный дом. Однако, только поднявшись по лестнице, я удостоверился, что пришел, куда следует. Я постучался в дверь: на пороге показался Левитанский – постаревший, отрешенный, точно только что вернулся из долгой поездки или оторвался от работы, в которую ушел с головой, с ручкой в руке, – и уставился на меня. Без всякого интереса.
– Левитанский, поверьте, я от души вам сочувствую, но сейчас, на этом этапе моей жизни, учитывая мое состояние и недавние потрясения, я просто не могу ввязаться в такое опасное дело. Мне, право, очень жаль.
Я сунул ему рукопись и спустился вниз. Выбегая из дома, я встретил в дверях Ирину Левитанскую. Она узнала меня – в глазах ее еще до того, как я наскочил на нее, отразился испуг, – откачнулась и полетела на тротуар.
– Господи, что я наделал! Извините! – Я поднял Ирину, отряхнул ее юбку и – не слишком успешно – розовую блузку, прорвавшуюся там, где она ссадила плечо и руку.
Почувствовал, что возбуждаюсь, и отпустил женщину.
Ирина Филипповна прижимала платок к носу – из него шла кровь, из глаз ее катились слезы. Мы присели на каменную скамью, девчушка лет десяти и ее маленький братишка смотрели на нас во все глаза. Ирина сказала им что-то по-русски, и они отошли.
– Я боялась вас так же, как вы боитесь нас, – сказала она. – А теперь я вам доверяю, потому что вам доверяет Левитанский. Но я не стану настаивать, чтобы вы увезли его рукопись. Готовы ли вы взять на себя такую ответственность – вам решать.
– Мне бы вовсе не хотелось брать на себя такого рода ответственность.
Она сказала так, словно говорила сама с собой:
– Я, наверное, уйду от Левитанского. Он все время в таком отчаянии, что наша жизнь ни на что не похожа. Он пьет. К тому же ничего не зарабатывает. Мой брат дает Левитанскому – себе в убыток – подменять его на такси два-три часа в день. Так он зарабатывает рубль-другой, но и только, семью содержу я. Переводы он больше не получает. Мало того, наш сосед Ковалевский – я в этом уверена – донес, что он тунеядец. Левитанского вызывают в милицию. Он говорит, что сожжет свои рассказы.
Я сказал, что вернул ему рукопись.
– Да нет, не сожжет, – сказала она. – А если и сожжет, напишет еще. Посади его в тюрьму, он будет писать на туалетной бумаге. Выйдет из тюрьмы – на полях газет. Он и сейчас сидит за столом. Писатель он замечательный, и я не могу просить его не писать, но мне надо решить: готова ли я прожить так всю оставшуюся жизнь?
Ирина, привлекательная, с красивыми ногами, в перепачканной юбке и порванной блузке, погрузилась в молчание. Я оставил ее на каменной скамье, со скомканным платком в руке.
В тот вечер, второго июля – из Советского Союза мне предстояло уехать пятого, – я очень серьезно усомнился в себе. Если я трус, почему это обнаружилось лишь сейчас? Где кончается опасливость и начинается трусость? Чувства – штука разнородная, что да, то да, но не все трусы – люди опасливые и не все опасливые люди – трусы. Многие «сверхчувствительные» (Розино определение) субъекты, нервные, даже пугливые, в страхе делают то, что должно, и, когда надо идти в бой или спрыгнуть с крыши в реку, страх побуждает их собраться с силами. В жизни наступает такое время, когда для того, чтобы попасть туда, куда необходимо, человек, если перед ним стена, а в ней нет ни окон, ни дверей, проходит сквозь стену.
С другой стороны, предположим: ты, очертя голову, храбро берешься за безнадежное дело, но не затмевает ли храбрость здравый смысл? Я бился над этим вопросом, все пытался докопаться, как же так: предположим, в конце концов я решусь вывезти рукопись Левитанского, сочту, что поступаю разумно, да и рукопись того стоит, хотя я – и вполне резонно – сомневаюсь: а есть ли в этой акции в конечном счете смысл? Допустим – сейчас я это допускаю, – Левитанскому можно доверять, его жене – еще больше, тем не менее оправдан ли такой риск, учитывая, что я за человек?
Если шести тысячам советских писателей не под силу добиться ни капли свободы творчества, кто я такой, Говард Гарвитц, поборник свободного журнализма из Манхэттена, чтобы вести их бои? Как далеко можно зайти, если ты считаешь, что все, включая коммунистов, рождены свободными, равными и закон для всех один? Как далеко можно зайти, если ты держишь сторону Йейтса, Матисса и Людвига ван Бетховена? Не говоря уж о Толстом и Достоевском. Настолько далеко, чтобы вполне осознанно ввязаться, и в качестве кого – Г.Г., службы вывоза рукописей? И поблагодарят ли меня президент и Государственный департамент за участие в деле установления социальной справедливости в творчестве? А вдруг окажется, что я всего-навсего поступил оплошно? Ну провезу я тайком рукопись Левитанского, и в результате выйдет еще одна книга более или менее сносных рассказов, что я этим докажу?
Мне уже случалось вести такие споры с самим собой, однако вскоре я додискутировался до того, что уже не мог ни на что решиться. И вот что осталось в сухом остатке: Левитанский рассчитывает на мою помощь, потому что я американец. Что это, как не наглость?
Два вечера спустя – до чего же непривычно четвертого июля не праздновать Четвертое июля (я все ждал, когда в небо взлетят фейерверки) – в тихий светло-палевый летний вечер в Москве, после того как два дня кряду меня точила тревога, я, хоть и продолжал писать о музеях, потащился, чтобы рассеяться, в Большой – послушать «Тоску». Пышногрудая дама и красивый славянской внешности тенор пели по-русски, однако итальянский сюжет был оставлен в неприкосновенности, и в финале Скарпиа вместо холостого выстрела выпустил в тенора заряд свинца, тенор упал, а Флория Тоска ценой жизни узнала, что любовь не совсем то, что ей представлялось.
Рядом со мной сидела опять же пышногрудая русская дама лет тридцати, в белом, облегающем ее крупные формы платье, со взбитой, похожей на птичье гнездо прической на красивой посадки голове. В ней просматривалось кое-какое сходство с Лиллиан, но не с Розой. Эта дама – она, как выяснилось, пришла в театр одна – прекрасно говорила по-английски, в ее меццо-сопрано слышался лишь призвук акцента.
В первом антракте она приветливо осведомилась, одновременно отстраненно и – как только ей это удалось – заинтересованно:
– Вы американец? А может быть, швед?
– Нет, не швед. Американец. Как вы догадались?
– Я заметила – вы не обидитесь, если я скажу, – и она очаровательно рассмеялась, – что заметила в вас некоторое самодовольство.
– Вот уж не по адресу.
Она открыла сумку, и на меня пахнуло ароматами весны – свежих цветов, в ноздри мне ударило тепло ее тела. На меня нахлынули воспоминания голодной юности – мечты, томление.
В антракте она дотронулась до моей руки и, понизив голос, сказала:
– Могу я попросить вас об одолжении? Вы скоро уедете из Советского Союза?
– Вообще-то завтра.
– Какая удача! Вас не затруднит отправить авиапочтой из любого города, куда бы вы ни поехали, письмо моему мужу – он сейчас в Париже? От нас письма на Запад, даже отправленные авиапочтой, идут две недели. Я буду очень вам признательна.
Я посмотрел на конверт – адрес на нем был написан наполовину по-французски, наполовину на кириллице – и сказал, что согласен. Однако весь следующий акт я обливался потом, а к концу оперы после того, как Тоска испустила предсмертный крик, я, извинившись, вернул письмо, чему дама не слишком удивилась. Меня не оставляло ощущение, что ее голос мне знаком. Я поспешил в гостиницу с намерением до самого отъезда не выходить из номера никуда, кроме как на завтрак, ну а там – прочь и ввысь, в небеса.
И позже заснул над книгой и бутылкой сладковатого теплого пива, которое принесли в номер: прикидывался перед самим собой, что совершенно спокоен, хотя на самом деле меня будоражили мысли об отъезде, о перелете; три минуты спустя по часам я проснулся, и мне показалось, что меня – мало мне было старых – стали мучить новые кошмары. Я вообразил, что мне могли подбросить письмо, запаниковал и обыскал карманы двух моих костюмов. Ньет. Потом вспомнил один из снов: я сижу за столом, вдруг ящик стола мало-помалу отодвигается и Феликс Левитанский, гном, делящий ящик с теплой компанией мышей, умудряется по расческе, как по лестнице, взобраться на стенку ящика и оттуда перескочить на стол. Ухмыляясь, потрясая лилипутским кулачком, он верещит по-русски, но я понимаю его:
– Атомный бомбометатель! Погубитель невинных японцев! Позор американцам!
– Несправедливо, – завопил я. – В то время я еще учился в колледже.
Грустный сон, подумал я.
Дальше мысль моя повернулась так: что, если меня ждет судьба Левитанского? Что, если Америка почти помимо воли сдуру ввяжется в войну с Китаем и, чтобы поскорее положить конец войне, мы, прежде чем китайцы опомнятся, разнесем их в пух и прах, бросив на них – как я ни буду протестовать, то есть размахивать руками и ругательски ругаться, – несколько десятков водородных бомб; двести миллионов азиатов погибнут, атомный супчик получится лучше не надо – моря крови, горы хрящей, костей, а поверху плавают китайские зенки. Советы так и не смогут решить, на кого направить ракеты в первую очередь, поэтому войну выиграем мы. И что, если после этой неслыханной бойни миллионов десять американцев, снедаемых отвращением к себе, вздумают бежать из своей страны и кинутся к границе? Чтобы избежать утечки капитала, навстречу беглецам двинут танки и вернут их восвояси. А Гарвитц затаится у себя в комнате, задернет шторы и вне себя от гнева настрочит эпическую поэму, где заклеймит Америку. Чья очередь дальше, какой нации – азиатской, не азиатской? В Штатах его поэму никто опубликовать не захочет, потому что она может вызвать беспорядки и новый поток беженцев в Канаду или Мексику; ну а потом однажды к нему в дверь постучат, и постучит не ФБР, а обросший бородой Левитанский, советский турист, современный, а не заскорузлый коммунист. Он дружески предложит переправить тайком мою поэму в Советский Союз, с тем чтобы ее опубликовали там.
– Почему вдруг? – подозрительно спросит Гарвитц.
– А почему бы и нет? Пусть книга выйдет на свободу.
Я проснулся, спал я плохо. Согласно инструкции «Интуриста», мне надлежало в одиннадцать утра за два часа до отлета явиться в вестибюль с багажом. К шести я уже побрился и оделся, в семь позавтракал – я успел проголодаться – простоквашей, сосисками и яичницей в буфете двенадцатого этажа. И вышел искать такси. В эту пору поймать такси не так-то легко, но в конце концов я все-таки остановил такси у американского посольства, неподалеку от гостиницы. Перемежая – таков мой обычай – примитивный немецкий с элементарным французским, я уговорил шофера, для начала предложив, а потом и всучив ему два рубля, отвезти меня к Левитанскому и подождать у его дома минут десять. Взбежав опрометью по лестнице, я постучал в дверь, мне открыл Левитанский, в пижамных штанах, с закаменелым лицом, я извинился, что разбудил его так рано. Спросил, хотя в душе моей была смута, а в мыслях разброд, по-прежнему ли он хочет, чтобы я переправил его рассказы. Он захлопнул дверь перед моим носом – вот и старайся помочь людям.
Полчаса спустя – к этому времени я уже запаковал вещи и запирал чемодан – в дверь постучали, точнее, не постучали, а поскреблись. За чемоданом пришли, решил я. На пороге – я на миг даже потерял дар речи – стоял шибздик, в толстой не по сезону кепке и длинном плаще. Он подмигнул, и я волей-неволей подмигнул ему. Это был шурин Левитанского, Дмитрий, таксист. Он просочился в номер, расстегнул плащ и вынул упакованную рукопись. Приложил палец к губам, вручил мне пакет – я даже не успел сказать, что не хочу больше иметь к ним никакого касательства.
– Левитанский передумал?
– Да нет же, – прошептал он. – Он боялся, что вас слышит Ковалевский.
– Извините, мне это не пришло в голову.
– Левитанский сказал, что писать ему не надо, – еле слышно сказал шурин. – Когда опубликуете книгу, пошлите ему экземпляр «Das Kapital»[37]37
«Капитал» (нем.) Карла Маркса.
[Закрыть]. И он все поймет.
Что мне оставалось – только согласиться.
Шурин, рыхлый недомерок с грустными глазами, еще раз подмигнул, сунул мне потную руку и выскользнул из комнаты.
Я отпер чемодан, положил рукопись поверх рубашек. Затем вынул половину вещей и поместил рукопись в папку с моими заметками о музеях и письмами Лиллиан. И, не сходя с места, решил: если благополучно вернусь в США, тут же, как только увижу Лиллиан, попрошу ее выйти за меня. В номере, когда я выходил из него, трезвонил телефон.
По дороге в аэропорт, ехал я туда один, без интуристки, меня то и дело подташнивало. Если причиной тому не сосиски с простоквашей, тогда – просто-напросто страх. И все же, раз у Левитанского достало смелости переправить свои рассказы, самое меньшее, что я могу сделать – это подать ему руку помощи. Если вдуматься, как мало мы делаем за жизнь для свободы человечества. Добыть бы в аэропорту бром или его русский заменитель, и мне наверняка станет легче.
Шофер, неприветливый человек с лицом ученого, следил за мной в зеркале, с невозмутимым видом курил.
– Le jour fait beau[38]38
Хорошая погода (фр.).
[Закрыть] – сказал я.
Он поднял палец, показал на английский плакат на обочине дороги, ведущей в аэропорт:
– Long live peace in the world![39]39
Да здравствует мир во всем мире! (англ.)
[Закрыть]
– Мир и свобода. – Я улыбнулся при мысли, что не Говард Гарвитц, а кто-то другой выводит эти слова красной краской на советском плакате.
Мы поехали дальше, я все пытался предугадать, как пройдет мой отъезд из Советского Союза. Время от времени я осторожно наводил справки на этот счет, и ленинградская интуристка сказала, что, во-первых, предъявляешь документы паспортному контролю и отдаешь оставшиеся рубли: увезти хоть один рубль – серьезная провинность; затем сдаешь багаж; багаж не досматривается – уверяла она. И все дела. Разумеется, если только на паспортном контроле, отыскав мое имя в списке, не скажут, что я должен пройти на таможню – взять пакет. В этом случае – если такого предложения не последует, сам я о своих книгах напоминать не стану – мне надо будет сходить за книгами. Пакет я разворачивать не стану, лишь надорву уголок обертки, чтобы удостовериться, мои ли это книги, суну их под мышку – и был таков.
Мне говорили, что пассажиров, когда они поднимаются в самолет, на трапе встречает кагэбэшник. Просит предъявить паспорт, сверлит, сверяясь с фотографией, взглядом сквозь темные окуляры и, если наличествует хоть маломальское сходство, вырывает из паспорта листок с истекшей визой, сует его в карман и пропускает в самолет.
Десять минут – и ты в небе, команда пристегнуть пояса повторена на трех языках, и вот уже самолет, кренясь, устремляется на запад. Возможно, если вглядеться попристальней, я бы увидел, как далеко вдали мне машет с крыши привязанными к шесту красно-бело-синими носками Левитанский. Затем самолет выравнивается – и мы уже над облаками, летим на запад. И будем лететь часов пять-шесть кряду, если только летчик не получит радиограмму с приказом повернуть назад или сесть не то в Чехословакии, не то в Восточной Германии, а там на борт поднимутся два агента в огромных шапках. Напрягая воображение, я представлял, как они арестуют другого пассажира, не меня. Снова поднимал самолет в воздух, и мы, беспрепятственно долетев до Лондона, приземлялись на свободной земле.
Такси приближалось к московскому аэропорту, и я, сжимая одной рукой билет, другой ручку чемодана, желал себе быть таким же храбрым, как Левитанский, когда обнаружится, кто написал рассказы, которые мне удастся опубликовать, и начнется суд над ним и его злоключения.
* * *
Первый рассказ Левитанского, переведенный его женой Ириной Филипповной, повествовал о старике, вдовце семидесяти восьми лет, старик этот спал и видел, как бы раздобыть на Песах мацы.