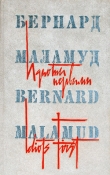Текст книги "Бенефис"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Здесь теперь все по-другому
Пер. В. Пророкова
Как-то поздним теплым июльским вечером, через неделю после того, как Уолли Маллейна выпустили из больницы на Уэлфэр-Айленд, он бродил по району, где жил когда-то, в поисках ночлега. Сначала он проверил магазины на главной улице, но они все, даже кондитерская на углу, оказались закрыты. Входные двери были заперты, на дверях подвалов висели замки. Он заглянул в витрину парикмахерской и пожалел, что пришел слишком поздно, потому что мистер Давидо обязательно разрешил бы ему переночевать в одном из кресел в зале.
Он прошел мимо магазинов на главной улице еще квартал и повернул на Третью улицу, застроенную рядами каркасных домов. Где-то посередине он перешел на противоположную сторону и свернул в проулок между двумя старомодными каркасными домиками. Он проверил гаражные ворота, но и они были заперты. Выйдя из проулка, он заметил автомобиль с белым верхом, медленно ехавший с притушенными фарами по улице – вдоль самого тротуара, в тени деревьев. Нырнув обратно в проулок, он спрятался во дворе под деревом и с тревогой ждал, пока полицейская машина проедет дальше. Остановись она, он бы убежал. Добрался бы, перелезая через заборы, до двора матери на Четвертой улице, только очень уж ему этого не хотелось. Машина проехала мимо. Через пять минут Уолли тихонько вышел из проулка и быстро пошел по улице. Он хотел проверить подвалы домов, но боялся, что хозяева проснутся, примут его за вора. Вызовут полицию, и – вечное его везенье – за рулем одной из патрульных машин окажется его братец Джимми.
Всю ночь Уолли рыскал по округе – по Четвертой, потом по Пятой улице, потом парком от кладбища до железнодорожной ветки, проходившей параллельно проспекту в квартале от него. Ему пришло в голову заночевать в павильоне одной из станций БМТ[13]13
БМТ – линия метро «Бруклин – Манхэттен».
[Закрыть], но пятицентовика у него не было, так что это отпадает. Угольный склад у железнодорожного тупика – тоже: там дежурил сторож. В пять часов, устав шляться, он снова свернул на Четвертую улицу и встал под деревом напротив дома матери. Хотелось забраться в подвал и поспать там, но он вспомнил о Джимми и о своей сестре Агнессе и подумал: а ну их к черту.
Уолли медленно побрел по главной улице к станции надземки и, стоя на углу, смотрел, как рассветает. Серый свет разливался по утреннему небу, и по тихим улицам ползли теплые рассеивающиеся тени. На Уолли накатила тоска. Все с виду вроде такое же, но только с виду. Он подумал о приятелях, которые уже умерли, о Винсенте Давидо, сыне парикмахера, исчезнувшем еще до войны. О том, что сам он уже сколько лет не переступал порог родного дома, и ему захотелось плакать.
Перед кулинарией стояла пустая коробка из-под молока. Уолли протащил ее по тротуару и, прислонив к опоре станции надземки, привалился к ней спиной. Он устал, но засыпать не хотел: скоро на станцию потянется народ, вдруг он увидит кого знакомого. Что, если встретить двоих-троих знакомых, подумал он, как знать, вдруг они дадут центов пятьдесят, этого хватит на пиво и яичницу с ветчиной.
Перед самым восходом солнца Уолли заснул. Люди покупали на лотке газеты и перед тем, как подняться по лестнице на станцию, замечали его. Помнили его немногие. Толстяк в сером костюме остановился на углу и с отвращением наблюдал, как Уолли спит, – он его узнал. Уолли сидел, придавив своей тушей картонную коробку, прислонив голову к опоре и открыв рот. Соломенные волосы были зачесаны назад. Лицо красное и чумазое, отвислые небритые щеки. На нем были лоснившийся от грязи коричневый костюм, черные ботинки, давно не стиранная рубашка с замызганным коричневым галстуком.
– Этот сукин сын не просыхает, – сказал толстяк человеку, вышедшему из кондитерской, чтобы собрать монеты с газетного лотка.
Хозяин магазина кивнул.
В восемь часов поливальная машина, свернувшая со Второй улицы, с шумом покатила по проспекту к надземке, извергая из своего металлического брюха две веерообразных струи воды. Вода пенилась на раскаленном асфальте, и в воздух поднимались столбы водяной пыли. Когда машина стала разворачиваться у станции надземки, вода холодной росой осела на потном лице Уолли, и он проснулся. Судорожно огляделся по сторонам, понял, что это не Джимми, и страх отступил.
День выдался влажный и изнурительно жаркий, и у Уолли разболелась голова. В животе урчало, во рту стоял кислый привкус. Ему хотелось есть, но в кармане не было ни цента.
Мимо него шли на работу люди, Уолли вглядывался в них, но тех, кого знал, не увидел. Просить деньги у незнакомцев он не любил. Когда человека знаешь – дело другое. Он заглянул в витрину кондитерской там были часы – и, увидев, что уже восемь двадцать пять, расстроился. Из опыта Уолли знал, что лучшие шансы он уже упустил. Те, кто работают на фабриках и в магазинах, прошли рано утром, конторские служащие – их служба начиналась часом позже – тоже. Оставались только случайные прохожие да домохозяйки, отправлявшиеся за покупками. У них много не получишь. Уолли решил, что еще подождет и, если вскорости никто не подвернется, пойдет в овощную лавку, спросит там, нет ли у них каких-нибудь фруктов на выброс.
В половине девятого мистер Давидо, живший в квартире над кулинарией, вышел из дому и пошел открывать свою парикмахерскую на другой стороне улицы. Увидев стоящего на углу Уолли, он был потрясен. Как странно, подумал он, если видишь то, что вроде бы было здесь всегда, кажется, все снова как прежде.
Парикмахер был маленький, смуглый лет под шестьдесят. Его курчавые волосы поседели, он носил старомодное пенсне на черном шнурке. Руки у него были короткие и крепкие, с толстыми пальцами, но он очень ловко ими орудовал. Клиенты знали, как споро работают эти короткие пальцы, когда ты торопишься. Если спешки не было, мистер Давидо работал медленно. Иногда он стриг кого-нибудь, и клиент, взглянув в зеркало, вдруг замечал, что парикмахер отрешенно смотрит в окно, губы его сжаты, а в глазах – тихая грусть. Минуту спустя он вскидывал брови, вновь принимался за стрижку, и его короткие толстые пальцы, чтобы нагнать время, порхали с удвоенной быстротой.
– Эй, Уолли! – воскликнул он. – Ты где прятался? Давненько ты здесь не показывался.
– Я болел, – ответил Уолли. – В больнице лежал.
– Небось так и травишь себя виски?
– Да нельзя мне больше пить. Диабет у меня. Взяли анализ крови, говорят, диабет.
Мистер Давидо сокрушенно покачал головой.
– Ты уж себя береги, – сказал он.
– Мне туго пришлось. Едва гангрену не заработал. С гангреной ноги вообще ампутируют.
– Как же так случилось, Уолли?
– Да это все с тех пор, как меня мой братец Джимми отдубасил. У меня ноги и распухли. Врач сказал, чудо, что гангрена не началась.
Говоря это, Уолли смотрел на улицу. Парикмахер поймал его взгляд.
– Ты уж лучше держись от брата подальше.
– Я начеку.
– И здесь, Уолли, постарайся не показываться. Брат же сказал тебе, что ему не нравится, когда ты здесь крутишься. Нынче, Уолли, всякой работы полно. Нашел бы себе что-нибудь, комнату бы снял.
– Да, я как раз собираюсь куда-нибудь пристроиться.
– Каждый день надо искать, – сказал парикмахер.
– Буду, – ответил Уолли.
– Ты не откладывай. Сходи в бюро по трудоустройству.
– Пойду, – сказал Уолли. – Только сначала мне надо кое с кем встретиться. Столько появилось незнакомых. Здесь теперь все по-другому.
– Это да, – согласился парикмахер. – Холостых парней почти не осталось. Это я по парикмахерской замечаю. Женатые, в отличие от холостых, бриться не ходят, только стричься. Они себе электробритвы покупают. А одинокие – те молодчаги!
– Сдается мне, тут все либо умерли, либо переженились, – сказал Уолли.
– Ушли на войну, кое-кто не вернулся, а многие переехали.
– От Винсента ничего не слышно? – спросил Уолли.
– Ничего.
– Я подумал, дай-ка спрошу.
– Ничего, – повторил парикмахер. Они помолчали с минуту, и он сказал: – Ты заходи попозже, Уолли. Я тебя побрею.
– Когда?
– Попозже.
Уолли проводил взглядом мистера Давидо, который пересек улицу и, миновав аптеку и прачечную, остановился перед парикмахерской. Прежде чем зайти внутрь, он достал из кармана жилета ключ и завел крутящуюся вывеску. Столбик, раскрашенный красными, белыми и синими спиралями, завертелся.
Мимо прошли мужчина с женщиной, и Уолли показалось, что мужчина знакомый, но тот прошел, опустив глаза, мимо, и Уолли посмотрел ему вслед с презрением.
Ему надоело глазеть на прохожих, и он побрел к газетному лотку – почитать заголовки. Мистер Марголис, хозяин кондитерской, вышел и забрал мелочь.
– Вы что, думаете, я ваши вонючие гроши стащу? – обиделся Уолли.
– Позволь уж мне перед тобой не отчитываться – сказал мистер Марголис.
– И какого черта я только ходил в твою забегаловку!
Мистер Марголис побагровел.
– А ну, смутьян, убирайся отсюда! Давай уматывай! – заорал он, маша руками.
– Вот психованный!
Чья-то тяжелая рука схватила Уолли за плечо и развернула. На мгновение у него от ужаса потемнело в глазах, ноги подкосились, но, увидев, что это его старшая сестра Агнесса, а рядом – мать, он приосанился – будто это не он перепугался.
– Ты что тут вытворяешь, пьянь паршивая? – Голос у Агнессы был зычный.
– Ничего я не делал.
Мистер Марголис видел, как менялся в лице Уолли.
– Ничего он не делал, – сказал он. – Просто лоток загораживал – людям не подойти. – И он удалился к себе в магазинчик.
– Сказали же тебе – держись подальше, – проскрипела Агнесса. Она была высокая, рыжая, могучая. Широченные плечи, огромные груди, распиравшие желтое платье.
– Да я просто тут стоял.
– Агнесса, кто это? – спросила мать, прищурившись сквозь толстые стекла очков.
– Это Уоллес, – с отвращением сказала Агнесса.
– Мам, привет! – сказал Уолли тихо.
– Где ты пропадал, Уоллес?
Миссис Маллейн была полная женщина, огромный живот, сутулая спина. Сквозь редкие седые волосы, забранные двумя янтарного цвета гребнями, просвечивала розовая кожа. Она подслеповато моргала – это было видно даже сквозь очки – и крепко держалась за локоть дочери, боясь нечаянно на что-нибудь наткнуться.
– Я, мама, в больнице был. Меня Джимми избил.
– И поделом тебе, алкаш проклятый! – сказала Агнесса. – Сам во всем виноват. Джимми столько раз тебе деньги давал, чтобы ты пошел в бюро, нашел работу, а ты их тут же пропивал.
– Депрессия ж была. Не мог я найти работу.
– Хочешь сказать – тебя никто брать не хотел после того, как ты монеты из автоматов на скачках просадил и тебя из БМТ выперли?
– Да заткнись ты!
– Ты позоришь и мать, и всю семью. Хоть бы совесть поимел – держался бы отсюда подальше. Достаточно мы из-за тебя натерпелись.
Уолли сменил тон:
– Я болен. Доктор сказал, у меня диабет.
Агнесса промолчала.
– Уоллес, – спросила мать, – ты мылся?
– Нет, мам.
– Обязательно надо помыться.
– Негде мне.
Агнесса схватила мать под руку:
– Я веду твою мать в глазную больницу.
– Погоди, Агнесса. – Миссис Маллейн рассердилась. – Уоллес, на тебе чистая рубашка?
– Нет, мам.
– Зайди домой переоденься.
– Джимми ему ребра переломает.
– Ему нужна чистая рубашка, – не отступала миссис Маллейн.
– У меня лежит одна в прачечной, – сказал Уолли.
– Так забери ее, Уоллес.
– Денег нету.
– Мам, не давай ему никаких денег. Он все равно их пропьет.
– Ему обязательно нужна чистая рубашка.
Она открыла портмоне и стала рыться в отделении для мелочи.
– На рубашку нужно двадцать центов, – сказала Агнесса.
Миссис Маллейн разглядывала монетку:
– Агнесса, это сколько центов? Десять?
– Нет, это цент. Давай я найду. – Агнесса вытащила две монетки по десять центов и бросила в протянутую руку Уоллеса. – Держи, лодырь.
Он пропустил это мимо ушей.
– А на еду хоть немножко, а, мам?
– Нет, – сказала Агнесса, подхватила мать под локоть и повела дальше.
– Рубашку смени, Уоллес, – крикнула мать, поднимаясь по лестнице в надземку. Уолли смотрел, как они поднимались наверх, как вошли в станцию.
Его мучила слабость, ноги подкашивались. Наверное, от голода, подумал он и решил купить на двадцать центов соленых крендельков и пива. Попозже он выпросит в овощной лавке каких-нибудь подгнивших фруктов и попросит у мистера Давидо хлеба. Уолли пошел под мост, к таверне Маккаферти, неподалеку от железнодорожного тупика.
Открыв раздвижную дверь, он заглянул в бар и обмер от страха. В глубине бара стоял его брат Джимми в форме и пил пиво. Сердце у Уолли, пока он закрывал дверь, колотилось как бешеное. Ручка выскользнула из его ладони, и дверь хлопнула. Все, кто был в баре, взглянули на вход, и Джимми успел заметить Уолли.
– Бог ты мой!
Уолли уже бежал. Он слышал, как загрохотала дверь, и понял, что Джимми помчался за ним. И как он ни напрягался, большое дряблое тело не слушалось, но шаги Джимми неумолимо приближались. Уолли мчал по улице, через железнодорожные пути, на угольный склад. Пробежал мимо людей, грузивших в вагонетку уголь, пронесся по усыпанному гравием двору, брат не отставал. Легкие у Уолли, того и гляди, разорвутся. Он хотел спрятаться в угольном сарае, но там его нашли бы обязательно. Судорожно оглядевшись по сторонам, он помчался к куче угля у забора и полез по ней. Джимми его почти настиг, но Уолли сбросил уголь Джимми прямо на грудь, на лицо. Он оступился, выругался, но, выхватив дубинку, полез снова. Забравшись на верх кучи, Уолли перелез через забор и тяжело рухнул вниз. Ноги у него дрожали, но страх гнал дальше. Перебежав через двор, он неуклюже перепрыгнул через низкий штакетник и выбил плечом покосившуюся дверь подвала. Уголком глаза он видел, как Джимми перелезает через забор угольного склада. Уолли хотел попасть на задний двор кулинарии – оттуда через подвал он мог выйти на главную улицу. Мистер Давидо наверняка даст ему спрятаться в туалете парикмахерской.
Уолли помчался прямо через клумбу в соседний двор, забрался на забор. Потные ладони скользили, и он перевалился через забор, отворот штанины застрял на штакетине. Руки его были в рыхлой земле, брючина зацепилась за забор. Он вертел ногой во все стороны, дергал изо всех сил. Штанина порвалась, и он полетел на клумбу. Он вскочил на ноги, но и шагу не успел сделать, как Джимми перелез через забор и схватил его. Уолли повалился на землю, дух у него зашелся, и он завыл.
– Сволочь! Ублюдок! – орал Джимми. – Я тебе шею сверну!
Он обрушил свою дубинку на ноги Уолли. Уолли взвизгнул и попытался увернуться, но Джимми схватил его и принялся лупить по заду и ляжкам. Уолли пробовал прикрыть ноги руками, но Джимми бил все сильнее.
– Не надо! Не надо! – кричал Уолли, извиваясь под дубинкой брата. – Джимми, прошу тебя! Ноги! Не бей по ногам!
– Паскуда!
– Ноги мои, ноги! – вопил Уолли. – У меня ж гангрена начнется! Ой, ноги мои!
Все тело разрывала боль. Его мутило.
– Ноги мои… – стонал он.
Джимми наконец его отпустил. Утер лицо от пота и сказал:
– Говорил я тебе, держись подальше. Еще раз здесь увижу – убью.
Подняв голову, Уолли увидел двух перепуганных женщин, наблюдавших за ними из окна. Джимми отряхнул мундир и направился к подвальной двери. Открыл ее, спустился вниз.
Уолли так и остался лежать среди помятых цветов.
– А почему полицейский его не арестовал? – спросила миссис Вернер, жена хозяина кулинарии.
– Это его брат, – объяснила миссис Марголис.
Он лежал на животе, раскинув руки, прижавшись щекой к земле. Из носа сочилась кровь, но он был так измотан, что даже не мог шевельнуться. По телу струился пот, спина куртки уже потемнела от влаги. Он даже думать не мог, потом тошнота отступила, и в голове заворочались ошметки мыслей. Он вспомнил, как они с Джимми детьми играли на угольном складе. Мальчишки с Четвертой улицы скатывались зимой с железнодорожного вала по снегу. Он вдруг увидел, как стоит тихим летним вечером у кондитерской, на нем рубашка с закатанными рукавами, он курит, болтает с Винсентом и другими парнями – о женщинах, о том, как славно погуляли, о бейсболе; они ждут вечерних газет. Он думал о Винсенте, вспомнил день, когда тот ушел. Это было во времена Депрессии, безработные стояли кучками на углу, курили, жевали жвачку, заигрывали с проходящими мимо девушками. Винсент, как и Уолли, перестал ходить в бюро по трудоустройству, торчал на углу вместе со всеми, курил, сплевывал на тротуар. Прошла девушка, Винсент что-то сказал, и все загоготали. Мистер Давидо видел это из окна парикмахерской. Он отшвырнул ножницы и, оставив клиента в кресле, вышел. Лицо его налилось кровью. Он схватил Винсента за руку и со всей силы ударил по лицу. «Мерзавец, – заорал он, – почему ты работу не ищешь?» Лицо у Винсента посерело. Он не сказал ни слова, просто ушел, и больше его не видели. Вот как все было.
Миссис Марголис сказала:
– Он давно уже лежит. А вдруг умер?
– Нет, – сказала миссис Вернер. – Он только что шевелился.
Уолли с трудом поднялся и, пошатываясь, спустился в подвал. Держась за стену, он вышел на улицу перед кулинарией. Уолли пошарил по карманам в поисках двадцати центов, которые дала ему мать, но не нашел их. Тошнота вернулась, ему хотелось сесть и отдохнуть. Он перешел улицу и побрел к парикмахерской.
Мистер Давидо стоял у окна, точил о кремень опасную бритву. Когда он утром увидел Уолли, на него нахлынули воспоминания, и теперь он думал о Винсенте. Водя бритвой по заляпанному мылом куску кремня, он взглянул в окно и увидел тащившегося через улицу Уолли. Штаны у него были все в грязи, рваные, лицо в крови. Уолли приоткрыл дверь, но мистер Давидо сказал резко:
– Убирайся отсюда! Ты пьян!
– Честно – нет, – ответил Уолли. – Ни капли.
– А что ж у тебя вид такой?
– Джимми меня поймал, чуть не убил. Ноги, наверное, сплошь в синяках. – Уолли опустился на стул.
– Сочувствую.
Мистер Давидо дал ему воды, Уолли с трудом сделал глоток.
– Садись в кресло, Уолли, – предложил парикмахер. – Я тебя побрею, ты отдохнешь, в себя придешь.
Он помог Уолли забраться в кресло и опустил его так, что Уолли почти что лежал. Парикмахер обернул ему лицо горячим полотенцем и стал намыливать подбородок. Щетина была жесткая – видно, Уолли не брился по крайней мере неделю. Мистер Давидо своими ловкими короткими пальцами втирал и втирал пену.
Посмотрев в зеркало, парикмахер подумал, как изменился Уолли. Он вспомнил былые времена, глаза его снова затуманились, он отвернулся и уставился в окно. Думал о своем сыне Винсенте. Вот было бы здорово, если бы и Винсент вернулся домой, он бы тогда прижал его к груди, поцеловал…
Уолли тоже думал о былых временах. Он вспомнил, как в субботу вечером, перед тем как выйти из дому, смотрелся в зеркало. Тогда у него были пшеничные усы и зеленая шляпа. Он вспомнил свои роскошные костюмы, белую гвоздику в петлице, дорогие сигары.
Он открыл глаза.
– Знаете, – сказал он, – а здесь теперь все по-другому.
– Да, – ответил парикмахер, не отводя взгляда от окна.
Уолли закрыл глаза.
Мистер Давидо посмотрел на него. Уолли дышал чуть слышно. Губы у него были плотно сжаты, по щекам катились слезы. Парикмахер намылил щеки повыше, и пена смешалась со слезами.
Жизнь Лавана Гольдмана в литературе
Пер. Л. Беспалова
Когда Лаван Гольдман поднимался по лестнице, повторяя в который раз доводы, почему ему сегодня вечером надо не вести жену в кино, а идти в вечернюю школу, он встретил соседку из квартиры на той же площадке, миссис Кемпбелл.
– Миссис Кемпбелл, смотрите. – Лаван протянул ей газету. – Еще одно! На этот раз в «Бруклин игл».
– Еще одно письмо? – сказала миссис Кемпбелл. – И как только это у вас получается?
– Им нравится, как я излагаю свои соображения на тему развода. – И он показал, где напечатано письмо.
– Прочту его позже, – сказала миссис Кемпбелл. – Джо покупает «Игл» по дороге домой. Он вырезает ваши письма. А то письмо, где о терпимости, показывал буквально всем. И все говорили, что чувства там прямо-таки замечательные.
– Это вы о письме в «Нью-Йорк таймс»? – Лаван просиял.
– Да, чувства в нем просто-таки замечательные, – сказала миссис Кемпбелл, продолжая спускаться вниз. – Что бы вам взять да и написать книгу?
Радость с горечью пополам была так сильна, что Лавана Гольдмана проняла дрожь.
– Всем сердцем желал бы, чтобы ваша надежда нашла осуществление, – крикнул он вслед соседке.
– Почему бы и нет, – сказала миссис Кемпбелл.
Лаван открыл дверь квартиры, прошел в коридор. Встреча с миссис Кемпбелл внушила ему уверенность. Он чувствовал, что она придаст красноречия его доводам. Вешая в коридоре шляпу и пальто, он услышал, как жена говорит по телефону.
– Лаван! – окликнула она его.
– Да, – сказал он нарочито холодно.
Эмма вышла в коридор. Малорослая, крепко сбитая.
– Сильвия звонит, – сказала она.
Он протянул ей газету.
– Мое письмо опубликовали, – с ходу сказал он. – Следовательно, сегодня мне придется пойти в школу.
Эмма стиснула руки, прижала их к груди.
– Лаван, – она повысила голос, – ты же обещал.
– Пойдем завтра.
– Нет, сегодня.
– Завтра.
– Лаван, – взвизгнула она.
Он не отступался.
– Это не принципиально, – сказал он. – Завтра идет та же картина.
Эмма метнулась к телефону.
– Сильвия, – кричала она, – ну как тебе это нравится, теперь он не идет в кино.
Лаван попытался было нырнуть в свою комнату, но жена оказалась проворнее.
– К телефону, – сухо объявила она.
Лаван нехотя поволокся к телефону.
– Папа, – сказала Сильвия, – ты же обещал маме пойти с ней в кино, а сейчас отказываешься, почему?
– Сильвия, послушай меня хоть минуту и не перебивай. Я не отказываюсь от своего обещания. Я только хочу отложить или отсрочить его до завтра, а она делает из этого проблему.
– Ты обещал сегодня, – вскинулась Эмма: она стояла рядом, слушала.
– Прошу тебя, – сказал Лаван. – Веди себя прилично: воздержись говорить со мной, когда я говорю не с тобой.
– Ты говоришь с моей дочерью, – величественно ответствовала Эмма.
– Мне абсолютно и предельно ясно, что твоя дочь – это твоя дочь.
– Умные слова, ты без них не можешь, – ехидничала Эмма.
– Папа, не ссорься, – доносился из трубки голос Сильвии. – Ты обещал сегодня повести маму в кино.
– Однако обстоятельства складываются так, что мне необходимо присутствовать в школе. «Бруклин игл» напечатал мое письмо по одному насущному вопросу, а мистер Тауб, мой преподаватель английского, любит обсуждать мои письма на занятиях.
– И что – письмо нельзя обсудить завтра?
– Сегодня это проблема актуальная и животрепещущая. Завтра сегодняшняя газета будет вчерашней.
– И о чем это твое письмо?
– О социологической проблеме большой значимости. Ты его прочтешь.
– Папа, так продолжаться не может, – оборвала его Сильвия. – У меня на руках двое малышей. Я не могу каждый второй вечер водить маму в кино. Это должен делать ты.
– У меня нет выхода.
– Папа, что это значит?
– Что образование для меня важно в первую очередь.
– Какая разница, отдавать образованию пять вечеров в неделю или четыре?
– Твои доводы не выдерживают критики с математической точки зрения, – сказал он.
– Папа, ты же умный человек. Почему бы тебе раз в неделю, ну хотя бы по средам, не оставаться дома и не водить маму, скажем, в кино.
– Для меня кино не имеет такой цены.
– Ты хочешь сказать, что твоя жена не имеет для тебя такой цены, вот что это значит, – снова вмешалась в разговор Эмма.
– Я не с тобой разговариваю, – сказал Лаван.
– Прошу вас, не ссорьтесь, – сказала Сильвия. – Папа, подумай о маме.
– Я даже слишком много о ней думал, – сказал Лаван. – Вот почему мои достижения в жизни до сегодняшнего дня так невелики. Настала пора подумать и о себе.
– Я не хочу продолжать этот спор, папа, но учти, тебе надо уделять больше внимания маме. Она все вечера сидит дома одна – нельзя же так.
– Это касается только ее.
– Нет, тебя, – влезла в разговор Эмма.
Лаван вышел из себя.
– Нет, ее, – завопил он.
– До свидания, папа. – Сильвия поспешила попрощаться. – Передай маме: я зайду за ней в восемь.
Лаван повесил трубку.
Лицо жены пылало. Ее трясло от ярости.
– И на ком ты женился? – горестно вопрошала она. – На вечерней школе?
– Двадцать семь лет назад я женился на тебе – и что я имею в этой жизни? – сказал он.
– Ты имеешь, что есть, – сказала она, – ты имеешь, где спать, и ты имеешь приличный дом. А твою жену, что вырастила твою дочь, я ее не считаю.
– Это все события древней истории, – язвил Лаван. – Скажи, я имею понимание? Я имел поддержку, чтобы подготовиться и сдать экзамены, и теперь я государственный служащий, получаю две тысячи шестьсот долларов в год и хорошо обеспечиваю свою семью? Я имел поддержку, чтобы изучать предметы в средней школе? Я имею одобрение, когда пишу письма редактору, которые лучшие газеты Нью-Йорка печатают на своих страницах? Ну, что ты скажешь?
– А теперь ты меня послушай, Лаван. – Эмма перешла на идиш.
– Нет уж, говори по-английски, – заорал Лаван. – Свой обычай в чужой дом не носи.
– Я не слишком хорошо выражаю себя по-английски.
– Так иди в школу, учись.
Эмма взвилась.
– Мне надо умные слова, чтобы в доме было чисто? Мне надо школа, чтобы готовить еду? – вопила она.
– И не готовь, обойдусь!
– Обойдусь? – спросила она с ядом. – Отлично! – Эмма приосанилась. – Так сегодня готовь ужин сам! – Протопала к коридору и обернулась уже у двери своей комнаты. – А когда от своей готовки ты будешь иметь язву, – сказала она, – напиши письмо редактору, – и захлопнула дверь.
* * *
Лаван прошел к себе, положил в портфель книги, газету.
– Она отравляет мне жизнь, – бормотал он.
Надел шляпу, пальто, спустился вниз. Решил было пообедать в ресторане, но есть расхотелось, и он пошел в кафе на углу, неподалеку от школы. Скандал расстроил Лавана: он рассчитывал избежать его. Съев половину сэндвича и выпив кофе, он поспешил в школу.
Все, что говорили на уроках биологии и геометрии, Лаван пропускал мимо ушей, оживился он, лишь когда на испанский пришла мисс Московиц – вместе с ней он посещал уроки английского. Лаван поклонился ей. Мисс Московиц была высокая, худощавая женщина слегка за тридцать. Если бы не очки и не изрывшие щеки оспины, умело замаскированные румянами, она была бы недурна. Они с Лаваном блистали на уроках английского; предвкушая, как сразит ее своим письмом, он трепетал. Обдумывал, как бы получше подвести обсуждение к письму, отвергал один вариант за другим. Имеет ли смысл попросить мистера Тауба, чтобы тот разрешил прочесть письмо, или лучше дождаться подходящего момента и тогда уж прочесть письмо и ошарашить класс? Решил все же выждать. Когда Лаван представлял, какое впечатление произведет его письмо, он волновался еще сильнее. Зазвонил звонок. Он собрал книги, поджидать мисс Московиц не стал, прошел в класс, отведенный под занятия английским.
Мистер Тауб начал урок с обсуждения темы судьбы в «Ромео и Джульетте» – эту пьесу класс только что закончил читать. Ученики, взрослые и юные, родившиеся как в Америке, так и за ее пределами, высказывали свои соображения, и Лаван нервничал, поджидая повод вступить в разговор. Обычно он активно участвовал в таких обсуждениях, но сегодня решил не выступать, а подыскать зацепку, которая позволила бы подвести разговор к письму, – и сосредоточиться на этом. Мисс Московиц отвечала еще лучше обычного. Она анализировала сюжет во всех деталях с такой впечатляющей ясностью, что класс слушал ее, затаив дыхание. По мере того как урок близился к концу, Лаван все нетерпеливее ерзал на стуле. Понимал: если не прочтет письмо, потом он себе этого не простит, особенно если учесть, что он и в обсуждении не участвовал. Мистер Тауб задал другую тему: «Виноваты ли влюбленные в своей трагической гибели?»
И снова мисс Московиц вскинула руку. Преподаватель оглядел комнату, но больше никто руки не поднял, и он кивнул ей.
– Их страстная любовь – вот причина трагедии. – Мисс Московиц встала, но Лаван, не дав ей закончить, замахал рукой.
– Мистер Гольдман, – сказал преподаватель, – сегодня мы вас еще не слышали. Ну как, мисс Московиц, разрешим ему продолжить?
– С превеликим удовольствием. – Она села.
Лаван встал, отвесил поклон мисс Московиц. Старался никак не выдать себя, но его била дрожь – так он волновался. Он вышел в проход, сунул правую руку в карман брюк, прочистил горло.
– Для такой молодой женщины, какой является мисс Московиц, она дала похвально четкие и прозорливые ответы. Некогда один поэт сформулировал так: «Страсть двигает сюжет»[14]14
Джордж Мередит (1828–1913), «Современная любовь»:
Страсть двигает сюжет:К предательству ведет нас собственная ложь.
[Закрыть], и мисс Московиц поняла, что эта цитата применима и к нашей пьесе. Молодые влюбленные, Ромео и Джульетта, оба были настолько переполнены и так выведены из душевного равновесия юным влечением друг к другу, что не могли различить или ясно представить, какие проблемы перед ними встанут. Однако вышесказанное применимо не только к шекспировским влюбленным, но и ко всем людям в частности. Когда мужчина молод, он захвачен влечением и страстью к женщине, из чего безусловно и самоочевидно следует, что он не учитывает подлинные свойства своей жены, не думает: соответствует ли она ему не только телесно, но и духовно. Такое несовпадение в большом количестве случаев приводит к трагедии, а в наше время – к разводу. На эту тему мне хотелось бы процитировать мои соображения, сегодня они опубликованы в газете «Бруклин игл».
Лаван сделал паузу и посмотрел на преподавателя.
– Прошу вас, – сказал мистер Тауб.
Класс зажужжал – всем было интересно.
Когда Лаван вынимал газету из портфеля, у него тряслись руки, Он снова прочистил горло.
Редактору «Бруклин игл»
Я хотел привлечь Ваше внимание к факту наличия множества важных тем, которым мы не уделяем должного внимания из-за войны. Я не предполагаю и не намерен принизить значение войны, я намерен всего лишь изложить некоторые соображения по вопросу развода.
Судя по этой проблеме, штат Нью-Йорк отброшен в Средние века. Не один человек незапятнанной репутации имеет в душе мрак трагедии, потому что он не может позволить, чтобы его репутация была замарана или запачкана. Я имею в виду прелюбодеяние, которое за исключением оставления, для которого требуется много времени, является единственным реальным путем к разводу в этом штате. Когда же мы наконец станем достаточно просвещенными, чтобы понять, что несовместимость «к презрению ведет»[15]15
У. Шекспир. «Виндзорские насмешницы»: «…близость к презрению ведет».
[Закрыть] и что такое положение дел развращает душу, также, как прелюбодеяние развращает тело?В силу этого неизбежно следует вывод: мы должны иметь закон, предоставляющий развод по причине несовместимости. Я считаю, что это Quod Erat Demonstrandum[16]16
Что и требовалось доказать (лат.).
[Закрыть].Лаван Гольдман.Бруклин, 28 января 1942.
Лаван опустил газету и в наступившей тишине сказал:
– Нет необходимости объяснять тем, кто посещает наш класс, что значит эта латинская цитата: ведь они осваивают геометрию первой или второй ступени.
На класс его письмо произвело сильное впечатление. Когда Лаван сел, раздались аплодисменты. И хотя ноги у него подкашивались, он был наверху блаженства – упивался своим торжеством.