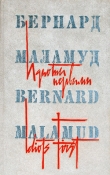Текст книги "Бенефис"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Когда я открыл дверь в номер, думая, как всю зиму буду потешать друзей рассказом о своих приключениях, зазвонил телефон. Звонила женщина. В ее долгой благозвучной русской речи я разобрал лишь «Господин Гарвитц» и еще одно-два слова. У нее был красивый голос, прямо как у певицы. Хоть я и не понимал, что ей нужно, я вдруг возмечтал – можно назвать это и так – что прогуливаюсь в березняке неподалеку от Ясной Поляны с миловидной русской девушкой, увлеченные беседой по душам, мы выходим из рощи на луг, спускаемся к небольшому, но прелестному пруду, и я катаю ее на лодке. И такое в этом благорастворение. У меня даже промелькнула мысль: а может, стоит обручиться с русской девушкой? Вот какие примерно картины представлялись мне, однако, когда женщина кончила говорить, все, что мог сказать, я сказал по-английски, и она, слегка помедлив, повесила трубку.
На следующее утро после завтрака она или кто-то со схожим – такие в нем звучали контральтовые ноты – голосом снова позвонил.
– Если вы понимаете по-английски, – сказал я, – или хотя бы немного по-немецки, по-французски, даже на идише – если вы, случаем, его знаете, – мы договоримся. Но по-русски у нас, к моему сожалению, ничего не выйдет. Русски ньет. Я буду рад пообедать с вами или встретиться как-то иначе, словом, если вы уловили смысл моих слов, почему бы вам не сказать «да»? В таком случае позвоните затем моей переводчице, добавочный номер тридцать семь. Она объяснит вам что к чему, и мы встретимся, когда вам будет угодно.
У меня сложилось впечатление, что она слушает во все уши, но через некоторое время трубка замолчала. Я гадал, как она могла узнать мое имя, а также не устроили ли мне проверку на предмет, не притворяюсь ли я, что не говорю по-русски. Но я не притворялся, вот уж нет.
После чего я написал письмо Лиллиан, сообщил, что завтра в четыре часа дня вылетаю «Аэрофлотом» в Москву, намереваюсь пробыть там две недели, с перерывом на два-три дня для поездки в Ленинград, где остановлюсь в гостинице «Астория». Указал точные даты отъездов-приездов и послал письмо авиапочтой, опустив его в почтовый ящик подальше от гостиницы, хотя Бог знает, что это могло дать. Я надеялся, что успею получить ответ от Лиллиан до отъезда из Советского Союза. По правде говоря, весь день мне было не по себе.
Однако к следующему утру настроение мое переменилось, и, когда я стоял у ограды парка над Днепром, глядя на дома, вырастающие за рекой там, где некогда была степь, у меня, как ни странно, свалилась тяжесть с души. Колоссальное строительство – казалось, перед моими глазами из земли встают два, а то и три разбросанных неподалеку друг от друга городка – меня потрясло. И такое строительство идет по всей России, чуть не в половине мира, а когда я прикинул, сколько в это вложено труда, материальных затрат, силы духа, я, не сходя с места, поверил, что Советский Союз не рвется развязать войну с США, ни ядерную, ни какую другую. Но и Америка – в здравом уме – никогда не пойдет на войну с Советским Союзом.
В первый раз после приезда в Россию я почувствовал, что мне ничего не грозит, и у продуваемой ветром ограды парка над Днепром пережил несколько – столь редких – минут восторга.
* * *
Почему самые интересные в архитектурном отношении здания были построены при царизме? – задался я вопросом, и, если мне не померещилось, Левитанский вздрогнул, впрочем, по всей вероятности, это было просто совпадение. Вот только не задал ли я этот вопрос вслух – со мной такое иногда случается; но я решил, что нет, быть такого не могло. Мы ехали в музей со скоростью восемьдесят километров в час, машин было мало.
– Что вы думаете о моей стране, о Советском Союзе? – спросил шофер, обернувшись ко мне.
– Я был бы благодарен, если бы вы смотрели на дорогу.
– Не беспокойтесь, я давно вожу машину.
После чего я сказал, что многое из виденного произвело на меня впечатление. Великая страна, что и говорить.
В зеркале я увидел, как на круглом лице Левитанского изобразилась приятная улыбка, обнажившая щербатые зубы. Улыбался он, похоже, одними губами. Теперь, когда он открыл свое полуеврейское происхождение, я бы сказал, что он больше похож на еврея, чем на славянина, и в еще большем раздоре с жизнью, чем казалось раньше. Причиной тому были его неспокойные глаза.
– А наш строй – коммунизм?
Я с оглядкой – не хотел задеть его – ответил:
– Буду с вами откровенен. Я видел много необычного, даже вдохновляющего, но я сторонник более полной свободы личности, а здесь она, по моим наблюдениям, слишком ограничена. Видит Бог, Америка тоже не без недостатков, и серьезных, однако у нас, по крайней мере, критика не под запретом, если вы понимаете, о чем я. Мой отец часто повторял: «Билль о правах не оспоришь»[34]34
Билль о правах – первые десять поправок к американской Конституции (она была принята в 1791 г.), гарантирующие основные права граждан.
[Закрыть]. У нас открытое общество, и это обеспечивает свободу выбора, по крайней мере, в теории.
– Коммунизм как политическая система лучше во всех отношениях, – Левитанский явно не кривил душой, – хотя на нынешней стадии он осуществлен далеко не полностью. В настоящее время… – Он сглотнул, задумался и не закончил фразу. А вместо этого сказал: – Наша революция – великое и святое дело. Мне нравятся ранние годы советской истории, увлечение идеалистическим коммунизмом, великая победа над буржуазией и империалистическими силами. В одну ночь все угнетенные массы поднялись. Пастернак назвал революцию «великолепной хирургией». Евгений Замятин – может быть, вы читали его книги – говорил, что революционный огонь пожирает землю, но в этом огне родится новая жизнь. Многие наши поэты так считали.
Я не спорил – каждому свое, и революция тоже своя.
– Вы сказали, – Левитанский снова посмотрел на меня в зеркале, – что хотите написать о своей поездке. Ваши статьи будут о политике или нет?
– Я задумал написать ряд статей о московских музеях для американского туристического журнала. Я специализируюсь на темах такого рода. Я, что называется, свободный журналист. – Я виновато засмеялся. Странно, как смещаются акценты в чужой стране.
Левитанский вежливо посмеялся вместе со мной, но вдруг оборвал смех.
– Я хотел бы знать точно, что значит свободный журналист?
Я объяснил.
– Сверх того я понемногу редактирую. Недавно издал поэтическую антологию и антологию эссе, обе для старшеклассников.
– И у нас есть свободные журналисты. Я тоже писатель, – торжественно объявил Левитанский.
– Вот как? Вы хотите сказать, литературный переводчик?
– Переводчик – моя профессия, но я и сам пишу.
– В таком случае вы зарабатываете тремя способами: пишете, переводите и работаете на такси?
– Вообще-то я не работаю на такси.
– А что вы сейчас переводите?
Шофер прокашлялся.
– Сейчас я ничего не перевожу.
– А что вы пишете?
– Рассказы.
– Вот как? В каком роде, позволено будет спросить?
– Небольшие, короткие рассказы из жизни, в таком вот роде.
– Вы что-нибудь опубликовали?
Он, как мне показалось, хотел обернуться – посмотреть мне в глаза, но вместо этого полез в карман рубашки. Я протянул ему мои американские сигареты. Он вытряхнул сигарету из пачки, закурил, медленно выдыхал дым.
– Кое-что опубликовал, но уже давно. По правде говоря, – он вздохнул, – сейчас я пишу в стол. Вам знакомо это выражение? Вам известно, что Исаак Бабель называл себя мастером в жанре молчания?
– Довелось слышать, – я не знал, что еще сказать.
– Мыши – вот кто мог бы читать и критиковать мои рассказы, те, что они не успели съесть и обсыпать катышками… – горестно сказал Левитанский. – И это – лучшая критика.
– Мне очень жаль.
– А вот и Чеховский музей.
Я наклонился к нему, чтобы расплатиться, и опрометчиво добавил рубль на чай. Он вспыхнул:
– Я – советский гражданин. – Он всунул рубль обратно мне в руку.
– Считайте, что это оплошность, – извинился я. – Я не хотел вас обидеть.
– Хиросима, Нагасаки, – глумливо выкрикнул он, и «Волга» унеслась, изрыгая клубы дыма. – Агрессор, напал на несчастный народ Вьетнама.
– Я-то тут при чем? – крикнул я ему вслед.
* * *
Полтора часа спустя, когда, расписавшись в книге посетителей, я вышел из музея, в глаза мне бросился человек, куривший под липой по другую сторону улицы. Рядом было припарковано такси. Мы уставились друг на друга, поначалу я не узнал Левитанского, но он, дружелюбно кивнув мне, закричал: «Привет! Привет!» Махал рукой, широко улыбался. Густую шевелюру он пригладил, облачился в просторный темный пиджак, рубашку без галстука и мешковатые брюки. Сквозь ремешки сандалий просвечивали носки в красно-бело-синюю полоску.
Он меня простил, подумал я.
– И я вас приветствую, – сказал я, пересекая улицу.
– Как вам понравился Чеховский музей?
– Очень понравился. Записал много интересного. Знаете, что я там увидел? Черную шляпу и пенсне – те, в которых его так часто фотографировали. Это так трогает.
Левитанский вытер слезу, чем меня весьма удивил. Казалось, передо мной другой человек – так он переменился. Странное дело: незнакомый человек рассказывает что-то о себе и уже в ходе разговора ты смотришь на него другими глазами. Таксист становится писателем, пусть даже не профессиональным. Во всяком случае, теперь он для меня был в первую очередь писатель.
– Я был груб, извините, – сказал Левитанский. – Для меня сейчас не самое прекрасное время – «Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время»[35]35
Так начинается «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса. Речь идет о событиях Великой французской революции.
[Закрыть].
– Если вы простили мой невольный промах… Не могли бы вы отвезти меня к «Метрополю» или вы оказались здесь случайно?
Я оглянулся, посмотрел – не вышел ли кто вслед за мной из музея.
– Если вы наймете меня, я отвезу вас, но сначала хочу показать вам кое-что интересное.
Он сунул руку в окно такси и вытащил оттуда плоский пакет в оберточной бумаге, обвязанной красной бечевкой.
– Мои рассказы.
– Я не читаю по-русски, – сказал я.
– Несколько рассказов перевела моя жена. Она – не профессиональный переводчик, но хорошо знает английский, и у нее есть чувство языка. Она прожила два года в Англии, работала в советской закупочной комиссии. Мы познакомились в университете. Переводить себя я не берусь: с русского на английский я перевожу не очень хорошо, зато с английского на русский – замечательно. Да и насиловать себя не хочется – ведь это было бы не чем иным, как самоподражанием. Не исключено, что в английском переводе мои рассказы могут показаться несколько нескладными – жена и сама это признает, – но прочитать и составить мнение о них можно.
Подал мне пакет он довольно неуверенно и вместе с тем так, словно преподносил весенний букет. А что, если это какой-то хитрый маневр? – такой у меня возник вопрос. Не устраивают ли мне проверку из-за того, что я подписал в киевском аэропорту ту бумагу, да еще в пяти экземплярах?
Левитанский, по-видимому, догадался, о чем я думаю.
– Это же всего лишь рассказы.
Он перекусил бечевку, положил пакет на крыло «Волги», снял с него обертку. Рассказы, сколотые – каждый по отдельности – скрепками, были напечатаны на машинке на длинных листах тонкой голубоватой бумаги. Я взял сколотые скрепкой листки, протянутые мне Левитанским, пробежал глазами верхнюю страницу – по всей видимости, это и в самом деле был рассказ, – пролистал остальные страницы и вернул рукопись Левитанскому:
– Я не очень разбираюсь в рассказах.
– Мне не критика нужна. Мне нужен читатель, опытный и со вкусом. Так как вы редактировали сборники стихов, а также эссе, вы можете судить о литературных достоинствах моих рассказов. Я прошу, я настаиваю, чтобы вы их прочли.
Я долго, чуть не целую минуту, молчал, потом услышал себя:
– Почему бы и нет?
Своего голоса я не узнал и почему я согласился на то, на что согласился, не вполне понимал. Можно, пожалуй, сказать, что согласие я дал волей-неволей, нехотя, но Левитанский то ли не заметил этого, то ли предпочел не заметить.
– Если вам понравятся… если вы одобрите мои рассказы, не могли бы вы договориться, чтобы их опубликовали в Париже или в Лондоне? – Кадык его ходил вверх-вниз.
Я вытаращил на него глаза:
– Я не предполагаю поехать в Париж, а в Лондоне пересяду на самолет до Нью-Йорка – и только.
– В таком случае не могли бы вы показать мои рассказы вашему издателю, а он опубликовал бы их в Америке? – Левитанского поводило от неловкости.
– В Америке? – В недоумении я повысил голос.
Прежде чем ответить, Левитанский в первый раз огляделся по сторонам.
– Если вы будете так любезны и покажете мои рассказы вашему издателю – кстати, на него можно положиться? – вдруг он захочет опубликовать собрание моих рассказов? Я согласен на любые условия. Деньги для меня не важны.
– О каком собрании идет речь?
Левитанский сказал, что из тридцати написанных им рассказов он выбрал восемнадцать, те, что в пакете, дают о них представление.
– К сожалению, остальные пока не переведены. Жена работает в биохимической лаборатории, и работа отнимает у нее много времени. Я не сомневаюсь, что вашему издателю мои рассказы понравятся. Все зависит от вашей оценки.
То ли у него буйная фантазия, то ли он не в своем уме.
– Я не хотел бы участвовать в вывозе рукописи из России.
– Я уже говорил вам, эти рассказы – плод вымысла.
– Допустим, так и есть, и тем не менее дело это рискованное. Мне придется идти на риск, чего, откровенно говоря, мне вовсе не хочется.
– Во всяком случае, хотя бы прочтите. – Левитанский опечалился.
Я снова взял рассказы, не спеша пролистал все по очереди. Что я в них искал, не могу сказать: подозревал какую-то западню? Должен, не должен я их брать? И если должен, то почему?
Левитанский протянул мне обертку, я завернул рассказы. Чем быстрее я начну их читать, тем быстрее закончу. Я сел в машину.
– Я уже сказал, что остановился в «Метрополе». Приходите сегодня в девять, и я выскажу вам свое – какое ни на есть – мнение. Однако, мистер Левитанский, должен вас предупредить: этим мое участие в ваших делах ограничится, никаких других обязательств и надежд прошу на меня не возлагать, иначе дело не пойдет. Я остановился в номере пятьсот тридцать восемь.
– Сегодня? Так скоро? – сказал он, потирая руки. – Чтобы ощутить мое мастерство, следует читать внимательно.
– В таком случае завтра, в то же время. Я не хотел бы держать ваши рассказы у себя дольше.
Левитанский не стал возражать. Посвистывая сквозь щербатые зубы, он – на этот раз очень осторожно – отвез меня в «Метрополь».
* * *
Вечером, потягивая водку из стакана, я читал рассказы Левитанского. Простые, сильные – ничего другого я, пожалуй, и не ожидал, – переведены они были недурно; по правде говоря, я думал, что перевод будет хуже, хотя, конечно же, попадались и коряво построенные фразы, и неверно употребленные слова, помеченные знаком вопроса: не иначе как их выискивали в синонимическом словаре. Рассказы, короткие истории преимущественно – что меня несколько удивило – про московских евреев, хорошие, мастерски написанные, задевали за живое. То, о чем в них говорилось, не было для меня такой уж новостью. Я регулярно читаю «Таймс». Но автор не имел цели разжалобить читателя. Он нашел форму для того, о чем хотел рассказать: одно соответствовало другому. Я налил себе еще стакан картофельного пойла, меня разобрало, время от времени я задавался вопросом, с чего это я так закладываю: захотелось расслабиться, с чего же еще? Потом я перечел рассказы и пришел от них в восторг. Я понял: Левитанский – выдающийся человек. Подъем духа сменила подавленность – ощущение было такое, точно меня посвятили в тайну, знать которую я не испытывал ни малейшего желания.
Писателю приходится здесь нелегко, подумал я.
А потом разнервничался – рассказы-то все еще у меня. В одном из них русский писатель сжигал свои рассказы в кухонной раковине. Но эти рассказы никто пока не сжег. Так что если меня с ними застукают, учитывая, что Левитанский пишет о здешней жизни, ох и влипну же я. Ну почему я не настоял, чтобы он пришел за ними сегодня же?
В дверь громко постучали. Я чуть не выпрыгнул из кресла. Впрочем, вскоре выяснилось, что это всего лишь Левитанский.
* * *
На следующий вечер мы сидели друг напротив друга в тесном, заставленном книгами кабинете писателя за коньяком. Левитанский держался с достоинством, поначалу даже несколько заносчиво и уязвленно, нетерпения своего не скрывал. Я и сам чувствовал себя не в своей тарелке.
Пришел я к нему не только из вежливости, наличествовали и другие соображения; но главным образом потому, что мною овладело недовольство, а отчего – мне и самому было неясно.
Я уже видел перед собой не таксиста, тарахтящего по московским улицам на помеси «Волги» с Пегасом, графомана, пытающегося впарить мне свою доморощенную рукопись, а серьезного советского писателя, у которого трудности с публикацией. Наверное, не один он такой здесь. Чем я могу ему помочь? И почему я должен ему помочь?
– Я не рассказал вам о том, что вы заставили меня испытать вчера. К сожалению, вы застигли меня врасплох, – оправдывался я.
Левитанский почесывал одну руку костяшками другой.
– Как вы узнали мой адрес?
Я достал из кармана аккуратно свернутую обертку рукописи.
– Вот он: Ново-Остаповская улица, четыреста восемьдесят восемь, квартира пятьдесят девять. Я приехал на такси.
– Я забыл, что на обертке был адрес.
Возможно, и так, подумал я.
Тем не менее, чтобы войти, мне только что не пришлось просунуть ногу в дверь. Я не слишком уверенно постучался, открыла мне жена Левитанского, в глазах ее отразилась тревога, по-видимому, это было ее постоянное состояние. Удивление при виде незнакомого человека в ее глазах сменилось смятением, едва я спросил по-английски, могу ли я видеть ее мужа. Здесь, как и в Киеве, я почувствовал, что мой родной язык – враг мой.
– А вы не ошиблись квартирой?
– Думаю, не ошибся. Если господин Левитанский живет здесь, то нет. Я пришел поговорить с ним о его… его рукописи.
Глаза ее потемнели, лицо, напротив, побледнело. Однако она тут же впустила меня в квартиру и закрыла за мной дверь.
– Левитанский, выйди! – позвала она. Впрочем, тон ее давал понять, что выходить не стоит.
Левитанский вышел, рубашка, брюки, трехцветные носки на нем были те же, что и накануне. Поначалу на его настороженном, усталом лице изобразилась скука. Скрыть волнение тем не менее ему не удалось: его загоревшиеся глаза обегали мое лицо.
– А вот и вы, – сказал Левитанский.
Господи, подумал я, он что, ожидал меня?
– Я пришел поговорить с вами накоротке, если вы не против, – сказал я. – Мне хочется высказать, что я думаю о рассказах, которые вы любезно дали мне прочесть.
Он что-то бросил жене, она так же отрывисто ответила ему.
– Я хочу представить вам мою жену Ирину Филипповну Левитанскую, она – биохимик. Терпения у нее много, хоть она и не святая.
Миловидная женщина лет двадцати восьми, чуть тяжеловатая, в тапочках и будничном платье, робко улыбнулась мне. Из-под юбки у нее высовывалась комбинация. По-английски она говорила с легким британским акцентом.
– Рада познакомиться.
Если и так, то она удачно это скрывала. Она вставила ноги в черные лодочки, надела браслет, закурила зажатую в углу рта сигарету. Красивые руки и ноги, темные волосы, короткая стрижка. Губы стиснуты, лицо помертвело – такое у меня сложилось впечатление.
– Забегу к Ковалевским, в соседнюю квартиру, – сказала она.
– Не я тому причиной, надо надеяться? Я всего-то и хотел сказать…
– Они живут за стеной. – Левитанский скорчил гримасу. – А стены у нас тонкие. – И он постучал костяшкой пальца по полой стене.
Я дал понять, что меня это удручает.
– Прошу вас, не задерживайтесь, – сказала Ирина. – Я боюсь.
Кого – уж не меня ли? Агент ЦРУ Говард Гарвитц – со смеху живот надорвешь!
Тесная гостиная была довольно уютной, однако Левитанский жестом пригласил меня пройти в кабинет. Предложил сладковатый коньяк, разлив его в стаканы для виски, после чего опустился на край стула напротив, клокотавшая в нем энергия, казалось, вот-вот выплеснется наружу. На миг мне померещилось, что его стул того и гляди снимется с места и взлетит.
Если так, пусть летит без меня.
– Я пришел сказать, – начал я, – что мне понравились ваши рассказы, и я жалею, что не сказал вам об этом вчера. Нравится ваша самобытная, безыскусная манера. Рассказы у вас сильные, хоть вы и не прибегаете ни к каким изощренным приемам; для меня ценно то, что, сочувствуя людям, вы в то же время беспристрастны. Рассказы ваши чеховского калибра, но более сжатые, яркие, прямолинейные, если вы понимаете, что я хочу сказать. Например, тот рассказ, где старик отец приходит повидать сына, а тот увиливает от него. О стиле вашем судить не берусь: я читал ваши рассказы в переводе.
– Чеховского калибра – лучшей похвалы быть не может. – Левитанский обнажил в улыбке испорченные зубы. – Маяковский, наш советский поэт, писал, что Чехов описывает мир мощно и радостно. Хотелось бы мне, чтобы и Левитанский мог быть радостным в жизни и творчестве. – Он, как мне показалось, посмотрел на затянутое шторой окно, впрочем, возможно, он просто смотрел в пространство, после чего сказал, по всей вероятности подбадривая себя: – По-русски стиль у меня превосходный – точный, емкий, пронизанный юмором. На английский меня, наверное, перевести трудно – ваш язык недостаточно богат.
– Мне доводилось слышать такое мнение. Справедливости ради должен сказать, что у меня есть известные оговорки, впрочем, кто и когда принимал произведения, являющиеся плодом вымысла, безоговорочно?
– У меня и у самого есть кое-какие оговорки.
Услышав такое признание, я не стал излагать свои претензии. Меня заинтересовал портрет на книжном шкафу, и я спросил, кто это.
– Лицо этого человека мне знакомо. У него, я бы сказал, глаза поэта.
– Не только глаза, но и голос. Это портрет Бориса Пастернака в молодости. А вон там, на стене, Маяковский. Тоже замечательный поэт, необузданный, жизнелюбивый, неврастеничный, он любил революцию. Говорил: «Моя революция». Считал ее святой прачкой, отмывающей землю от грязи. Позже, к сожалению, он разочаровался в революции и застрелился.
– Я читал про это.
– Ему хочется, писал он, чтобы родная страна его поняла, а если нет, он пройдет над ней стороной, как проходит косой дождь.
– Вам не удалось прочитать «Доктора Живаго»?
– Удалось. – Писатель вздохнул и начал, как я догадался, читать по-русски какие-то стихи наизусть.
– Это стихи Пастернака, обращенные к Марине Цветаевой, советскому поэту, другу Пастернака. – Левитанский двигал по столу туда-сюда пачку сигарет. – Конец ее был трагическим.
– У вас нет фотографии Осипа Мандельштама? – несколько поколебавшись, спросил я.
Левитанского мой вопрос поразил: можно подумать, мы только что познакомились.
– Вы читали Мандельштама?
– Всего несколько его стихотворений в одной антологии.
– Он – наш лучший поэт… святой… погиб, как и многие другие. Его фотографию моя жена не повесила.
– Я пришел к вам, – сказал я, с минуту помолчав, – потому что мне хотелось выразить вам сочувствие и уважение.
Левитанский щелчком ногтя зажег спичку. И, так и не закурив, погасил ее, рука его при этом тряслась.
Мне стало неловко за него, и я отвел глаза.
– Комната очень тесная. Ваш сын спит здесь?
– Не смешивайте прочитанный вами рассказ о писателе с жизнью автора. Мы женаты уже восемь лет, но детей у нас нет.
– Позвольте спросить – имела ли место беседа писателя с редактором, описанная в том же рассказе?
– В жизни она места не имела, но она из жизни, – раздражился писатель. – Мои рассказы идут от воображения. Что за интерес переписывать дневники или воспоминания?
– В этом я с вами вполне согласен.
– Не написал я и о том, что неоднократно предлагал мои рассказы и притчи советским журналам, однако напечатаны были лишь немногие, притом не лучшие. И все же читатели у меня есть, правда, их очень мало, они читают меня в самиздате, передают мои рассказы из рук в руки.
– Вы предлагали ваши еврейские рассказы журналам?
– Что вы такое говорите, рассказы они и есть рассказы, у них нет национальности.
– Я только хотел сказать – те рассказы, где речь идет о евреях.
– Кое-какие предлагал, но их не приняли.
Я сказал:
– Прочитав ваши рассказы, я задумался: как так получается, что вы замечательно пишете о евреях? Вы сказали, что полностью числить себя евреем не можете, – так вы выразились, но пишете о евреях достоверно, и, хотя ничего невозможного тут нет, тем не менее это удивляет.
– Воображение – вот что делает мои рассказы достоверными. Когда я пишу о евреях, рассказы мне удаются, поэтому я и пишу о евреях. И не важно, что я еврей лишь наполовину. Важен дар наблюдательности, чувство, ну и мастерство. Я жил со своим еврейским отцом. Время от времени я наблюдаю за евреями в синагоге. Сажусь на скамью. Староста следит за мной, я слежу за ним. Однако, что бы я ни писал, пишу ли я о евреях, галичанах или грузинах, все они – плод моего воображения, в ином случае для меня в них нет жизненности.
– Я и сам не так уж часто хожу в синагогу, – сказал я, нм но время от времени меня туда манит: язык и образы времени и места, где побывал Господь, меня обновляют. И это тем более странно, что я практически не получил религиозного воспитания.
– А я – атеист.
– Мне ясно, какую роль играет для вас воображение, – это видно по рассказу про талис. Но верно ли я понимаю, – я понизил голос, – что ваша цель рассказать о положении евреев у вас в стране?
– Я не занимаюсь пропагандой, – отрезал Левитанский. – И не выражаю интересы Израиля. Я – советский писатель.
– Я ничего подобного не имел в виду, но ваши рассказы пронизаны сочувствием к евреям – вот что наводит на такие мысли. От ваших рассказов рождается ощущение большой несправедливости.
– Большая, небольшая несправедливость, рассказ должен быть произведением искусства.
– Что ж, я уважаю ваши взгляды.
– Не нужно мне ваше уважение, – вскинулся писатель. – У нас есть такое присловье: «С извинений шубы не сошьешь». Нечто вроде этого я и имею в виду. Мне приятно, что вы меня уважаете, но мне нужна конкретная помощь. Выслушайте меня. – Левитанский стукнул рукой по столу. – Я в отчаянном положении. Пишу я уже очень давно, но почти ничего не опубликовал. Когда-то один-два редактора, мои приятели, говорили мне – в частной беседе, – что они в восторге от моих рассказов, но что я нарушаю все принципы социалистического реализма. То, что вы определили как беспристрастность, они сочли натуралистическими перехлестами и сентиментальщиной. Слушать такую чушь – трудно. Давать такие советы – все равно что сказать пловцу: плавать плавай, но ногами не двигай. Вдобавок меня они предостерегали, а перед другими выискивали для меня оправдания, ну а мне это не по душе. Но даже и они говорили: надо рехнуться, чтобы предлагать такие рассказы в официальные органы, хоть я и пытался объяснить им, что считаю Советский Союз великой страной, вот почему я так поступаю. Великой стране не страшны произведения художника. Великая страна крепнет, оттого что в ней творят писатели, живописцы, музыканты. Я так им и сказал, но они говорят, что я отошел от реализма. Вот почему меня не приглашают в Союз писателей. А без этого публиковаться трудно. – Он кисло улыбнулся. – Они потребовали, чтобы я прекратил приносить рассказы в журналы, ну я и прекратил.
– Сочувствую, – сказал я. – Когда угнетают поэтов, это, по-моему, ни к чему хорошему не приводит.
– Дальше так продолжаться не может, – сказал Левитанский, положив руку на сердце. – У меня такое ощущение, точно меня заперли в ящике стола вместе с моими рассказами. Я должен выбраться оттуда, иначе я задохнусь. С каждым днем мне все труднее писать. Просить незнакомого человека о такой серьезной услуге очень трудно. Жена отговаривала меня. Она на меня сердится, да и опасается последствий, но дальше так жить я не могу. Я знаю: я – значительный советский писатель. И мне нужны читатели. Я хочу видеть, как советские люди читают мои книги. Хочу, чтобы мое творчество оценили не только мы с женой. Хочу, чтобы все увидели – моя проза тесно связана с русской литературой, как прошлого, так и настоящего. Я продолжаю традиции Чехова, Горького, Исаака Бабеля. Я знаю: если мои рассказы опубликуют, меня ждет признание. Жизнь без внутренней свободы для меня невозможна – вот почему вы должны мне помочь.
Исповедь его хлынула бурным потоком. Я намеренно употребил слово «исповедь», потому что плюс ко всему меня рассердил исповедальный характер его речей. Я никогда не любил исповедей, цель которых – хочешь ты или не хочешь – втянуть тебя в свои проблемы. Русские тут непревзойденные мастера, это видно по их романам.
– Я сочувствую вашим трудностям, – сказал я. – Но я всего-навсего турист, в Москве проездом. И наши отношения весьма эфемерны.
– Я прошу не туриста, а человека, – горячился Левитанский. – Ведь вы тоже свободный журналист. Теперь вы знаете, что я собой представляю и что у меня на душе. Вы в моем доме. О чем еще я могу просить? Я предпочел бы опубликовать мои рассказы в Европе, скажем в «Мондадори» или «Эйнауди»[36]36
«Мондадори» и «Эйнауди» – крупные итальянские издательства.
[Закрыть], но, если вы не можете устроить их в Италии, я согласен на Америку. Когда-нибудь мою прозу прочтут и здесь, скорее всего, после моей смерти. В этом заключена убийственная ирония, но мое поколение свыклось с таким положением вещей. Умирать прямо сейчас я не собираюсь, и мне было бы отрадно узнать, что мои рассказы живут по крайней мере на одном языке. Мандельштам писал, что его сохранит чужая речь. Лучше так, чем ничего.
– Я, как вы говорите, знаю, кто вы, но знаете ли вы, кто я? – спросил я. – Я – самый обычный человек и, хотя статьи пишу недурно, богатым воображением не наделен. В моей жизни – так уж сложилось – не было ярких событий, если не считать того, что я развелся, после чего женился, и весьма счастливо, на женщине, о смерти которой скорблю до сих пор. Сюда я приехал, можно сказать, чтобы развеяться, и не намерен ставить себя под удар и подвергать опасности, Бог знает с чем сопряженной. Более того, и это главное, что я хочу сказать: я бы ничуть не удивился, если бы оказалось, что я уже под подозрением и могу скорее навредить вам, чем помочь.
И я рассказал Левитанскому об эпизоде в киевском аэропорту.
– Я подписал документ, который даже не мог прочитать, – ну не глупость ли?
– Это было в Киеве?
– Да.
Он засмеялся, но смех его звучал безрадостно.
– Если бы вы прилетели прямо в Москву, ничего подобного не случилось. На Украине вы имели дело с невежами, с темными людьми.
– Вполне возможно, однако бумагу я подписал.
– У вас есть копия?
– Не с собой. Она в гостинице, в ящике стола.
– Я уверен, что это всего-навсего расписка: по ней вы сможете получить свои книги при отлете из Советского Союза.
– Вот этого-то я и опасаюсь.
– Чего вы опасаетесь? – спросил он. – А получить обратно потерянный зонтик вы бы тоже опасались?