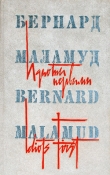Текст книги "Бенефис"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Флоренс. А с какой стати ты его оскорблял?
Фейер. Кто его оскорблял?
Флоренс. Ты. Иначе почему, когда он уходил, он был красный как рак?
Фейер. Я что, врач? Кое-какие серьезные вопросы я ему задал, что да, то да. Это привилегия отца.
Флоренс. Могу себе представить, что это за вопросы.
Фейер. Я спросил его, ради чего он живет. Спросил, в чем его философия, если у него таковая есть. Я имею право знать.
Флоренс. Почему бы тебе не задать такой вопрос себе, а его оставить в покое?
Фейер. Я не задавал ему такие вопросы, какие не задавал бы себе.
Флоренс. Ради Бога, оставь его в покое. Его выбрала Адель, не ты. Она выходит за него замуж, не ты. Оставь их в покое, пока не накликал беду.
Фейер. По-моему, она его не любит.
Флоренс. Ты что, спятил? Кто тебе такое сказал?
Фейер. Она не любит его, ей только так кажется.
Флоренс. Ты кто – гадалка? Ведущий колонки «Устрой свое счастье»? Ты так умел любить, что теперь знаешь о любви все?
Фейер. Умел я любить или нет, знать только мне. А вот Адель я знаю и знаю, что на самом деле она его не любит.
Флоренс. А я знаю, что ты улещал парня с верхнего этажа: мол, чего б ему не заглянуть к нам, когда у него выдастся свободный вечер. Ты думаешь, я не знаю, что ты просил ее пойти с ним погулять.
Фейер. Он ее не просил, вот она с ним и не пошла. А вчера он ей позвонил, попросил, вот она и согласилась.
Флоренс (встает). Господи ты Боже мой! (Подносит руки к груди, ломает пальцы.) А Леон об этом знает?
Фейер. Знает, не знает кому какое дело?
Флоренс (сердито). Фейер, если ты сорвешь их помолвку, я от тебя уйду. Вари свои овощи сам.
Фейер сверлит ее взглядом.
И тебе не стыдно так с ней поступать? Что ее ждет, если она выйдет за бедного писателя, у него постоянной работы и то нет, он даже колледжа не окончил, а кто, как не ты, вечно толкуешь об образовании, и он день-деньской пишет и пишет, и что – есть у него успех?
Фейер. Сначала надо овладеть искусством, успех приходит потом. Он еще станет первоклассным писателем.
Флоренс. Откуда ты знаешь?
Фейер. Он прочел мне один рассказ – бесподобный!
Флоренс. Одного рассказа недостаточно.
Фейер. Мне достаточно.
Флоренс (с жаром). Что может дать ей голодающий писатель? Приличный дом? Он что, может позволить себе завести детей? Кто будет для него на первом месте: она или он? Я хочу, чтобы у нее было будущее, а не квартира без горячей воды и бедный муж.
Фейер. Богатым ему, может, не стать, зато жизнь у него будет богатая. С ним у нее будет интересная жизнь, а не обеспеченное прозябание, где главное удовольствие – покупать что-то совершенно ненужное. Ты недооцениваешь Бена Гликмана. Я с ним много разговаривал и понял его. Он – человек пылкий, а сейчас таких раз два и обчелся. Он не рассказывает, через что ему пришлось пройти, но я вижу это по его глазам. Он понимает, что такое жизнь, и понимает, в чем истинные ценности. Адель именно такой и нужен. Он будет ее понимать и любить так, как она того достойна.
Флоренс. А по-моему, у него нездоровый вид – ни дать ни взять недокормленный телок. И зачем говорить о любви, если Адель даже толком незнакома с ним? Что за дурость? А все потому, что ты видишь в нем себя, вот почему. Второго эгоиста – вот кого.
Фейер. Ну что с тобой разговаривать? Ты полна дурацких опасений и хочешь, чтобы и я их разделял.
Флоренс. А кто ж еще со мной их разделит?
Фейер. Нет, это не разговор, а какая-то бестолковщина.
Флоренс. Ты ее сбил с толку. Она скоро и сама не будет знать, что делает. Ты и меня сбил с толку.
Фейер. Ты сама себя сбила с толку.
Флоренс (в гневе). Эгоист! Эгоист! Ты не заслуживаешь такого зятя.
Фейер (с ядом). А такую жену я заслуживаю?
Флоренс (встает). Нет, ты меня не заслуживаешь.
Поднимает с пола свои туфли, убирает их в шкаф, надевает тапочки. Возвращается в кухню, открывает холодильник, вынимает оттуда продукты, молча принимается готовить ужин. Фейер листает принесенный ею журнал. Чуть спустя Флоренс идет к входной двери, тихо прикрывает ее.
Фейер (не поворачивая головы). Не закрывай дверь, и без того жарко.
Флоренс (спокойно). Мне нужно хотя бы минуту с тобой поговорить – наедине.
Фейер. Говори. Но дверь не закрывай. Я задыхаюсь.
Флоренс. Фейер, прошу тебя, не устраивай представлений. Ты не на сцене. Ты не умрешь. Я всего-навсего хочу с тобой поговорить так, чтобы нас не слышали соседи.
Фейер (кричит). Сказано тебе, не закрывай дверь.
Флоренс (открывая дверь). Ты мне опротивел.
Фейер (не желая оставаться в долгу). А ты мне и подавно.
Флоренс (и не хочет, а срывается). Сам виноват! Если уж на то пошло, тебе все опротивело с того дня, как я с тобой познакомилась. Ты испортил мне жизнь.
Фейер. Ты сама ее испортила.
Флоренс (в бешенстве). Нет, это ты ее испортил. У тебя нет чувства меры. Каждый раз, когда ты делаешь больно себе, ты делаешь вдвое больно мне. По натуре я хороший человек, но ты меня испортил. С тобой невозможно жить и разговаривать тоже невозможно. Ты разучился разговаривать. Стоит тебе открыть рот, как ты начинаешь орать. С ходу затеваешь препирательство.
Фейер. И что – я один кричу или как?
Флоренс. Ты испортил мой характер.
Фейер. Было бы что портить.
Флоренс (вот-вот заплачет). Испортил! Испортил!
Фейер. Если ты так думаешь, значит, ты обманываешь себя.
Флоренс. Если кто кого обманывал, так это ты меня. Ты обманывал меня с хористками, ты с ними путался, при том что у тебя жена и ребенок. Я тебя так любила, а ты не мог устоять перед хористками. Стоило какой-нибудь хористке на тебя посмотреть, и ты начинал перед ней гарцевать. Безвольный ты человек.
Фейер. У меня потрясающей силы воля.
Флоренс. Если у нее лопалась подвязка, ты стягивал с нее чулок. Если она стягивала чулок сама, ты помогал ей стянуть второй.
Фейер (с горечью). А кто из актеров, грош им цена, стягивал с тебя чулки? И сколько раз с тех пор, как мы поженились?
Флоренс. Эта пакость пошла от тебя. Ни от кого другого. Я никогда не хотела такой жизни, это не в моей натуре.
Фейер. Но ты жила так не один год.
Флоренс. Ты бросал меня трижды, один раз – на целых два года. Мало того, сколько раз ты месяц за месяцем ездил на гастроли без меня. Человек слаб… Я оступалась.
Фейер. Тебе бы подумать о ребенке, а ты переправляла ее от одних чужих людей к другим, она у них болела.
Флоренс. Фейер, Бога ради, остановись, я этого не вынесу. А почему ты о ней не заботился? Да потому, что ты всегда отсутствовал. У тебя вечно было дел по горло в чьей-то постели.
Фейер (взрывается). Мерзавка!
Флоренс пронзает его взглядом, потом ноги у нее, как видно, подкашиваются, и она опускается в кресло. Кладет руки на стол, ладонями вверх, роняет на них голову, рыдает. Сотрясается от рыданий всем телом, захлебывается слезами. Фейер идет к двери, бесшумно прикрывает ее. Порывается подойти к Флоренс, но не осмеливается. Идет к раковине, наливает себе воды, но не пьет, рассеянно смотрит в окно. Подходит к зеркалу, смотрит на себя – свой вид ему удовольствия не доставляет. Мало-помалу Флоренс затихает, поднимает голову, сидит, прикрыв глаза рукой. Немного погодя сморкается, вытирает глаза платком. Фейер с отвращением глядит на свое отражение, затем волочется к кушетке, ложится.
Флоренс (спокойно). Чем это пахнет?
Фейер (устало). Это газ.
Флоренс. Что еще за газ?
Фейер. Газы. Тебе обязательно надо знать, что это за запах?
Флоренс (чуть погодя). Ты что, плохо себя чувствуешь?
Фейер. Лучше не бывает.
Флоренс (все еще спокойно). Ты сегодня принял таблетки?
Фейер. Принял. (Вскакивает с кушетки, говорит порывисто, с жаром.) Флоренс, прости. Ведь я тебя люблю всем сердцем. Язык у меня поганый, но сердце, оно не поганое, нет.
Флоренс (чуть погодя). Разве ты можешь любить мерзавку?
Фейер. Не терзай меня моими же словами. Я и так истерзан. На уме у меня совсем не то, что на языке.
Флоренс. А что у тебя на уме?
Фейер. Это у меня на языке тоже.
Флоренс (все еще не в силах отойти от потрясения). Разве можно любить мерзавку?
Фейер (изо всей силы бьет себя в грудь). Кто мерзавец, так это я.
Флоренс (задумчиво). Я сама виновата. И зачем только я ссорюсь с тобой. Сама не понимаю. Может быть, это начало переходного периода. Но к чему я перехожу? И что за период меня ждет? Твоя правда, я мало ей занималась, и страдала прежде всего она. Мне и сейчас тяжело вспоминать те дни. Но ты меня бросал. Мне приходилось работать. Я целыми днями отсутствовала. Оставаться одной по вечерам я боялась. И я стала искать общества. Мне не хотелось, чтобы она это видела: я стыдилась и стала отсылать ее из дому. Родственников у меня не было, и я отсылала ее к чужим людям.
Фейер (не в силах сдержаться). К друзьям твоих любовников. Ну и к их родственникам.
Флоренс. Фейер, помилосердствуй. Моих любовников я давным-давно похоронила. Все они умерли. Не выкапывай их из могил. За свою вину перед дочерью я и сейчас расплачиваюсь. Не надо казнить меня. Я и сама себя казню. (Тихо плачет.)
Фейер подходит, становится за ее спиной.
Фейер. Я был дурак. Не понимал, что творю. Сам себя не понимал. Метил высоко, ничего не достиг. Даже как актер я был не из лучших. Томашевский[31]31
Борис (Барух) Томашевский (1866–1939) – американский актер, режиссер, драматург, историк еврейского театра родом из России.
[Закрыть], Якоб Адлер, Шварц – все они были лучше. Они прославили свои имена. Я всего два года как сошел со сцены, и кто меня помнит, кто? И я это заслужил – тут я себя не обманываю.
Флоренс. Ты был хороший актер.
Фейер. Не хороший я был актер, да и человек не хороший.
Флоренс встает, они обнимаются.
Флоренс. Я тебя простила, но ты меня не простил.
Фейер. Я сам себя не простил.
Флоренс (снова вспоминает). Три раза ты меня бросал.
Фейер. Я всегда возвращался.
Флоренс. Ты так долго отсутствовал. И я мучила ее. (Утирает слезы рукой.)
Фейер. Довольно. И моя в том вина. Я мучил и ее, и тебя. Но почему я мучил тебя, потому что больше мне некого мучить. Ты одна (Замолкает… была и другая, но о ней он говорить не хочет.)… одна могла меня выносить.
Флоренс. Уж ты постарайся, веди себя хорошо.
Фейер. Ну нет.
Флоренс. Да. (Минутная пауза.) Сделай одолжение, Фейер, больше я тебя ни о чем просить не буду, оставь Леона в покое. И Адель тоже. Пусть сами строят свою жизнь. Ради нее – иначе быть беде.
Дверь открывается. Входит Адель, видит, что они обнимаются.
Адель (удрученно). Опять ссорились. (Закрывает дверь.)
Флоренс идет к раковине, моет глаза холодной водой, вытирает их кухонным полотенцем. Фейер целует Адель, уходит в ванную.
Адель (кладет сумочку, газету на стол). Из-за чего ссорились?
Флоренс. И вовсе мы не ссорились. Просто разошлись во мнении. Леон приходил.
Адель. Леон? Когда?
Флоренс. Он хочет сделать тебе сюрприз. Повести тебя обедать. Прошу тебя, детка, пойди с ним. Он вот-вот вернется.
Адель. Где он сейчас?
Флоренс. Не знаю. Я его не застала. Мне папа сказал, что он заходил. Они играли в рамми, и папа, как мне кажется, что-то ему сказал.
Адель. Что-то неприятное?
Флоренс. Папа съязвил, а Леону это не понравилось. Но он сказал, что скоро вернется.
Адель. Я его сегодня не ждала.
Флоренс. Он хотел сделать тебе сюрприз.
Адель. Что бы ему хотя бы позвонить? Я уже обещала Бену, что пойду погулять с ним.
Флоренс. Подумаешь – погулять.
Адель. Я обещала.
Флоренс. Адель, ты же невеста. Леон приехал издалека, из Ньюарка, чтобы повести тебя обедать. Ты должна пойти с ним.
Адель. Ну и пусть невеста, что ж, я теперь – совсем не могу распорядиться своим временем?
Флоренс. Кто такое сказал? Я только и сказала, что заходил Леон. Почему бы тебе не объяснить этому парню с верхнего этажа, что ты пойдешь с ним погулять в другой раз?
Адель. Он мне позвонил, и я сказала «да».
Флоренс. И что – это серьезное обещание?
Адель. Не могу понять, почему Леон не позвонил.
Флоренс. Позвонил не позвонил, но он уже здесь, и нехорошо говорить ему «нет». Адель, мамуня, прошу тебя, пойди сегодня пообедать с Леоном. Не хочу я, чтобы ты шла гулять с этим парнем. Это может плохо кончиться. (Помимо воли проговаривается.)
Адель. Мама, от прогулки до свадьбы – далеко.
Флоренс. Свадьба – еще не самое худшее.
Адель. Бога ради, да говори ты прямо.
Флоренс (подносит руки к груди, ломает пальцы). Гуляешь-гуляешь, а там и до могилы недолго догулять.
Фейер выходит из ванной, серьезно рассматривает себя в зеркале, бормочет что-то неодобрительное, входит в кухню.
Адель. Вы что, мне не доверяете?
Фейер. Я тебе доверяю.
Флоренс (Адели). Ты вот этого хочешь от жизни? (Обводит рукой квартиру.)
Адель. Не вижу связи.
Флоренс (вне себя от волнения). Прошу, ради меня не ходи гулять с этим писателем. Не надо осложнять себе жизнь. В ней и так хватает сложностей.
Стук в дверь.
Флоренс. Войдите.
Входит Леон, в руках у него большой букет цветов.
Флоренс. Леон!
Леон. Всем привет. (Адели.) А это тебе, солнышко.
Адель. Здравствуй, милый.
Леон отдает ей цветы, они целуются.
Леон. Здравствуйте, миссис Фейер. Добрый вечер, мистер Фейер. (Он не злопамятен.)
Фейер. Добрый вечер.
Адель передает букет матери, та ищет вазу. Пока Флоренс ищет вазу, Фейер снова берет газету, просит его извинить, задергивает занавес, разделяющий комнаты, садится на диван, читает. Флоренс – она и недовольна тем, что Фейер задернул занавес, и вместе с тем рада, что он устранился, – сначала ставит цветы в воду, затем собирает себе ужин. Леон присаживается к столу, Адель убирает вазу с цветами на подоконник, подсаживается к нему.
Флоренс. Леон, поешьте с нами. Ужин не Бог весть какой – салат и копченый сиг. Есть еще и картофельные оладушки, но не для Фейера – у него от них изжога.
Леон. Спасибо, но я хотел пригласить Адель в китайский ресторан. (Смотрит на Адель.)
Адель. Извини, Леон, знай я, что ты приедешь, и разговора бы не было. То есть если бы ты позвонил до того, как Бен пригласил меня. Бен – это папин друг, он писатель. Ты его видел.
Леон (разочарованно). Солнышко, а ты не могла бы как-то отмотаться?
Адель (колеблется). Не хотелось бы.
Леон. Что в нем такого, в этом парне? В том смысле, почему ты согласилась с ним встретиться? Потому что он писатель, да?
Адель (обороняется). Ты говорил, что время от времени я могу пойти куда-нибудь с кем-то другим.
Леон. Говорил, и я свое слово держу. Мне только хочется знать, почему ты согласилась с ним встретиться?
Адель. Мне кажется, ему пришлось много чего пережить.
Флоренс. Не ему одному…
Адель. Мне он нравится, с ним интересно. Мне нравится с ним разговаривать.
Леон. Я ему сочувствую, но дело в том, что я приехал издалека, из Ньюарка, штат Нью-Джерси, между прочим, чтобы повидаться со своей невестой…
Флоренс. Мамуня…
Адель. Мама, прошу тебя…
Флоренс снимает фартук, уходит за занавеску. Фейер – он прислушивался к разговору, – когда она входит, подносит газету к глазам, делает вид, что читает. Флоренс – ее одолевают сомнения: что, если она ушла зря, – закуривает сигарету, садится в кресло, листает журнал.
Леон (понижая голос). Солнышко, чего-то я не просекаю. Я был уверен, что ты обрадуешься, если я нечаянно нагряну.
Адель (мягко). Так оно и есть. Но я всего-то и хочу сказать: сегодня я связана обещанием. (Чувствуя, что он встревожен.) Не беспокойся, ничего серьезного тут нет. Не придавай этому значения. Он одинок, вот в чем, наверное, дело. И это чувствуется.
Леон. Я тоже одинок. А ты не могла бы перенести встречу на завтрашний вечер?
Адель. У него свободен сегодняшний вечер. Завтра он работает.
Леон. Ну тогда на тот вечер, когда он снова будет свободен? Я с ним махнусь – сегодняшний вечер поменяю на следующий его свободный вечер. (Снова понижает голос.) Ты не забыла о нашем уговоре – провести в сентябре неделю за городом вместе?
Адель (не без холодка). Не понимаю, при чем тут это?
Леон. Что ж, может быть, никакой связи и нет, только почему бы тебе и не передумать? Насчет сегодняшнего вечера.
Адель. Я ему обещала и просто не могу нарушить обещания.
Леон (раздраженно). Адель, в чем дело: ты сегодня какая-то чужая. В чем причина – в здешней обстановке?
Адель. Если тебе не нравится наша обстановка, зачем ты к нам приходишь?
Леон. Я не хочу с тобой ссориться.
Адель. И я не хочу с тобой ссориться.
Леон (после паузы). Наверное, ты права. Поцелуй меня, и поставим на этом точку.
Адель. Я тебя поцелую, потому что ты славный.
Целуются.
Адель (мягко). Я перенесу эту встречу, если ты уж так этого хочешь.
Фейер (из-за занавеса). Поступай так, как ты считаешь нужным.
Флоренс (еле слышно, шепотом). Фейер, Бога ради!
Леон (так, как будто он ничего не слышал). Почему бы нам не пойти на компромисс? Когда он за тобой зайдет?
Адель. Не знаю, часов в восемь, наверное. Он точно не сказал.
Леон. Отлично, когда зайдет, тогда зайдет. (Смотрит на часы.) Сейчас без десяти шесть. Мы вполне успеем пообедать в китайском ресторане, а в четверть девятого я доставлю тебя домой. Потом ты пойдешь погуляешь с ним по-быстрому, а я буду тебя ждать, и, когда ты вернешься, мы съездим на Кони-Айленд.
Адель. На первое твое предложение – пообедать в китайском ресторане – я согласна. А погонять Бена, чтобы успеть поехать с тобой на Кони-Айленд, не хочу. У нас с ним не такие отношения.
Леон (уязвленно). А какие?
Адель. Вполне невинные.
Стук в дверь. Адель встает, открывает. Флоренс, Фейер настораживаются. Входит Бен с букетиком нарциссов.
Бен. Я не слишком рано?
Общее молчание, занавес опускается.
В стол
Пер. Л. Беспалова
Шофер, как мне показалось, прошептал «шалом», но лицо его имело явно славянский склад, и я счел, что ослышался. Он разглядывал меня в зеркале заднего вида с той минуты, как я сел в такси, отчего мне, по правде говоря, время от времени становилось не по себе. Мне сорок семь, я не так давно избавился от излишков веса, однако от подозрительности, должен признаться, не избавился. А все мой американский костюм, так я сначала подумал. Чужака узнают с ходу. А вдруг таксиста отрядили следить за мной, но это вряд ли: я сам остановил машину.
На шофере в этот прохладный июньский – градусов десять – день была рубашка с короткими рукавами. Лет тридцати на вид, он выглядел так, словно еда ему не впрок; судя по всему, из разряда смутьянов, лицо, пожалуй, усталое, недурен собой – я успел рассмотреть его получше, – хотя череп чуть плосковатый, точно приплюснутый тяжелой рукой, чего не могла скрыть даже шапка волос. Лицо его, как я уже сказал, тяготело к славянскому типу: широкие скулы, небольшой, твердо очерченный подбородок, нос при этом довольно длинный, на тонкой волосатой шее выдавался большой кадык; не чистых, судя по всему, кровей. Во всяком случае, из-за «шалома», ну, и из-за его испытующих глаз я иначе на него посмотрел. В этот пригожий июньский день он не мог скрыть недовольства – работой, судьбой, внешностью, всем что ни на есть. То ли его точила, то ли он источал грусть, похоже врожденную, – Бог весть, чем вызванную; притом ему, похоже, было все равно, какое впечатление он произведет; а этим не всякий может, да и хочет пренебречь. Он же представал перед тобой как есть. Не слишком преуспевающий, но, я бы сказал, и не подпольный. За рулем он устроился основательно, правил уверенно, сосредоточенно, даже несколько исступленно. У меня наметанный глаз на детали.
– Израильтянин? – шепотом спросил он.
– Американски, – русского я не знаю, всего несколько формул вежливости.
Он вынул из кармана рубашки тощую пачку сигарет, перекинул руку через сиденье, «Волга», чтобы не столкнуться с грузовиком, шедшим на поворот, вильнула.
– Осторожнее!
Меня швырнуло вбок, извинения не последовало. Я вынул сигарету, но закурить не торопился – болгарские слишком для меня крепкие – и вернул ему пачку. Подумал: не предложить ли в ответ мои американские, получше качеством, но побоялся его обидеть.
– Феликс Левитанский, – сказал он. – Здравствуйте! Я – таксист.
По-английски он говорил с густым, хоть ножом его режь, акцентом, но бегло, что искупало акцент.
– Так вы говорите по-английски? Я заподозрил нечто в этом роде.
– Я – профессиональный переводчик с английского и с французского.
Он передернул плечами.
– Говард Гарвитц. Я в отпуске, пробуду здесь недели три. У меня недавно умерла жена, и я путешествую – это отвлекает.
Голос у меня пресекся, но я овладел собой, сказал, что, если мне удастся добыть материал для одной-двух статей – оно бы и вовсе хорошо.
Он приподнял руки над рулем – в знак сочувствия.
– Бога ради, не отвлекайтесь!
– Горовитц? – спросил он.
Я объяснил, как пишется моя фамилия.
– Откровенно говоря, при поступлении в колледж я взял фамилию Харрис, но недавно вернулся к прежней фамилии. Когда я окончил школу, мой отец переменил мне фамилию с соблюдением всех юридических процедур. Он был врач, человек практичный.
– Вы, по-моему, не похожи на еврея.
– В таком случае почему вы сказали «шалом»?
– Бывает, вырвется. – Чуть погодя он спросил: – По какой причине?
– По какой причине что?
– Почему вы вернули свою настоящую фамилию?
– Я пережил кризис.
– Экзистенциальный? Экономический?
– По правде говоря, я вернулся к прежней фамилии после смерти жены.
– В чем тут смысл?
– В том, что я стал ближе самому себе.
Шофер ногтем выщелкнул из коробка спичку, закурил.
– Я не могу числить себя евреем полностью, – сказал он, – мой отец, Абрам Исаакович Левитанский, – еврей. Но мать моя не еврейка, и я мог выбирать, какую национальность записать в паспорте, но она настояла, чтобы я записался евреем из уважения к отцу. Так я и сделал.
– Вот это да!
– Отец умер, когда я был ребенком. Меня растили в уважении к еврейскому народу и религии, но я пошел своим путем. Я – атеист. Иначе и быть не могло.
– Вы имеете в виду – в советское время?
Левитанский ничего не ответил, курил, и я устыдился своего вопроса. Смотрел по сторонам: хотел понять, знаю ли, где мы. Он – несколько запоздало – спросил:
– Куда вам?
Еще не переключившись, я сказал, что и сам как еврей не на высоте.
– Мои отец и мать полностью ассимилировались.
– Они сами так решили?
– Конечно, сами.
– А вы не хотите, – спросил он тогда, – посетить синагогу на улице Архипова? Этот опыт будет вам интересен.
– Позже, – сказал я. – А сейчас отвезите-ка меня в Чеховский музей на Садовой-Кудринской.
Шофер вздохнул и, похоже, воспрянул духом.
* * *
Роза, сказал я себе.
Высморкался. После ее смерти я собрался посетить Советский Союз, но сдвинуться с места не мог. От потрясений на меня нападает неуверенность, хотя, должен признаться, я и раньше никогда не принимал важных решений впопыхах. Восемью месяцами позже, когда я так ли, сяк ли, но готовился к отъезду, я обнаружил, что чувствую облегчение – вдобавок ко всему прочему – отчасти и оттого, что появилась возможность отложить неожиданно вставшее передо мной решение личного порядка. От одиночества с весны я начал встречаться с моей бывшей женой Лиллиан и вскоре, так как женщина она привлекательная и замуж не вышла, у нас, к моему удивлению, исподволь пошли разговоры, почему бы нам не пожениться снова: тут ведь как – слово за слово, и сам не заметишь, куда заведет. Поженись мы, поездка в Россию стала бы чем-то вроде медового месяца, не скажу второго, потому что первого у нас, можно сказать, и не было. В конце концов, так как наша совместная жизнь протекала крайне трудно – слишком большие требования мы предъявляли друг к другу, – отважиться на женитьбу мне тоже было трудно, а вот Лиллиан, надо отдать ей должное, похоже, готова была рискнуть. Я не мог разобраться в своих чувствах, вот и решил окончательного решения не принимать. Лиллиан, а она человек прямолинейный, склад ума у нее прямо-таки юридический, спросила: не охладел ли я к мысли о женитьбе, и я сказал, что после смерти жены анализирую свою жизнь и мне нужно время, чтобы разобраться в себе.
– Все еще? – сказала она, имея в виду мою любовь к самокопанию и подразумевая – вечность.
Что я мог на это сказать – только «Все еще» и в сердцах добавил: «Вечность». Но тут же одернул себя: к чему дальнейшие осложнения?
Словом, мы были на грани разрыва. Вечер прошел не слишком удачно, хотя и не без приятности. Когда-то я был сильно увлечен Лиллиан. И, раскинув умом, решил: если переменить обстановку, провести, скажем, месяц за границей, это поможет делу. Я давно уже хотел съездить в СССР, а тут вдобавок смогу побыть в одиночестве и, надо надеяться, на досуге все обдумаю, а это придавало поездке дополнительную привлекательность.
Вот от чего, получив визу, я удивился – правда, не слишком, – что меня не так тянет ехать и вообще мне как-то не по себе. Я приписывал это страху перед путешествиями: перед тем как я решаюсь стронуться с места, на меня, случалось, нападал страх. Долечу ли я до СССР? А что, если самолет захватят террористы? А вдруг разразится война и самолет обстреляют? Хочешь не хочешь, но должен признаться, человек я опасливый, что – так я это объясняю для себя – означает: я вечно забегаю вперед. Спешу, не сходя с места, попусту тревожусь, загодя отягощаю себя угрызениями совести.
Я понимал, что страх мой вызван статьями в газетах, где рассказывается, как некоего туриста или путешественника ни с того ни с сего схватили секретные службы, обвинив в «шпионаже», «незаконной коммерческой деятельности», «хулиганстве» – да мало ли в чем. И бедного малого, все равно как того халифа, про которого еврей вел рассказ в Садбери[32]32
У Г.У. Лонгфелло в «Рассказах придорожной гостиницы» (гостиница находилась в городке Садбери, штат Массачусетс) гости хозяина по очереди рассказывают разные истории. В рассказе под названием «Камбалу» один из гостей – еврей – повествует о том, как вождь Алау заточил мерзкого халифа в башню, чтобы никто не мог его видеть.
[Закрыть], прячут от людей, пока он не подпишет все, что от него требуют, а затем заключают в концлагерь в сибирской глуши. После получения визы воображение порой рисовало, как незнакомый человек сует мне толстый пакет с бумагами, я сдуру принимаюсь их читать и меня арестовывают за шпионаж, за что же еще? Что я тогда буду делать? Надо думать, швырну пакет на мостовую и с криком: «Вам не пришить мне шпионаж, я не знаю русского» – уйду прочь по мере сил с достоинством, отчего они, надо надеяться, примерзнут к месту. Если человек, которому грозит опасность, уходит от нее, кажется, что он ни к чему не причастен, ни в чем не повинен. Во всяком случае, ему так кажется; затем я мысленно слышу за собой шаги, и – видения мои отталкиваются от реальности – два здоровущих кагэбэшника хватают меня, заламывают руки за спину и арестовывают. Не за то, что мусорил, как я надеялся, а за «попытку избавиться от компрометирующих бумаг», отрицать чего я не смогу.
Так и вижу, как Г. Гарвитц вопит, вырывается, лягается, пока чья-то смердящая рука не затыкает ему рот и его не уволакивают силой, жахнув в придачу по голове дубинкой, в неизбежный черный «ЗИС», о которых я столько читал, да и в кино их не раз видел.
Холодная война – страшная штука. Хорошо бы, порой мечтается мне, чтобы СССР и США наконец выведали все, что можно выведать друг про друга и, благоразумно обменявшись компьютерами, где информация будет постоянно обновляться, оставили бы друг друга в покое. Шпионству пришел бы конец; в мире воцарился бы здравый смысл, и такому человеку как я, поездка в Советский Союз была бы только в радость.
В середине июля, когда я прилетел из Парижа в Киев, в аэропорту на меня тотчас же нагнали страху. Таможенник извлек из моего чемодана пять экземпляров «Зримых тайн» – поэтической антологии для старшеклассников, изданной мной несколько лет назад, и конфисковал: привез я ее, чтобы дарить русским любителям американской поэзии. От меня потребовали подписать бумагу на кириллице, на английском в ней было всего два слова– «Visible Secrets», слово «secrets» было подчеркнуто. Таможенник, коренастый тип в форме с прилизанными волосенками на маленькой не по росту голове и красными звездами на погонах, сказал, что провозить более одного экземпляра иностранной книги в Советский Союз запрещается, о чем меня ставят в известность в этой бумаге, но по выезде из Советского Союза в московском аэропорту мою собственность вернут. Бумага вызывала у меня опасения, подписывать ее я не хотел, но интуристский гид, крашеная, вихлявая блондинка на высоких каблуках, уломала меня, ее вид и разбитная манера подействовали на меня успокоительно, хотя рубашка у меня все же взмокла от пота. Она сказала, что процедура эта никакого значения не имеет, и посоветовала поскорее подписать бумагу: иначе мы задержимся, а нам пора ехать в гостиницу «Днипро».
Вот тут я и спросил, что будет, если я поставлю на книгах крест и не потребую их обратно. Интуристка спросила таможенника, и он спокойно, серьезно и пространно разъяснил ей.
– Он говорит, – сказала интуриста, – что Советский Союз не имеет обыкновения отбирать у иностранцев их законную собственность.
Так как на Киев у меня было отведено всего четыре дня и время бежало быстрее обычного, я волей-неволей подписал бумагу плюс четыре ее копии, сделанные под копирку, по одной на каждую книгу – или на пять таинственных государственных учреждений? – мне вручили расписку, и я положил ее в бумажник.
Если не считать этого происшествия – а его нельзя воспринимать без юмора, – пребывание в Киеве, при том что в первые дни в незнакомом городе мне, как правило, одиноко, пролетело быстро и увлекательно. Поутру меня возили в машине по туристским маршрутам холмистого, зеленого, с широкими улицами города, красками, пусть и более приглушенными, напоминавшего Рим. Зато днем я бродил по городу один. Для начала садился в автобус или трамвай, проезжал несколько километров, после чего выходил и гулял по окрестностям. Как-то раз я забрел на крестьянский рынок, где колхозники и крестьяне, бородатые, в сапогах, точно сошедшие со страниц какого-нибудь русского романа девятнадцатого века, продавали свой продукт горожанам. У меня мелькнула мысль, что надо бы написать об этом Розе, то есть, конечно же, Лиллиан. В другой раз на пустынной улице я вдруг вспомнил про таможенную расписку в моем бумажнике и обернулся посмотреть – нет ли за мной слежки. Слежки не было, но ощущение опасности меня взбодрило.
Другое происшествие, однако, понравилось мне куда меньше: как-то под вечер я заблудился в нескольких километрах от лодочной станции. Я шел по берегу Днепра, любуясь лодками, пляжами на островках, сам того не заметил, как забрел далеко, и мне захотелось поскорее вернуться в гостиницу: я успел проголодаться. Проделать обратный путь пешком меня не тянуло: за последние три дня я пресытился туризмом, вот и подумал, что неплохо бы остановить какую-нибудь машину, но раз машины тут не попадались, то сгодился бы и автобус: вдруг какой-нибудь да и подвезет меня поближе к гостинице. Я обращался к прохожим, заговаривал с ними по-английски, на ломаном немецком, а порой начинал с «Pardonnez-moi»[33]33
Извините (фр.).
[Закрыть], но результат моих попыток был один – они производили переполох. А одна молодая женщина даже припустилась бежать и далеко не сразу сбавила шаг.
Удрученный, раздосадованный, я все же приступился к двум прохожим: один, едва я с ним заговорил, поспешно удалился, глядя при этом прямо перед собой, другой показал жестами, что он глух и нем. Что-то толкнуло меня заговорить с ним на моем убогом идише – меня обучал ему дед, – тогда он, понизив голос, на том же языке объяснил, где ближайшая автобусная остановка.