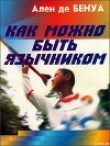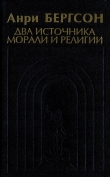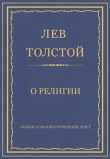Текст книги "Рассуждения о религии, природе и разуме"
Автор книги: Бернар Ле Бовье де Фонтенель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Глава III. Как мы считаем, тела – это вовсе не случайные поводы, но истинные причины движения одних по отношению к другим
Это раздел, в котором я более всего уверен, ибо он принадлежит к представляющимся мне наиболее ясными, и я не могу понять, каким образом тысячи других людей не разделяют подобную точку зрения.
Истинная причина – это та причина, между которой и ее действием существует необходимая связь, или, если угодно, та, которая именно потому, что она существует либо является такой, какова она есть, делает то, что вещь существует либо существует такой, какова она есть.
Случайный повод не делает ничего в силу своего существования или в силу того, что он является таким, каков он есть; он делает что-то лишь потому, что, когда он существует либо является таким, каков он есть, действует истинная причина: таким образом, между случайным поводом и его действием вы не усматриваете никакой необходимой связи.
Мне кажется, что из этих определений ясно вытекает моя точка зрения. Согласно мнению отца Мальбранша, тела не имеют ни малейшей силы воздействия друг на друга и бог изрек повеление, которым он обязуется в случае удара одного тела о другое передавать от одного другому движение в соответствии с различными соотношениями объемов и скоростей движения этих тел.
Согласно этому повелению, телам не придается способность к взаимному толчку, к тому, чтобы они были различной величины и различным образом приводились в движение; оно предполагает в телах три этих свойства, зависящие исключительно от их природы: это бесспорно.
Итак, я предполагаю, что до божественного веления – я допускаю, что пока еще оно не изречено, – два тела, А и Б, движутся по направлению к одной цели; А во много раз больше и движется во много раз быстрее, чем Б; А – тело с вогнутой поверхностью, и в конце концов оно сталкивается с Б именно этой своей вогнутой стороной. Во всем этом нет ничего, что не предшествовало бы велению о сообщении движения [телам] и не вытекало бы исключительно из природы данных тел.
Спрашивается, что произойдет при столкновении тела А с телом Б?
Следовало бы – поскольку тела не могут сами по себе, с помощью толчка, ни увеличить, ни уменьшить скорость движения друг у друга, – чтобы А и Б сохранили количество движения, какое у них было до столкновения.
Но абсолютно невозможно, чтобы они оба сохранили его в один и тот же момент.
Если А сохраняет прежнюю скорость движения, следует, что оно толкает перед собою Б и, значит, скорость движения Б должна сильно возрасти.
Б не сможет избежать этого, даже если оно высвободится из вогнутости А, ибо я предполагаю, что кривизна тела А значительно больше той, которую тело Б могло бы описать за одно мгновение, не увеличивая скорости своего движения.
Если скорость движения Б не увеличивается, из этого следует, что А всего только догоняет Б и, значит, скорость его движения сильно уменьшается. Итак, до повеления, согласно которому бог приводит тела к столкновению – случайному поводу к увеличению или уменьшению скоростей движения, эти скорости необходимо увеличиваются или уменьшаются благодаря столкновению.
И заметьте, что одна только непроницаемость тел делает необходимым один из тех случаев, о которых я говорю.
Ибо если бы тела не обладали этой непроницаемостью, А вынуждено было бы пропустить Б через себя, без того чтобы при этом хоть сколько-нибудь изменилась скорость движения обоих этих тел.
Итак, именно из того, что тела таковы от природы, следует, что они должны при столкновении взаимно изменять скорость движения друг друга.
Итак, они производят эти изменения в качестве истинных причин, а вовсе не как случайные поводы.
Я намеренно опустил два химерических случая:
Один из них – когда А остается неподвижным при столкновении с Б.
Но тогда Б, в качестве истинной причины, прекращает движение А или даже сообщает ему позитивный модус, если только покой является таковым, как это принято утверждать.
Второй случай – когда, при встрече с Б, А испытывает обратный толчок и возвращается на свое исходное место.
Но тогда Б, в качестве истинной причины, изменяет направление движения А.
Однако даже если бы тела по самой своей сущности, до декрета бога, всего лишь изменяли при столкновении направление своего движения, а не его количество, этого было бы вполне достаточно для моего доказательства.
Ведь главным основанием, согласно которому отец Мальбранш придает телам значение всего лишь случайных поводов, служит то, что движение есть не что иное, как само существование тела, поскольку оно существует последовательно в различных местах; и, поскольку один лишь бог может даровать существование и его сохранять, он же может даровать и движение; таким образом, любое движение тела – это результат непосредственного воздействия бога и, значит, ни одна тварь не может обладать силой здесь что-либо изменить в качестве истинной причины.
В дальнейшем я попытаюсь дать ответ на это рассуждение, которое, честно говоря, очень красиво. Но пока вы прекрасно видите, что, если изменить здесь выражения и вместо слова «движение» поставить «направление движения», вы обнаружите, что ни одна тварь не обладает силой изменять в качестве истинной причины направление, сообщенное [чему-либо] богом.
Между тем вот самое меньшее, что проистекает из сделанного нами предположения – хотя такой случай и непостижим: Б в качестве истинной причины изменяет направление [движения] А; согласно рассуждению отца Мальбранша, это означает то же самое, что изменить движение А. Но совершенно очевидно: коль скоро твари оказываются истинными причинами в отношении направления движений, вся система окказионализма терпит крах.
Однако, возражают всегда картезианцы, какая может быть связь между движением одного тела и другого? Разве можно постичь, как происходит эта передача движения? Напротив, связь между божественной волей, направленной на движение тела, и его движением постигается хорошо.
Почти все это верно. Я согласен, что для того, чтобы установить истинную причину, нужно наблюдать необходимую связь между ней и ее действием, причем совершенно невозможно понять, каким образом движение одного тела передается другому. Согласен я также и со следующим: я ясно усматриваю связь, существующую между волей бога и движением тела; но картезианцы ошибаются, полагая, что это дает им преимущество.
Суть любого вида философствования состоит в том, чтобы различать между собой идеи, на первый взгляд представляющиеся идентичными. Дабы установить истинную причину, нужно усмотреть необходимую связь между ней и ее действием, но совершенно не требуется видеть, каким образом она производит свое действие. Бог – истинная причина всего сущего. Я отлично постигаю, что, поскольку он по самому своему существу всемогущ, невозможно, чтобы он пожелал существования какой-либо вещи, а эта вещь бы не стала. Но постигаю ли я, каким образом эта вещь начинает существовать в тот самый миг, как бог этого пожелал? Отнюдь. Напротив, ум мой настолько обманчив, что он представляет мне творческий акт бога как нечто ограниченное и замкнутое в самом себе и потому не могущее ничего произвести вне себя. Я не в состоянии попять, каким образом это потенциальное бытие, пока еще не существующее, получает предупреждение о том, что бог желает, чтобы оно стало. Я совершенно не в состоянии попять, откуда это потенциальное бытие берет то, что делает его актуальным; это, собственно говоря, означает, что я усматриваю лишь необходимость факта, но способ, каким он совершается, полностью от меня ускользает. Те же самые затруднения относятся к способу приведения тела в движение, когда бог желает, чтобы оно двигалось. Я постигаю лишь, что оно движется, потому что бог этого желает.
Точно так же я ясно вижу, что, поскольку тела непроницаемы, они должны при столкновении сообщать друг другу свое движение: я только что это показал. Но каким образом передается это движение от одних тел к другим? Я ничего об этом не знаю. Если нужно будет понять все эти «каким образом», я не приду даже к тому, что сам бог является истинной причиной какого-либо действия.
Я долго искал, не может ли быть иного ответа на развитое нами сейчас рассуждение, и нашел только один ответ, правда косвенный и не слишком достойный веры; но я не премину его изложить, дабы предупредить его, на случай если он кому-нибудь придет в голову.
Итак, мне, быть может, ответят, что моя гипотеза относительно находящихся в движении А и Б совершенно несостоятельна; хотя это и верно, что до веления бога, распорядившегося относительно столкновения – случайного повода к взаимному сообщению движения, – каждое из тел может само по себе быть приведенным в движение и тем самым сообщить толчок другому телу, однако, чтобы тела эти начали двигаться, с тем чтобы потом столкнуться, необходимо, чтобы они толкали перед собой и смещали, то есть двигали бы, другие тела, встречающиеся на их пути, например воздух, заполняющий пространство. Но поскольку пространство у картезианцев, с одной стороны, константно, а с другой стороны, согласно их учению, невозможно, чтобы в этом пространстве одно тело сообщало движение другому, они не могут допустить, что А и Б столкнутся, ибо для этого нужно было бы, чтобы А и Б были уже приведены в движение другими телами. Таким образом, до повеления бога все остается неподвижным – не потому, что тела до этого повеления не могут быть приведены в движение (ведь это заложено в их природе), но из-за пространства, служащего причиной того, что они не могут быть приведены в движение, не сдвигая с места другие тела: это возможно только после веления бога.
Однако будем осторожны: эта несостоятельность тел, служащая причиной того, что они не могут, в качестве истинных причин, сообщать друг другу движение, заложена, как оказывается, в их природе: веление бога, делающее их поводами к взаимному передвижению, не сообщает им никакой двигательной силы. Проявление любой способности, любая действенность – какого бы рода она ни была – это, согласно отцу Мальбраншу, неотъемлемое право бога.
Итак, неспособность двигать другие тела – это существенное свойство двух частных тел, Л и Б.
Итак, они сохранят это свойство при любом предположении; ни одно предположение не может разрушить этой их сущности.
Я совершенно не собираюсь здесь заниматься вопросом заполненного и пустого пространства; я признаю пока существование первого.
Но я могу допустить предположение пустоты и построить на этом допущении рассуждение от противного: это не нарушает правил [логики].
Гипотеза пустого пространства совсем не противоречит сущности А и Б: представляя их себе в пустом пространстве, я вовсе не мыслю их менее объемными, рельефными, подвижными или неспособными, если вам угодно, приводить в движение другие тела; правда, я разрушаю сущность пространства, в котором я их мыслю, поскольку я не представляю себе это пространство как тело, хотя на самом деле оно таковым является. Однако это безразлично для нашего вопроса, не имеющего никакого отношения к сущности пространства, в которое я помещаю тела, но связанного лишь с сущностью самих тел. К их сущности совершенно непричастно то, что они находятся в заполненном пространстве, хотя они всегда находятся именно там; быть заполненным характерно для сущности пространства.
Если бы бездейственность тел А и Б была заложена в их природе, они сохранили бы ее и при гипотезе вакуума, вовсе не препятствующего проявлению этой бездейственности.
Но при такой гипотезе тела эти могут быть приведены в движение без того, чтобы обрести при этом способность сообщать движение другим телам, лежащим на их пути.
После того как они придут в движение, я предполагаю, что они столкнутся между собой.
И тогда необходимо возникнет один из указанных выше случаев, показывающих, что А и Б действуют как истинные причины.
Итак, поскольку, согласно гипотезе, ничуть не противоречащей их природе, они вовсе не сохраняют свою неспособность действовать в качестве истинных причин, неспособность эта не есть их природное свойство.
Наоборот, именно от неотъемлемого природного свойства тел – их непроницаемости, их плотности – проистекает воздействие, делающее их истинными причинами.
Таким образом, я считаю, что, несмотря на хитроумие ответа, который мы себе здесь вообразили, доказательство наше сохраняет всю свою силу.
Глава IV. Как представляется, в системе окказионализма бог действует не просто
Недостатком учения картезианцев, конечно, является вовсе не то, что они пользуются смутными идеями: они более всего рекомендуют их избегать и особенно похваляются тем, что им это удается; однако я сильно сомневаюсь в том, что они достаточно хорошо разъяснили идеи, которые мы имеем относительно простоты действий бога. Я стараюсь внести как можно больше ясности в этот вопрос, который представляется вполне ясным тем, кто мало об этом думает, но до сих пор совсем не так ясен для тех, кто хорошо мыслит.
У бога – свои замыслы, и он приводит их в исполнение.
Мудрость замысла заключается в основаниях, заставляющих его осуществлять, и в целях, которые при этом себе ставят. Почему бог пожелал создать мир таким, каков он есть? Мы ничего об этом не знаем. Хорошо говорить, что это было сделано к его вящей славе: богу причитается не меньшая слава существования чисто потенциального мира; ибо то, что находится всею лишь в потенции, для бога так же действительно и производит, с его точки зрения, тот же эффект, как и то, что действительно существует. Итак, мы можем допустить бесконечную мудрость божественного замысла, но даже и мечтать не должны о том, чтобы в нее проникнуть. Природа божественных целей не допускает их проникновения в человеческий ум.
Что же касается простоты, то мы видим, что в упомянутом замысле она, как таковая, не столь уж велика: ведь чтобы говорить о простоте действий бога, нужно было бы, чтобы он всего только разделил материю на равные части и всем этим частям сообщил одинаковое движение, которое длилось бы вечно. Итак, хоть мы и не можем понять этот замысел бога, мы полагаем, что он был весьма мудр, и мы также видим, что он не очень-то прост и однозначен. Но нет никакого сомнения в том, что воплощение этого замысла было в одно и то же время столь мудрым и столь простым, сколь только это было возможно.
Мудрость воплощения замысла заключается в том, чтобы воплотить его полностью.
Простота того же замысла заключена в том, чтобы соблюдался минимум действия и возможно меньшее количество различий в действиях: одним словом, при этом не должно иметь места ничего, кроме того, что абсолютно необходимо для полного и совершенного воплощения.
Тут следует сделать два замечания: 1) мудрость воплощения замысла дает нам идею относительно мудрости замысла нe самого по себе, но постольку, поскольку это связано с воплощением: ибо как воплощение мудро тогда, когда замысел воплощен в совершенстве, так и замысел мудр только тогда, когда он может быть полностью воплощен; 2) мудрость воплощения [замысла] предшествует простоте: это значит, что, во-первых, следует полностью воплотить свой замысел, а уже во-вторых, его надо воплотить с минимальной затратой действия и по возможности меньшим количеством различий в действиях.
Пункт этот очень важен, поскольку мне кажется, что именно по этому пункту совершалась постоянная ошибка претензий величайшим гением нашего века.
Он говорит, что порядок Вселенной сам по себе не самый совершенный, какой только возможен; что [при создании Вселенной] средства не всегда находились в точном соответствии с целями, которые, как принято считать, ставил перед собою бог; что, например, в намерения бога входило создавать лишь совершенные живые существа, а между тем появились на свет монстры; что бог посылает дожди для того, чтобы оплодотворять землю, между тем иногда дожди делают земли бесплодными; и т. д. Однако тот же автор утверждает, что порядок этот – самый совершенный, какой только возможен с точки зрения простоты законов, на которых он основан. Короче говоря, это значит, что для того, чтобы сделать этот порядок, как таковой, более совершенным, чтобы добиться в нем более точного соответствия средств целям, надо было сделать его более сложным: при той же простоте, с которой он создан, он никогда не мог бы стать лучшим. Итак, совершенно очевидно, что образ действий бога весьма прост.
Возможно, я очень ошибаюсь, но я усматриваю во всей этой идее скрытый в ней вечный софизм.
Если бы я хотел создать машину, которая точно показывала бы время, и для этого нужно было бы вложить в нее десять колесиков, я, несомненно, вложил бы туда все десять. Если же я вложил бы в нее лишь пять, стала бы она от этого более простой? Да, но она не показывала бы точного времени. Моя задача – сделать не простую машину, а машину, точно показывающую время, причем добиться этого я должен по возможности самыми простыми средствами. Я, конечно, поостерегусь вложить в нее больше колесиков, чем это требуется, и в этом будет заключаться простота воплощения моего замысла; но я вложу их туда столько, сколько требуется для полного воплощения моего замысла.
Согласно идее, которую я здесь опровергаю, мир сделан несовершенным во имя простоты. Но его надо было сделать совершенным, а затем уже настолько простым, насколько это было возможно.
Утверждают, что, хотя создание монстров и не входило в задачу бога, тем не менее простота установленных богом законов, которые он не мог сделать менее простыми, породила монстров.
Это может, собственно говоря, означать только одно, а именно что замысел бога не был мудр: ведь он не мог быть полностью осуществлен, поскольку он мог быть осуществлен лишь таким образом, что в творение бога проникли монстры, хотя они и не были им задуманы Однако совершенное воплощение замысла не только подразумевает осуществление того, что было задумано, но и исключает все то, что задумано не было. Ведь делать слишком много столь же порочно, как делать чересчур мало. И потом, если вы скажете мне, что простота законов бога заставила его сделать больше, чем то входило в его намерения, я буду вправе считать, что она заставила его сделать, наоборот, меньше, хотя я и не смог бы вам указать это меньшее, которого на самом деле не существует, таким же образом, как вы, согласно вашему утверждению, показываете мне большее, которое есть.
И смотрите, какую нелепость и противоречивость подразумевает все это в природе бога: он очень мудр, он должен воплощать свой замысел в совершенстве; [но] он [и] очень прост, он должен воплощать свой замысел просто; однако он не может воплотить его одновременно и в совершенстве, и просто; его мудрость и его простота вступают в противоречие; ведь нужно, чтобы он ослабил совершенство воплощения своего замысла, для того чтобы дать дорогу тому, что связано с простотой его исполнения.
Есть гораздо больше оснований считать, что бог ослабил простоту воплощения или же совсем ее отверг, чем допускать несовершенство исполнения его намерений. Ибо в конце концов гораздо лучше пользоваться несовершенными средствами, чем как-то погрешить против цели. А ведь простота действий – это только способ воплощения, действительно более предпочтительный, когда он имеет место, но не заслуживающий того, чтобы стремиться к нему за счет полноты и совершенства осуществления своих замыслов.
Это настолько верно, что отец Мальбранш соглашается с тем, что бог иногда выходит за пределы простоты своих действий и, когда порядок этого требует, действует с помощью особых средств. Однако что это за порядок? Ведь это – мудрость его замыслов. Таким образом, в этих случаях он предпочитает полноту и совершенство воплощения своих замыслов его простоте. Так он должен был поступать всегда; порядок – всегда порядок. Я очень хотел бы понять, почему в других случаях, таких, как создание монстров, бог предпочел простоту воплощения своих замыслов полноте и совершенству этого воплощения? Несомненно, это достаточно путаная система, если, согласно ей, то мудрость бога увлекает его к простоте, то простота увлекает его в сторону мудрости.
В борьбе этих двух атрибутов, связанных с воплощением замысла бога, всегда должна была бы побеждать мудрость; но было бы еще лучше, если бы вообще не существовало этой борьбы. Я думаю, что, если бы в том была необходимость, я изложил бы естественный порядок [вещей], ибо я разумею только его: если речь идет о нем, вы не только никогда не смогли бы увидеть, как одна из двух вещей, не могущая быть подчиненной другой, ей подчиняется и подвергается, так сказать, давлению с ее стороны, но и вообще не могли бы увидеть, как одна из них подчинена другой. Каждая из них имела бы свой объем, настолько полный и абсолютный, что ей совсем не нужно было бы приноравливаться к другой; вы увидели бы столь совершенное воплощение замысла бога, что вам трудно было бы себе представить, будто воплощение это может быть простым, причем настолько простым, как если бы оно было очень далеким от того, чтобы быть совершенным. В самом деле, это вполне соответствует двум следствиям, проистекающим из двух атрибутов бога: я не верю тому, что эти атрибуты сообщают друг другу видоизменения и ограничения.
Однако вопрос в данный момент состоит не в этом. Мне достаточно было показать, что, когда бог приводит в исполнение какой-то свой замысел, его первое намерение – воплотить его полностью, а уж следующее – воплотить его по возможности простыми средствами.
Замысел бога состоял в том, чтобы существовали непрерывно движущиеся планеты, живые существа, непрерывно сменяющие друг друга в поколениях, и т. д.; для этого нужно было, чтобы части материи имели неодинаковые движения и сообщали бы их друг другу.
Если предположить, как того желают картезианцы, что тела не обладают никакой двигательной силой, то богу остается лишь два средства для воплощения своего замысла:
либо сообщить телам различные движения в каждый отдельный момент, согласно своему замыслу;
либо учредить случайный повод к неодинаковому распределению движений – такой случайный повод, как толчок.
Это значит, что бог сообщает телам неодинаковое движение, повинуясь единственно лишь своему замыслу либо подчиняясь для выполнения его случайному поводу.
Почему я делаю такой вывод? В случае если бог повинуется случайному поводу, его замысел либо осуществляется с той же полнотой, как если бы он и не повиновался этому поводу, либо он не осуществляется столь полно.
Если замысел его не столь полно осуществляется, значит, бог вовсе не повинуется случайному поводу.
Ибо другой образ действий будет более мудр и, следовательно, он подчинит себе бога, пусть даже сам по себе он будет менее прост.
Если же замысел бога достаточно полно осуществляется посредством случайного повода, то перед нами два образа действий, одинаковых с точки зрения мудрости; в этом случае первое слово будет за простотой.
Сравним же оба эти образа действий с точки зрения простоты. Как при том, так и при другом образе действий бог распределит одинаковое количество неодинаковых движений среди одинакового числа различных тел.
Однако учредить случайный повод несомненно значит пуститься обходным путем, причем этот обходный путь, согласно принятому нами допущению, ничуть не способствует более полному и совершенному воплощению замысла.
Это решает вопрос. Следовательно, учреждение случайного повода противоречит простоте [действий] бога, такой, как мы ее сейчас определили.
Можно ли предполагать, что простота деяния бога проистечет от чуждой ему вещи, которую он должен принимать во внимание, причем ей ничуть не помогает это внимание бога? Напротив, именно то, что он без необходимости включает в свое деяние чуждую [ему] вещь, полностью должно разрушить простоту этого деяния.
Утверждают необходимость того, что бог учреждает случайный повод, дабы действовать единообразно; но речь сейчас идет ведь не о единообразии; ибо единообразие и простота – это не одно и то же, хотя по данному вопросу их довольно охотно смешивают, возможно не без пользы для намерений тех, кто это делает. Но единообразию, как таковому, мы ниже посвятим обширное рассмотрение; я нахожу, что достаточно опроверг простоту, которую превозносят сторонники системы окказионализма.