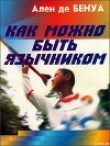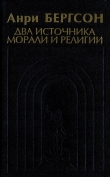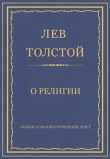Текст книги "Рассуждения о религии, природе и разуме"
Автор книги: Бернар Ле Бовье де Фонтенель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Еще и в наше время арабы наполняют свои истории пророчествами и чудесами, большей частью гротескными и смешными. Несомненно, все это воспринимается ими как прикрасы, и никто не опасается здесь обмана, поскольку у них принято так писать. Однако когда такого рода истории получают распространение у других народов, вкус которых воспитан на стремлении к точному и правдивому описанию фактов, они либо принимают их на веру буквально, либо по крайней мере бывают убеждены, что в них твердо верят те, кто их предает гласности, а также те, кто их безоговорочно принимает. Безусловно, возникающие при этом недоразумения бывают очень велики. Когда я сказал, что ложь в этих историях принималась за то, чем она и была, я подразумевал мнение людей до некоторой степени просвещенных, ибо толпе всегда и во всем суждено оставаться жертвой обмана.
В древние времена не только объясняли с помощью фантастической философии все, что было поразительного в истории фактов, но и толковали с помощью истории фактов, вымышленных для развлечения, то, что было областью самой философии. Например, на небе в северном направлении видны два созвездия, каждое из которых носит наименование «Медведица». Оба эти созвездия постоянно видны и никогда не заходят, подобно другим звездам. Никто и не думает о том, что объясняется это их положением по отношению к полюсу, с точки зрения наблюдателя как бы приподнятому: об этом тогда и не слыхивали. Вместо этого люди вообразили, будто обе Медведицы некогда были человеческими существами: одна Медведица была якобы любовницей, а другая – дочерью Юпитера; когда же оба этих лица были обращены в созвездия, ревнивая Юнона умолила Океан, чтобы он не позволял им в него спускаться, как другим созвездиям, и, подобно им, находить в нем отдых.
Всевозможные метаморфозы составляли естествознание этих древнейших времен. Красный цвет стены означал, что некогда она была окрашена кровью любовников; куропатка постоянно парит над землей, потому что превращенный в нее Дедал вечно помнит о злой судьбе, постигшей его сына, слишком высоко залетевшего в небо; и т. д. Я навеки запомнил то, что мне говорили в детстве о бузине: оказывается, некогда она рождала сочные ягоды, вкусные, как виноград; но предатель Иуда повесился на этом дереве, и тогда плоды его стали горькими и невкусными, как теперь. Миф этот мог народиться лишь с появлением христианства; но он носит точно такой же характер, как знаменитые старинные метаморфозы, созданные Овидием. Иначе говоря, люди всегда были склонны к такого рода историям. Удовольствие, получаемое от них, двоякого рода: во-первых, наш ум бывает поражен какой-либо удивительной сказочной выдумкой; во-вторых, удовлетворяется наша любознательность, ибо нам сообщают очевидные причины каких-то естественных и хорошо нам знакомых явлений.
Помимо всех этих частных причин возникновения мифов есть еще две более общие причины, бывшие особенно благоприятными для остальных.
Первая из этих общих причин – право придумывать вещи, подобные тем, что уже считаются истинными, и даже давать этим вещам дальнейшее развитие, привлекая на помощь возможные следствия. К примеру, некое выходящее из ряда вон происшествие заставляет предположить, что какой-то бог влюбился в смертную женщину: тотчас же все истории оказываются переполненными влюбленными божествами. В самом деле, если вы верите, что один из богов влюбился, почему не поверить, что и с другими произошло то же самое? Если у богов есть дети, они их любят и пускают в ход все свое могущество, дабы вызволить их из беды: вот вам неисчерпаемый источник чудес, к которым нельзя подходить с меркой абсурда.
Вторая общая причина наших больших заблуждений – слепое почитание древности. Наши отцы в это верили: не можем же мы считать себя более мудрыми, чем они! Итак, обе эти причины, объединенные вместе, творят чудеса. Одна из них, опираясь на самое шаткое основание, какое только может возникнуть из слабости человеческой натуры, делает глупость бесконечной во времени; другая, коль скоро она утвердилась, сохраняет эту глупость навеки. Одна, поскольку мы уже впали в ошибку, заставляет нас погружаться в нее все глубже и глубже; другая же запрещает нам выбраться из болота, коль скоро когда-то нас в него уже затянуло. Вот, по всей очевидности, что довело мифы до столь великой абсурдности и что продолжало их поддерживать на достигнутом уровне. Ибо то, что природа вложила в них от себя, вовсе не было ни смехотворным, ни слишком большим по объему. Притом же люди совсем не так глупы, чтобы ни с того ни с сего породить подобного рода химеры, уверовать в них и долгое время пребывать в этом заблуждении, если только в это дело не вмешиваются обе причины, о которых мы только что говорили.
Если мы исследуем заблуждения наших времен, мы обнаружим, что в основе их появления, развития и устойчивости лежат те же причины. Правда, мы ни разу не дошли до такой великой нелепости, как греки в своих древних мифах; но это лишь потому, что с самого начала у нас не было столь абсурдной отправной точки зрения. Так же как они, мы умеем развивать и беречь наши ошибки; но, по счастью, ошибки эти не столь велики, ибо мы просвещены светочем истинной религии, а также, как по крайней мере мне кажется, и лучами истинной философии.
Обычно возникновение мифов приписывают живому воображению восточных народов. Что касается меня, то я приписываю его невежеству первобытных людей. Поместите какой-либо новый народ в полярные широты, и вы увидите, что первой его историей станут мифы. В самом деле, разве древние сказания севера не полны басен? В них только и действуют что одни великаны да волшебники. Я не берусь утверждать, будто раскаленное, яркое солнце юга не доводит умы до той степени готовности, при которой они оказываются в совершенстве расположенными к поглощению басен; однако все люди обладают этим талантом и без участия Солнца. Итак, все, что я тут сказал, направлено к нахождению у людей качеств, свойственных всем им на самом деле, а именно тех, что должны проявиться как в полярных широтах, так и в зоне экватора.
Если бы в том была необходимость, мне, наверное, удалось бы показать, какое поразительное сходство существует между американскими мифами и мифами греков. Американцы посылают души людей, ведущих дурной образ жизни, к неким грязным, затянутым тиной, мерзким на вид озерам; греки же отправляют души дурных людей на берега подземных рек Стикса и Ахеронта.[167]167
Стикс и Ахеронт – согласно греческим мифам, реки в подземном царстве – Аиде.
[Закрыть] Американцы верили, будто дождь идет тогда, когда некая молодая девушка играет в облаках со своим маленьким братом и тот разбивает у нее кувшин, полный воды: разве это не напоминает как две капли воды греческих нимф родников, изливающих потоки из перевернутых урн?
Согласно традициям перуанцев, инка Манко Гвина Капак, сын Солнца, изыскал средство с помощью своего красноречия выманивать из лесной чащи туземцев, живших там на манер диких зверей, и заставлять их жить под управлением разумных законов. То же самое сделал Орфей для греков, и он также был сыном Солнца. Это показывает, что в свое время греки были не меньшими дикарями, чем американцы; вдобавок они были извлечены из состояния варварства тем же способом, что и эти последние. Наконец, представления этих двух столь далеких друг от друга народов дружно сходятся на том, что оба считают сыновьями Солнца всех, кто обладает каким-либо исключительным дарованием Поскольку греки, со всем их умом, пока оставались молодым народом, и мыслили не более разумно, чем американские варвары, бывшие, по всей очевидности, достаточно молодым народом, когда их открыли испанцы, есть все основания думать, что американцы в конце концов пришли бы к такому же разумному образу мышления, как греки, если бы им была дана такая возможность.
У древних китайцев, как и у древних греков, мы находим метод объяснения природных явлений с помощью вымышленных историй. Отчего происходит морской прилив и отлив? Само собой, им и в голову не приходило подумать о воздействии Луны на наш вихрь. Поэтому они придумали следующее: у некой принцессы было сто детей; пятьдесят из них жило на морском побережье, другие же пятьдесят – в горах. От них произошло два великих народа, часто находившихся между собой в состоянии войны. Когда обитатели морских берегов берут верх над обитателями гор и обращают их в бегство, происходит прилив; когда же, наоборот, их самих обращают в бегство и обитатели горспускаются к морским берегам, происходит отлив. Такой способ философствования очень напоминает метаморфозы Овидия. Таким образом, верно, что одинаковое невежество ведет к одним и тем же следствиям у всех народов.
Именно по этой причине нет ни одного народа, история которого не начиналась бы с мифов, за исключением народов избранных, в чьей истории благодаря особой заботе провидения была соблюдена истина. И с какой же действительно колоссальной медлительностью приходят люди к чему-либо разумному – каким бы простым это разумное ни было! Ведь сохранять память о совершившихся фактах в том виде, в каком факты эти имели место, вовсе не такое уж великое чудо; между тем проходит много веков, раньше чем люди оказываются в состоянии восстановить эти факты, а до тех пор все, что сохраняется в памяти этих людей, представляет собой не что иное, как фантазии и бредни. После всего этого было бы величайшей глупостью удивляться тому, что философия и способ рассуждения оставались весьма грубыми и несовершенными в течение Долгих веков и даже ныне прогресс в этой области идет крайне медленно.
У большинства народов мифы с течением времени Перешли в религию; у греков, кроме того, они, если можно так сказать, превратились в развлечение. Поскольку они поставляют идеи, ближе всего стоящие к самой заурядной игре человеческого воображения, поэзия и живопись легко к ним приспосабливаются; ведь хорошо известно, какую страсть питали греки к этим изящным искусствам. Разнообразные божества, обитающие повсюду, оживляющие и одушевляющие природу и вещи, всем интересующиеся и, что еще более важно, часто действующие наиболее удивительным образом, несомненно, должны были производить самое приятное впечатление, будь то в поэмах или на рисунках, цель которых состояла лишь в том, чтобы увлечь человеческое воображение, подсовывая ему легко усвояемые и вместе с тем поражающие его объекты.
Заблуждения, однажды укоренившиеся среди людей, имеют обыкновение пускать очень глубокие корни и цепляться за все, что может их поддержать. Религия и здравый смысл разочаровали нас в греческих мифах, но мифы эти продолжают бытовать среди нас благодаря поэзии и живописи, так как, по-видимому, был открыт секрет, делающий их необходимыми для этих искусств. И хотя мы, несравненно более образованные и просвещенные люди, чем те, чей грубый ум честно сотворил мифы, мы тем не менее легко поддаемся тому же побуждению ума, которое сделало мифы столь привлекательными для воображения древних народов. Но они тешились мифами, ибо в них верили, мы же наслаждаемся ими не меньше, хотя им не верим! Это лишний раз доказывает, что рассудок и воображение не имеют между собой ничего общего и вещи, не умеющие обмануть рассудок, ничуть не теряют привлекательности для нашей фантазии.
До сих пор мы не включали в эту историю происхождения мифов ничего, кроме основных свойств человеческой природы, да это и на самом деле является здесь доминирующим моментом. Однако к этому главному фактору присоединились и некоторые побочные, и мы не можем не дать им места в истории мифов. Например, поскольку финикийцы и египтяне были народами более древними, чем греки, их сказания перекочевали в Грецию, причем в пути они разбухали и обрастали преувеличениями, так что самые правдивые из них становились мифами. Финикийский язык (а может быть, и египетский) полон двусмысленных выражений;[168]168
Такое суждение о финикийском и египетском языках – результат неизученности их во времена Фонтенеля. Сложная семантика не меньше является свойством древнегреческого и ряда европейских языков.
[Закрыть] кроме того, греки не понимали ни того ни другого, что и служило великолепным источником для всевозможных небрежностей. Две египтянки, собственное имя которых должно было означать «Голубка», явились в леса Додоны[169]169
Оракул Додоны: Додона – город в центре Эпира (сев. часть Древней Греции), со священной дубравой и оракулом Зевса.
[Закрыть] с целью заняться там прорицанием будущего: греки решили, что это и в самом деле две голубки, скрытые в древесной листве и вещающие оттуда свои пророчества. А в самом скором после того времени голубки превратились, по мысли греков, в деревья, сами издававшие прорицания. Или другой случай: корабельное кормило по-финикийски зовется словом, одновременно означающим «говорящий», – и греки придумывают в истории аргонавтов говорящий руль корабля Арго.[170]170
Здесь имеется в виду миф о путешествии в Колхиду аргонавтов (моряков корабля Арго) под предводительством Ясона с целью добыть золотое руно.
[Закрыть]
Ученые новейших времен нашли тысячи других примеров, из которых явствует, что большинство мифов обязано своим происхождением явлению, обычно именуемому qui pro quo,[171]171
Qui pro quo – лат. выражение, ставшее ходовым и означающее букв, «одно вместо другого», то есть «недоразумение».
[Закрыть] причем греки особенно были склонны к таким недоразумениям, когда имели дело с египетским или финикийским языком. Что касается меня, то, как я думаю, греки, обладавшие большим умом и любознательностью, в данном случае начисто теряли либо то, либо другое, коль скоро они не считали нужным хотя бы изучить в совершенстве эти языки или ставить их просто в покое. Разве не понимали они отлично, что почти все их города были египетскими или финикийскими колониями и что большинство их древних историй имело своей родиной именно эти города? И разве происхождение их языка и древности их страны не состояли в прямом родстве с обоими этими языками? Но то были варварские языки, грубые и малоприятные а слух. Какая забавная утонченность!
С тех пор как было изобретено искусство письма, оно основательно послужило делу распространения мифов, а также тому, чтобы снабдить какой-либо один народ всеми глупостями, измышленными другим. Однако был тут и выигрыш: найдены были определенные рамки для недостоверной дотоле традиции; количество мифов уже не так катастрофически возрастало, и они оставались в пределах, поставленных им изобретением письменности.
Постепенно невежество рассеивалось, что повлекло за собой умаление силы чудес; ложных философских систем стало меньше, повествуемые истории утратили в значительной мере свою баснословность: все это ведь тесно между собою связано. До сих пор память о минувших событиях сохранялась из чистого любопытства: теперь, однако, заметили, что полезно беречь их в памяти – будь то ради сохранения преданий, делающих честь родине, или во имя усмирения раздоров, могущих возникнуть между народами, или, наконец, с целью показать народу примеры доблести; я даже думаю, что это последнее использование мифов было самым незначительным по существу, хотя именно его обычно окружали самой великой помпой. Тем не менее все это требовало от истории правдивости – она должна была быть правдивой по сравнению с древними сказаниями, исполненными нелепостей. Таким образом, у некоторых народов стала писаться более разумная история, как правило обладавшая правдоподобием.
После этого новые мифы уже не возникали. Народы удовлетворялись тем, что сохраняли старые предания. Однако на что только не способны натуры, до безумия влюбленные в древность?! Постепенно стали воображать, что под оболочкой мифа скрыты тайны природы и нравов. Возможно ли – так рассуждали люди, – чтобы древние породили подобные бредни, если на самом деле за этим не скрывается какая-то тонкость? Слово «древний» всегда внушает почтение: но совершенно ясно, что создатели мифов не были знатоками природы или морали и не изобрели еще искусства скрывать то и другое под прикрытием вымышленных образов.
Не будем же искать ничего другого в древних сказаниях, кроме истории заблуждений человеческого разума. Разум наш тем меньше блуждает в потемках, чем скорее он осознает степень своей ошибки. Это не означает, что мы должны постичь нашу склонность забивать себе головы всевозможными нелепостями финикийцев и греков; мы стремимся показать, что именно привело финикийцев и греков к этим причудам. Все люди до такой степени друг на друга походят, что нет той глупости, совершенной каким-либо из народов, которая не заставила бы нас дрожать от страха перед ее повторением.
СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОККАЗИОНАЛИЗМА[172]172
«Doutes sur le système physique des causes occasionelles»– это сочинение опубликовано Фонтенелем в 1686 г. в Роттердаме.
Окказионализм – реакционное, связанное с теологией философское учение, сложившееся во второй половине XVII в. на базе Декартовой метафизики, точнее той ее части, которая тяготеет к догмату о боге как первопричине всего сущего. Виднейшим представителем этого учения был Мальбранш. Окказионализм отрицает существование естественных причин, считая единственной причиной всего божественную волю. Толчок, происходящий при встрече двух тел, и изменение их движения трактуются, таким образом, окказионализмом не как причина изменения движения двух тел, а как случайный повод (occasio) к этому изменению.
Никола Мальбранш (1638–1715), французский философ, член конгрегации ораторианцев, один из последних великих метафизиков XVII в. (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 156), пытался устранить картезианский дуализм путем объединения учения Декарта с учением св. Августина, философии с религией, рационализма с мистикой. Выступая против мистификации законов движения тел, Фонтенель развивает материалистическую теорию движения, основанную на физических учениях его времени.
На русском языке сочинение это публикуется впервые.
[Закрыть]
Глава I. Что послужило появлению этого труда
Ничто не вызывало большего шума среди небольшого числа мыслящих людей, чем диспут, возникший между двумя выдающимися философами мира – отцом Мальбраншем и Арно. Не без причины относились с особым вниманием к состоявшимся между ними сражениям: верили, что если истина может когда-либо быть установлена путем диспутов, то в этом-то случае она будет установлена непременно. Я был таким же наблюдателем этих сражений, как и все прочие, без сомнения не самым умным, но, быть может, более других прилежным – по причине, о которой сейчас скажу.
Мне никогда не была симпатична окказионалистская система отца Мальбранша, хотя я и признаю охотно ее удобство и даже величие. Не могу поручиться, что не предубеждение чувств и воображения образовало у меня это неприятие идеи, столь явно противоречащей всем общераспространенным идеям. Но в конце концов я отделался от этого предубеждения – как благодаря предупреждениям, столь заботливо предпосланным картезианцами их необычным мнениям, так и еще больше благодаря известной общей осторожности, к которой я привык в отношении всех мнений, укоренившихся в моем сознании благодаря тому, что я долгое время не подвергал их внутренней проверке. Если бы для удовлетворения требований, всегда предъявляемых нам философами, я прислушивался только к своему разуму, я был бы поражен тем, что он не более благосклонен к случайным поводам, чем мое воображение и мои чувства. Но быть может, предубеждение породило в нем известный дефект. Не могу здесь ничего гарантировать. Все, что мне доступно, – это бросить вызов собственному разуму, и именно это я сделал.
Я имел довольно оснований для этого, поскольку из всех возражений, какие я мог бы сделать против системы окказионализма, отец Мальбранш в своих трудах не сделал себе ни одного; а между тем я считал, что никогда ни один философ лучше него не взвешивал все рго и contra[173]173
Рrо и contra (лат.) – «за» и «против».
[Закрыть] своих убеждений и не имел более искренних намерений в деле раскрытия людям истины. Это и вызвало спор между ним и Арно. Грозный этот противник вознамерился подорвать самые основы системы отца Мальбранша, и я льщу себя тем, что некоторые из моих сомнений счастливым образом пришли на ум также ему. Но по каким бы пунктам он ни нападал на отца Мальбранша, я с огорчением вижу, что У меня нет с ним ничего общего.
Однако какова же моя собственная точка зрения? Отец Мальбранш не предвидел моих возражений, Арно ими не воспользовался. Действительно, предубеждение против этих возражений велико, и я признаю, что, если бы их вообще не пожелали принять к изданию, это не было бы большой несправедливостью по отношению ко мне. Но поскольку я собираюсь рассмотреть эти возражения сами по себе, то не знаю, каким уж образом, но я вовсе не нахожу их достойными пренебрежения. Итак, я решил освободиться от этой неуверенности и спросить у читающей публики, что мне следует думать по этому поводу, особенно же – у отца Мальбранша, которого охотно признаю судьей в его собственном деле. Ибо во-первых, я не считаю себя способным представить ему возражения настолько веские, чтобы вынудить его скрывать свои мысли по этому поводу, а во-вторых, не считаю его способным скрывать свои мысли даже в том случае, если мои возражения окажутся исключительно вескими.
Я предлагаю вниманию читателей всего лишь сомнения и положусь на первый же ответ, который мне соблаговолят дать. Я уступлю даже в том случае, если мне его не дадут, и не истолкую превратно это молчание. Прошу, чтобы все это не было сочтено словами, в основе которых лежит ложная скромность: искренность моих слов должно подтвердить то обстоятельство, что я не теолог и не философ по роду своих занятии, а также не имею громкого имени ни в одном из видов деятельности. Следовательно, я ничуть не обязан любой ценой быть правым и с честью могу признать, что я ошибаюсь, всякий раз как мне укажут на мою ошибку.
Глава II. История окказионализма
Дабы лучше изложить свои сомнения по поводу окказионализма, я полагаю необходимым дать объяснение этой системы и даже представить ее историю, как я ее понимаю в соответствии с достаточно правдоподобными догадками.
Окказионализм по своему происхождению не так древен; по это не значит, что в силу этого значение его невелико. Декарт, один из самых глубоких умов, какие когда-либо существовали, будучи убежден, как это и следовало ожидать, в духовности нашей души, усмотрел, что единственным средством правильно ее постичь является допущение крайнего несоответствия между протяженной и мыслящей субстанцией: несоответствие это таково, что, даже если бесконечно возносить протяженную субстанцию или низводить до бесконечно низкого уровня субстанцию мыслящую, все равно никогда одна из них не совпадет с другой. Все, кто дает себе труд немного поразмыслить над этим, вынуждены признать это допущение и бывают в ужасе от абсурдности общераспространенной системы, согласно которой животным приписывается материальная мыслящая душа.
Но если душа и тело находятся в отношении такого несоответствия, каким образом движения тела вызывают мысли у души? Каким образом мысли души вызывают в свою очередь движения тела? И какая может быть связь между столь глубоко различными субстанциями? Именно эта трудность заставила Декарта изобрести случайные поводы. Он нашел, что поскольку между движением и мыслью не существует никакой естественной связи, то не может существовать истинных причин, связывающих между собой то и другое (ибо следует усматривать необходимую связь между истинной причиной и ее действием); однако, считает он, может существовать случай, или случайный повод, связывающий одно с другим, ибо бог в случае движения тела может внушать душе мысль или же, наоборот, в случае мысли души внушать движение телу. Поскольку между движениями и мыслями не существует никакой естественной связи – ведь ее никак не может быть между случайным поводом и его действием, – бог остается единственной истинной причиной и движений и мыслей и является, если можно так сказать, единственным посредником во всех взаимоотношениях тела и души.
Вслед за тем Декарт заметил, что невозможно понять, каким образом движение одного тела передается другому, причем всегда в очень точных зримых соотношениях. Он уже располагал случайными поводами, обязанными своим происхождением системе, касающейся души; он понял, что, применяя их к телам, можно будет снять все затруднения: итак, он сделал тела простыми случайными поводами для связывания между собой движений одних тел с движениями других, поскольку оставалось совершенно непонятным, каков характер связи между движением одного тела и другого, испытывающего толчок первого, и каким образом движение первого тела сообщается второму; он пожелал, чтобы бог явился здесь истинной причиной, которая в случае столкновения двух тел передавала бы что-то от движения одного из тел другому: ведь нельзя не усмотрен, необходимой связи между божественной волей и ее действием.
Таково было развитие случайных поводов в области физики: после Декарта они заполонили ее почти целиком. Отец Мальбранш явился столь же крупным философом и теологом, сколь великим философом был Декарт, и он перенес случайные поводы в теологию. Он утверждает, что ангелы явились случайными поводами поразительных творений бога, согласно Ветхому завету, а в Новом завете Иисус Христос, в своем качестве человека, явился случайным поводом для распространения благодати.
Таким образом, случайные поводы, изобретенные под давлением настоятельной нужды, были не очень стойкими при своем рождении; но мало-помалу обнаружившееся их удобство привело к значительно более широкому их применению, не вызванному требованиями первой необходимости.
В мои намерения не входит проследить их историю вплоть до теологии, которой завладели в последнее время случайные поводы: я предоставляю такую погоню за ними – если только она возможна – Арно. Я заявляю, что ограничиваюсь исключительно областью физики и озабочен лишь тем, может ли эта система найти в ней свое применение. Я не хочу также затрагивать связь между душой и телом, хотя она и имеет отношение к естествознанию: я буду говорить только о двух телах, относительно которых утверждают, будто они являются друг для друга случайными поводами к движению. Сначала я покажу, почему мне представляется, что они при этом не случайные поводы, а истинные причины; затем я докажу, что бог в данной системе не действует ни непосредственно, ни через всеобщие законы и не более является в ней верховной причиной, чем согласно общераспространенной системе. Те, кто хоть немного разбирается в этом предмете, прекрасно увидят, что все это имеет отношение к главным преимуществам, приписываемым защитниками окказионализма их очке зрения. Они утверждают, что только они дают богу действовать по методу, имеющему отличительные признаки его атрибутов – всегда с исключительной простотой, всегда через всеобщие законы, всегда в качестве господина и творца Вселенной. Но я нахожу, что по первым двум пунктам они достигают прямо противоположного эффекта, что же касается последнего, то они не добиваются никакого преимущества по сравнению с нами. Я очень прошу не удивляться моим парадоксам и подождать, если можно, с выражением своего изумления до того момента, как я представлю свои доказательства.