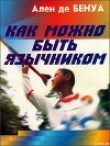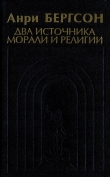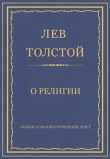Текст книги "Рассуждения о религии, природе и разуме"
Автор книги: Бернар Ле Бовье де Фонтенель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Впрочем, я сейчас выскажусь несколько точнее относительно красноречия и поэзии древних. Не то чтобы я не понимал достаточно всей опасности, грозящей тому, кто откровенно выступит по этому вопросу; но мне кажется, что отсутствие большого авторитета и недостаток внимания к моим мнениям позволяют мне свободно говорить все, что я пожелаю. Я нахожу, что красноречие шагнуло у древних дальше, чем поэзия, и Демосфен и Цицерон более совершенны в своем жанре, чем Гомер и Вергилий – в своем. Для этого я усматриваю вполне естественную причину: красноречие управляло всем в греческих демократиях и Римской республике, и в те времена было так же важно родиться с талантом оратора, как теперь – с миллионом ренты. Поэзия, наоборот, была совсем ни к чему: положение было всегда таким, при любых правительствах. Это – очень существенный порок поэзии. Кроме того, мне кажется, что в красноречии и поэзии греки уступали римлянам. Я исключаю здесь лишь один вид поэзии, в котором римлянам нечего противопоставить грекам: легко понять, что я говорю о трагедии.[153]153
Бессмертной древнегреческой трагедии в лице трех ее крупнейших представителей – Эсхила (525–456 гг. до н. э.), Софокла (497–406 гг. до н. э.) и Еврипида (485–406 гг. до н. э.) – римская литература действительно ничего не может противопоставить. Сохранившиеся фрагменты трагедий древнейших римских поэтов Ливия Андроника (III в. до н. э.) и Квинта Энния (II в. до н. э.) явно носят подражательный характер, а трагедии философа-стоика Луция Аннея Сенеки Младшего (I в. н. э.), призванные иллюстрировать философские тезисы автора, нельзя сравнить по их художественным достоинствам с великими древнегреческими образцами.
[Закрыть] Согласно моему личному вкусу, Цицерон превосходит Демосфена, Вергилий – Феокрита и Гомера, Гораций – Пиндара, а Тит Ливий – всех греческих историков без исключения.
В соответствии с нашей установленной выше системой порядок этот вполне естествен: римляне были новыми по отношению к грекам; и, поскольку красноречие и поэзия достаточно ограничены в своих средствах, должно было пройти время, в течение которого они могли бы быть доведены до высшего совершенства. Для красноречия и истории, считаю я, временем этим была эпоха Августа. Я не представляю себе ничего выше Цицерона и Тита Ливия. Это не значит, что у них нет никаких погрешностей, но я не верю, будто можно иметь меньше погрешностей при столь великих достоинствах, а ведь известно, что только таким образом можно определить совершенство человека в каком-либо искусстве. Самые лучшие стихи в мире у Вергилия; возможно, тому способствовало то, что он обладал досугом, чтобы их переделывать. В «Энеиде» есть большие отрывки совершенной красоты; не думаю, чтобы когда-нибудь можно было эту красоту превзойти. Что же до композиции поэмы в целом, манеры вводить события, умения подготовлять приятные неожиданности, благородства характеров, разнообразия происшествий, то я вовсе не буду удивлен, если в этом его превзойдут, и реши романы – настоящие поэмы в прозе – уже показали здесь свои возможности.
Я не намерен входить в критические подробности. Я хочу только здесь показать, что поскольку древние сумели в определенных вещах достичь высшего совершенства, а в других – не сумели, то надо, исследуя, достигли ли они этого совершенства, оставить всякое почтение к их великим именам, всякую снисходительность к их ошибкам – одним словом, надо рассматривать их как наших современников. Надо иметь смелость сказать, без всякой скидки, что есть известная самонадеянность у Гомера и Пиндара, надо иметь мужество признать, что смертные очи могут разглядеть погрешности в творениях этих великих гениев, надо уметь спокойно переварить, что Демосфена и Цицерона сравнивают с человеком, носящим французское имя, и, быть может, имя совсем невысокого толка: большое, колоссальное усилие разума!
По этому поводу не могу сдержать себя и не посмеяться над людскими странностями. Предрассудок на предрассудке – но ведь разумнее было бы питать предрассудки в пользу наших современников, чем в пользу древних! Современники – это новые, и, естественно, они должны цениться выше древних; такое предубеждение в их пользу имело бы под собой основание. А какие могут быть основания для предубеждения, питаемого в пользу древних? Их имена, звучащие лучше для наших ушей потому, что они греческие или латинские; их репутация первых людей своего века; огромное число их поклонников – ведь для роста этого числа было в течение длинного ряда веков довольно досуга. Гораздо лучше, если бы мы были настроены в пользу новых; но люди, не довольствуясь тем, что они теряют разум и отдаются во власть предрассудков, иногда стремятся выбрать из этих предрассудков самые нелепые.
Найдя, что древние в некоторых областях достигли предела совершенства, давайте удовлетворимся, сказав, что они не могут быть превзойдены; но не будем говорить, что с ними нельзя сравняться – а ведь это наиболее обычный способ выражения их поклонников. И почему мы не можем с ними сравняться?! Как люди, мы всегда имеем право на это претендовать. Не забавно ли, что возникает необходимость подбадривать себя в этом отношении, и мы, которые часто питаем непостижимое тщеславие, в то же время иногда бываем обуреваемы скромностью – той, что паче гордости? В самом деле, видно, нам суждено не быть обойденными ни единой смешной чертой.
Без сомнения, природа отлично помнит, как она создавала головы Цицерона и Тита Ливия. В любой из веков она порождает людей, способных стать великими, но не всегда время позволяет им реализовать свои таланты.[154]154
Относительно препятствий, мешающих большинству людей достичь величия, подробно, хоть и несколько наивно, пишет позднее Гельвеций в своей книге «Об уме» (Рассуждение III, гл. XXVII).
[Закрыть] Нашествия варваров, правительства, либо абсолютно противодействующие, либо мало благоприятствующие развитию наук и искусств, предрассудки и фантазии, принимающие бесконечно разнообразные формы, например почитание трупов в Китае, препятствующее каким бы то ни было анатомическим опытам, всеобщие войны – все это способствует (и на долгое время!) воцарению невежества и дурного вкуса. Добавьте к этому огромное разнообразие частных судеб, и вы увидите, как сплошь и рядом природа впустую посылает в мир Вергилиев и Цицеронов и как редко некоторые из них приходят к благой цели. Говорят, что небо, порождая великих государей, одновременно порождает и великих поэтов, назначение которых – их воспевать, и выдающихся историков, чтобы описывать их свершения. В самом деле, достоверно, что в любые времена историки и поэты всегда налицо, и государям остается только соизволить дать им работу.
Варварские времена, последовавшие за веком Августа[155]155
Век первого римского императора Октавиана Августа (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.), сменивший пришедшую в упадок Римскую республику, был веком расцвета римской литературы (к этому времени относится творчество Вергилия, Горация, Овидия и других поэтов и прозаиков); Август покровительствовал поэтам, призванным прославлять «божественного цезаря».
[Закрыть] и предшествовавшие нам, снабжают приверженцев античности тем из их рассуждений, которое выглядит наиболее верным. Какая причина тому, спрашивают они, что в эти века невежество было столь глубоко и непроходимо? Ведь в те времена уже не знают ни греческих, ни латинских авторов, их больше не читают. Однако в тот момент, когда снова взяли в руки эти великолепные образцы, разум и вкус возродились. Это верно, но в то же время это ровным счетом ничего не доказывает. Если бы человек, обладающий хорошими начатками знаний и литературным вкусом, внезапно заболел и болезнь отняла бы у него память обо всем этом, можно ли было бы сказать, что он стал ко всему этому не способен? Нет, он сможет восстановить у себя эти знания, когда пожелает, снова начав с азов. Если какое-нибудь лекарство внезапно вернет ему память, это сэкономит ему усилия, он снова почувствует себя знающим все то, что он знал прежде, и, чтобы развивать свои знания дальше, он должен будет всего лишь вернуться к тому, на чем он раньше остановился. Чтение античных авторов рассеяло невежество и варварство предшествующих веков. Это я отлично понимаю. Оно неожиданно дало нам представление об истинном и прекрасном, которое мы в противном случае восстанавливали бы в течение многих лет, но которое тем не менее восстановили бы в конце концов без помощи греков и римлян, если бы сильно к тому стремились. И где бы мы его почерпнули? Там же, где древние. Сами древние, раньше чем получить это представление, долго топтались на месте, разыскивая его на ощупь.
Сравнение, которое мы хотим сейчас сделать между людьми всех времен и одним-единственным человеком[156]156
В наше время такого рода повторение в развитии одного человека всего хода развития предшествующих поколений кратко определяется биологической формулой «онтогенез повторяет филогенез». Во времена, предшествовавшие веку Фонтенеля, подобное сопоставление мы находим в трудах Роджера Бэкона (XIII в.; «Opus mains», ч. I, гл. VI) и Фрэнсиса Бэкона («Новый органон», кн. I, гл. XXXIV).
[Закрыть] может быть распространено на всю эту проблему древних и новых. Хорошо развитый ум, если можно так сказать, складывается из всех умов предшествующих веков: его можно считать одним и тем же умом, воспитывающимся на протяжении всего этого времени. Итак, человек этот, живший от начала мира до наших времен, имел свое детство, в течение которого он был занят только самыми насущными своими нуждами, и свою юность, во время которой он достаточно хорошо преуспел в области воображения, то есть в поэзии и красноречии, и даже начал понемногу рассуждать, хотя и не очень солидно, но с жаром. Сейчас он находится в поре возмужалости, когда он рассуждает сильнее и просвещен больше, чем в прежние времена, но он продвинулся бы гораздо дальше, если бы его так долго не занимала неудержимая страсть к войне, научившая его презирать науки, к которым он, однако, в конце концов обратился вновь.
Очень досадно не иметь возможности довести до конца хорошо начатое сравнение. Но я вынужден признать, что наш человек совсем лишен старости: он всегда одинаково будет способен на то, что ему было доступно в юности; мало того, он все больше будет становиться способен к тому, что подобает возрасту возмужалости. Иначе говоря – мы оставим в стороне аллегорию, – люди никогда не выродятся, и здравые взгляды людей светлого ума будут, следуя друг за другом во времени, объединяться и взаимно друг друга поддерживать.
Это непрерывно растущее скопление взглядов, которым надлежит следовать, и правил, которые следует выполнять, постоянно увеличивает также трудности любого рода наук и искусств, однако, с другой стороны, возникают, как бы в возмещение за эти трудности, и новые облегчающие обстоятельства. Но я лучше объяснюсь с помощью примеров: во времена Гомера считалось великим чудом, если человек умел подчинить свою речь стихотворному размеру, долгим и кратким слогам, добиваясь одновременно какого-то разумного содержания. Поэты пользовались неограниченной свободой, и люди считали себя очень счастливыми, если получали от них взамен стихи. Гомер мог в одном стихе одновременно употребить пять различных наречий: например, ввести доризм там, где его не устраивал ионизм, или, за неудобством того и другого, перейти к аттическому диалекту, к эолийскому либо к общему, а это все равно что сразу говорить на пикардийском, гасконском, нормандском, бретонском и общефранцузском языках. Он мог растянуть слово, если оно было очень коротким, укоротить его, если оно было слишком длинным, – никто бы и пикнуть не посмел в возражение. Это причудливое смешение языков, это странное сочетание искаженных слов считалось языком богов, по крайней мере было совершенно ясно, что это не язык людей. Постепенно пришли к пониманию смехотворности этих вольностей, дозволенных поэтам. Они были одна за другой у них отняты, и в настоящее время поэты, лишенные своих древних привилегий, вынуждены говорить естественным языком. Казалось бы, это ремесло сильно пострадало и создавать стихи стало намного труднее. Но нет: ведь наши умы обогащены несчетным числом поэтических идей, переданных нам древними и всегда находящихся у нас перед глазами; мы руководствуемся огромным количеством правил и размышлений, уже сделанных до нас по поводу поэтического искусства; и, поскольку всех этих вспомогательных средств недоставало Гомеру, в компенсацию за это он справедливо пользовался всеми дозволенными ему вольностями. Правда, честно говоря, я думаю, что его положение было значительно лучше нашего: ведь все эти компенсации не очень-то определенны…
Математика, физика – это науки, ярмо которых становится для ученых все более тяжким: в конце концов следовало бы отступиться, но в то же время сильно умножается количество методов. Тот же ум, что совершенствует знания, добавляя все новые точки зрения, совершенствует и способ их восприятия, вводя всевозможные упрощения, и снабжает нас новыми средствами, помогающими охватить новый объем наук. Ученый нашего времени содержит в себе десять ученых времен Августа, но у него также в десять раз больше возможностей стать ученым.
Я охотно представляю себе природу в образе Правосудия с весами в руках – знаком того, что она взвешивает и уравнивает почти все, что ею уделено людям, – счастье, таланты, преимущества и недостатки всевозможных положений, а также трудности и легкости в области духа. В силу этого уравнивания мы хотим надеяться, что нас будут в высшей степени чтить в будущие столетия, как бы в уплату за унижение, которое мы испытываем в наш век. Будут стараться усмотреть в наших трудах красоты, о которых мы никогда и не думали; нетерпимая погрешность, в которой сейчас сознался бы сам автор, найдет смелых и непоколебимых защитников, и один бог знает, с каким презрением будут третировать в сравнении с нами образованных людей того времени (быть может, это будут американцы). Таким образом, один и тот же предрассудок унижает нас в одни времена и возносит в другие; сначала мы жертвы, потом – божества. Игра эта забавна лишь для равнодушного наблюдателя.
Я могу завести мое пророчество еще дальше. Было время, когда римляне считались людьми новыми, и они жаловались тогда на пристрастие, питаемое всеми к грекам, считавшимся древними. С нашей точки зрения, различие времени между теми и другими уже исчезло – в силу большой временной дистанции. Все они для нас – древние, и мы, ничтоже сумняшеся, обычно отдаем римлянам предпочтение перед греками, ибо, с нашей точки зрения, когда речь идет о древних и древних, неважно, если за одними из них будет признано превосходство. Но вот если бы сравнение делалось между древними и новыми, признание превосходства этих последних внесло бы большую сумятицу. Нужно иметь терпение: в длинном ряду веков мы в конце концов станем современниками греков и римлян; и легко предвидеть, что нас без особой щепетильности во многом сильно превознесут над ними. Лучшие произведения Еврипида, Софокла, Аристофана не смогут выдержать соперничества с «Цинной», «Арианой», «Андромахой», «Мизантропом»[157]157
Из перечисленных Фонтенелем произведений французского классицизма (трагедии «Цинна» Пьера Корнеля и «Ариана» его брата Томаса Корнеля, «Андромаха» Расина и «Мизантроп» Мольера) ни одно не может быть непосредственно сопоставлено по своему стилю и содержанию с трагедиями и комедиями классической древности; все они представляют собой типичное порождение классицизма со всеми вытекающими отсюда следствиями и условностями. Оценка Фонтенеля в данном случае субъективна и связана с общей тенденцией его эссе. По-настоящему общими для древнегреческой и французской классицистической трагедии были сюжеты, черпавшиеся из мифологии и древней истории.
[Закрыть] и большим числом других трагедий и комедий блестящей эпохи. Правда, надо честно признать, что вот уже около десяти лет, как это блестящее время ушло в небытие. Не думаю, чтобы «Феагена и Хариклею», «Клитофонта и Левкиппу» когда-нибудь смогли сравнить с «Киром», «Астреей», «Заидой» и «Принцессой Клевской».[158]158
Феаген и Хариклея – главные персонажи романа «Эфиопика» Гелиодора (III–IV вв. н. э.).
– «Клитофонт и Левкиппа» – название романа Ахилла Татия (III в. до н. э.).
– «Кир» – роман м-ль де Скюдери.
– «Астрея» – см. прим. [83] к «Вечеру первому» «Рассуждений о множественности миров».
– «Заида» – так же как и «Принцесса Клевская» (см. прим. [72] к «Предисловию» «Рассуждений о множественности миров»), роман Мари Мадлен де Лафайет.
[Закрыть] Существуют такие новые жанры литературы, как галантные письма, новеллы, оперы, каждый из которых дал нам выдающихся авторов и которым античности нечего противопоставить; потомками они, по-видимому, также не будут превзойдены. Разве песни – жанр, который, может быть, и отомрет, ибо ему не уделяют много внимания, – не имеются у нас в огромном количестве? Я утверждаю, что, если бы Анакреонт знал наши песни, он пел бы их чаще, чем свои собственные. Мы знаем из «Искусства поэзии»[159]159
«Искусство поэзии» («L'art poétique») – сочинение Буало (1636–1711), посвященное установлению канонов и норм французской поэзии; позднее свод этих канонов и следование им в литературе получило название псевдоклассицизма.
[Закрыть] и других сочинений того же автора, что творчество в наше время несет на себе печать благородства, сходного с древним, но оно более правдиво и точно. Я заранее решил избегать подробностей и больше не стану выставлять напоказ наши богатства, но я убежден, что мы напоминаем вельмож, не удостаивающих составить точный реестр своих сокровищ, и потому участь этих сокровищ остается им неизвестной. Если бы у великих людей нашего века было сострадание к последующим поколениям, они предупредили бы своих потомков, чтобы они не слишком их чтили и всегда стремились бы по крайней мере с ними сравняться. Ничто так сильно не задерживает прогресс, ничто так страшно не ограничивает умы, как излишнее поклонение древности. Поскольку последующие поколения посвятили себя культу Аристотеля[160]160
Аристотель был канонизирован Фомой Аквинским и другими схоластами, возводившими все некогда сказанное Аристотелем в ранг непререкаемой истины. Критике этого омерщвленного, схоластизированного аристотелизма посвящено большое сочинение Пьера Гассенди (1592–1655) «Парадоксальные упражнения против аристотеликов, в которых потрясаются главные основы перипатетического учения…»; книга эта была серьезным ударом по католическим догмам.
[Закрыть] и искали истину исключительно в его загадочных писаниях, а ни в коем случае не в природе, то не только философия не получала никакого развития, но, более того, она погрязла в трясине галиматьи и непостижимых идей, вытянуть ее из которой стоило миру глобальных усилий. Аристотель никогда не был истинным философом, но он подавил многих тех, кто стали бы истинными философами, если бы им это было дозволено. Беда в том, что если такого рода фантазии однажды получают право на существование среди людей, то это надолго; пока умы освобождаются от них, проходят века, даже после того как все признают их смехотворность. Впрочем, решительно надо сказать: нет никакой уверенности, что наши потомки так же засчитают нам в заслугу две или три тысячи лет, которые когда-нибудь будут отделять их от нас, как мы считаем это ныне заслугой греков и римлян. Есть все основания полагать, что разум с течением веков усовершенствуется, и тогда полностью рассеется грубый предрассудок в отношении античности. Быть может, ждать этого осталось недолго; быть может, почитание древних в наше время – это чистый убыток, и мы сами никогда не заслужим подобного почета. Это было бы немножко досадно.
Если после всего, что я здесь сказал, мне не простят нападок на древних в «Рассуждении об эклоге»,[161]161
«Рассуждение об эклоге» – второй из очерков (эссе), опубликованных Фонтенелем в его книге «Poésies pastorales».
[Закрыть] значит, это было преступление, которому нет пощады. Больше на эту тему я говорить не буду. Добавлю только, что если я задел минувшие века своей критикой древних эклог, то я очень боюсь не угодить нынешнему веку своими эклогами. Кроме погрешностей, которыми они изобилуют, они изображают всегда любовь – нежную, утонченную, усердную, верную до суеверия, а ведь, согласно всему тому, что я слышал, наш век плохо подходит для воспевания столь совершенной любви.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ МИФОВ[162]162
«De l'origine des fables». Время написания этого небольшого очерка спорно. Впервые он был опубликован в парижском издании сочинений Фонтенеля 1724 г. Поскольку по своим идеям очерк «О происхождении мифов» как бы примыкает к «Истории оракулов», некоторые современные исследователи (Мегрон и др.) склонны считать его предисловием к этой последней, написанным тогда же, когда и она, то есть в 1886 г. Несмотря на малый объем, сочинение это очень значительно по своему идейному составу, так как в нем дана четкая теория возникновения мифов на почве невежества людей и незрелости общественных отношений.
В переводе на русский язык сочинение это публикуется впервые.
[Закрыть]
В детстве нас столь основательно приучают к греческим мифам, что в пору зрелых рассуждений мы не находим их больше поразительными, как они того на самом деле заслуживают. Но лишь только мы отрешимся от привычного взгляда на вещи, как не можем не ужаснуться тому, что история целого народа представляет собой всего лишь груду химер, нелепостей и фантазий. Возможно ли, чтобы все это выдавалось за истину? Какой смысл был бы в том, чтобы преподносить нам это в качестве лжи? Наконец, что представляла собой эта приверженность людей к явной и смехотворной лжи и почему в дальнейшем она иссякла?
В самом деле, ведь греческие мифы ничуть не напоминают наши романы, авторы которых выдают их только за то, что они есть, но вовсе не за правдивые истории: в древности иной истории, кроме мифологической, не существовало. Уясним себе, если можно, этот вопрос и исследуем человеческий разум в одном из его самых странных проявлении: часто именно это – кратчайший путь к познанию нашего разума.
На заре человечества у народов, либо ничего не знавших о родовых традициях Сета, либо их не соблюдавших, варварство и невежество должны были быть столь велики[163]163
Фонтенель высказывает здесь мысль (позднее получившую завершение у Маркса) о том, что мифология древних народов – это плод их невежества, делавшего их беспомощными перед силами природы.
[Закрыть] что мы теперь не можем себе этого даже представить. Вообразим себе кафров, лапонов или ирокезов:[164]164
Кафры, или кафиры (арабск. kafir – «неблагодарный», «неверный»), – название, дававшееся арабами начиная с VII в. н. э. всем немагометанам, «язычникам». В более узком смысле кафрами называли раньше ряд негрских племен – ксоза, зулу и др., – принадлежащих к лингвистической группе банту (восточная часть Южно-Африканской Республики).
– Лапоны – см. прим. [149] к «Отступлению по поводу древних и новых».
– Ирокезы – группа североамериканских индейцев, в эпоху колонизации европейцами Сев. Америки обитавшая в районе Великих Озер. В настоящее время ирокезы сохранились только в резервациях.
[Закрыть] при этом мы должны принять во внимание, что народы эти, пусть и довольно древние, достигли тем не менее определенного уровня развития знаний и утонченности, первобытным людям совершенно неведомого. Чем более люди невежественны и чем меньше у них опыта, тем скорее им все представляется чудом, Первые люди были склонны усматривать чудеса почти что во всем; и, поскольку отцы обыкновенно рассказывают своим детям все виденное и совершенное, естественно, сказания эти были полны чудес.
Когда мы повествуем о чем-либо удивительном, воображение наше воспламеняется и начинает самовольно преувеличивать качества объекта повествования либо добавлять к ним недостающие, с тем чтобы сделать этот объект совсем уж чудесным – так, как если бы рассказчику было жаль оставить нечто прекрасное несовершенным. Тем более, что ему приятно чувство удивления и восхищения, вызываемое им у слушателей; он стремится подогреть это чувство, ибо, думается мне, это ужасно льстит нашему тщеславию. Обе эти причины, действующие в одном направлении, приводят к тому, что человек, совсем не собиравшийся лгать, когда он приступал к рассказу, пусть и несколько необычному, может поймать себя – если он только будет внимательно следить за собою – на лжи. Отсюда необходимо определенное усилие и особое внимание для того, чтобы говорить чистую правду. Но во что же это превратится для тех, кто по самой своей природе любит привирать и внушать другим свои мысли?
Рассказы первобытных людей своим детям, часто лживые по самому своему существу, ибо они придумывались людьми, расположенными видеть многое из того, чего не существует на свете, и к тому же сильно преувеличивать – с честными ли намерениями, как мы только что это отметили, или ради обмана, – эти рассказы бывают, как очевидно, искажены в самых своих истоках. Но разумеется, они подвергаются еще большей порче при передаче из уст в уста. Любой из них теряет при этом какие-то правдивые черточки и, наоборот, приобретает ложные штрихи, последние главным образом зa счет лживых чудес, таящих в себе особую привлекательность. И быть может, спустя одно столетие или два в них не останется не только ни капли истины, которая Могла бы присутствовать там вначале, но даже и следа первоначальной лжи.
Поверят ли тому, что я сейчас собираюсь сказать? В эти грубые времена существовала даже своего рода философия, и она сильно способствовала рождению мифов. Люди несколько более одаренные, чем другие, естественно, стремились найти причину вещей и событий, происходивших у них на глазах. «В самом деле, откуда берет начало этот вечнотекущий поток?» – так должен был вопрошать самого себя созерцатель тех времен. Конечно, это своеобразный философ, но, быть может, он был Декартом своего века. После долгого размышления его озаряет счастливая мысль: существует некто постоянно занятый выливанием этой воды из какого-либо сосуда. Но кто же ему всегда ее доставляет? Наш созерцатель не заходит так далеко в своих размышлениях.
Надо иметь в виду, что идеи эти, которые можно назвать системами тех времен, всегда отражали наиболее известные вещи. Люди часто наблюдали, как выливают воду из кувшина: в связи с этим рождалось прочное представление о боге, изливающем из кувшина воду речного потока. Легкость, с которой рождалось подобное представление, способствовала безусловной вере в него. Так, чтобы понять причины грома и молний, люди охотно представляли себе бога в человеческом образе, поражающего нас огненными стрелами: совершенно очевидно, что идея эта была заимствована человеком от очень близких и знакомых ему объектов.
Философия ранних веков основывалась на столь естественном принципе, что даже наша современная философия не имеет иного. Иначе говоря, мы склонны объяснять неизвестные явления природы с помощью тех, что постоянно происходят у нас на глазах, и переносить в область природы идеи, поставляемые нам опытом. Мы на практике, а не путем догадки открыли, что такое сила тяжести, упругость и рычаги: мы можем пустить в ход природные силы лишь с помощью рычагов, гирь и пружин. Бедняги дикари, бывшие первыми обитателями Земли, либо совсем ничего об этом не знали, либо не обращали на это ровным счетом никакого внимания. Явления природы они объясняли лишь самым грубым образом, с помощью наиболее известных им осязаемых вещей. В самом деле, что делали все мы, люди? Мы постоянно представляли себе неизвестное в образе того, с чем мы были знакомы; но, по счастью, есть все основания считать: неизвестное не может совсем уж быть непохожим на то, что нам в настоящее время известно.
От этой примитивной философии, несомненно господствовавшей в пору детства человечества, народились всевозможные боги и богини. Весьма любопытно наблюдать, как человеческое воображение порождает ложные божества. Люди отлично понимали, сколь много вещей сами они были не в состоянии сделать: они не могли метать молнии, поднимать ветры, волновать морские воды – все это было выше их власти. Тогда они вообразили себе существа более могущественные, чем они сами, обладающие властью вызывать все эти грандиозные явления. Конечно, существа эти должны были быть скроены по образу и подобию человека: в самом деле, могли ли они иметь какой-нибудь иной облик? А с того момента, как они получают облик человека, наше воображение начинает приписывать им все, что свойственно людям. И вот перед нами люди, со всеми их человеческими особенностями, разве только они всегда чуть-чуть могущественнее людей.
Отсюда – явление, быть может не ставшее до сих пор предметом особого рассмотрения: именно, в образах всех богов, изобретенных воображением язычников, преобладает идея силы и власти, и в них почти совершенно нет места ни мудрости, ни справедливости, ни всем прочим неотъемлемым атрибутам божественной природы. Не может быть лучшего доказательства глубокой древности всех этих божеств; ничто также не указывает точнее пути, проделанного нашим воображением, чтобы их создать. Первые люди не знали лучшего качества, чем телесная сила. В древнейших языках не было даже обозначения для понятий мудрости и справедливости, как это и посейчас действительно для варваров Американского континента. К тому же первая идея людей относительно верховного существа родилась при необычных обстоятельствах, а вовсе не благодаря созерцанию правильного порядка Вселенной, который первобытные люди не были в состоянии ни познать, ни оценить. Таким образом, они создали своих богов в те времена, когда не могли уделить им ничего лучшего, чем могущество, почему они и представляли их себе наподобие всего того, чему свойственна была сила, а не того, чьим отличительным признаком была мудрость. Ничего удивительного нет в том, что они придумали множество богов, часто враждебных друг другу, жестоких, вздорных, несправедливых и невежественных. Все это ничуть не противоречит идее силы и власти – единственной, какую они в состоянии были усвоить.
Боги эти, несомненно, должны были сознавать, в какое время они были созданы и какие обстоятельства их породили. В самом деле, что за жалкая власть стала их достоянием! Марс, бог войны, был поражен в битве смертным: это сильно умаляет его божественность. Однако, спасаясь бегством, он издает вопль, который было бы под силу издать лишь десяти тысячам смертных одновременно. Именно с помощью столь страшного вопля он и одолевает Диомеда.[165]165
Этот эпизод – из «Илиады» Гомера (V, 846–863).
[Закрыть] И этого, по мнению Гомера, было достаточно для спасения чести богов! При том способе, каким здесь рождается вымысел, воображение удовлетворяется малым и всегда признает божеством того, кто обладает несколько большей силой, чем человек.
Цицерон где-то сказал, что он предпочел бы, чтобы Гомер переносил качества богов на людей, чем, наоборот, качества людей – на богов. Однако Цицерон в данном случае слишком требователен: то, что он в свое время считал качествами богов, было неведомо временам Гомера. Язычники всегда творили своих богов по собственному своему образу и подобию. По мере того как люди становились более совершенными, такими же становились их боги. Древнейшие люди были очень грубы и неотесанны и больше всего почитали силу; значит, и боги должны были быть почти столь же неотесанными и лишь чуть-чуть более сильными. Таковы были времена Гомера.
Впоследствии люди начинают обретать идеи мудрости и справедливости; боги на этом выигрывают: они становятся все более мудрыми и справедливыми, по мере того как идеи мудрости и справедливости совершенствуются среди людей. И вот перед нами боги времен Цицерона, и они куда более значительны, чем боги времен Гомера, ибо гораздо более сильные философы приложили к этому свою руку. Таким образом, древнейшие люди положили начало мифам, будучи при этом, так сказать, без вины виноватыми. Люди эти были невежественны и потому усматривали в природе много чудес. О вещах, поразивших их воображение, они, естественно, повествуют с преувеличениями; переходя от одного человека к другому, такие рассказы обрастают всевозможными вымыслами. При этом создается своего рода философская система, весьма примитивная и нелепая, однако иная система и не могла тогда появиться. Ниже мы увидим, что при подобных исходных данных люди определенным образом получали удовольствие от этого самообмана.
То, что мы называем философией ранних столетий, безусловно, могло быть связано с историей фактов. Например, молодой человек падает в реку, и тело его не могут найти. Что же произошло? Первобытная философия утверждает, что река населена молодыми девушками, которые в ней царят; и, конечно же, девушки эти увлекли на дно молодого человека: что может быть более естественным? Чтобы поверить этому, нет даже нужды в доказательствах. Или человек, о происхождении которого ничего не известно, обладает каким-то особым талантом: но ведь только боги имеют качества, близкие к человеческим; поэтому никто не дает себе труда раньше узнать, кто его родители: он, несомненно, сын одного из этих богов.
Если рассмотреть внимательно большую часть этих мифов, можно обнаружить, что они представляют собой всего лишь смесь фактов с современной им философией, философия эта очень удобно разъясняет все, что есть в этих фактах чудесного, причем чудесное это как будто весьма естественно согласуется с фактами. Речь идет именно о богах и богинях, которые очень на нас похожи, надлежащим образом подобраны и выведены вместе людьми на арену жизни.
Поскольку повествования о действительных фактах, смешанные со всевозможными вымыслами, имели большой успех, получили широкое распространение вымышленные истории, в основе которых не лежало уже ни одного правдоподобного факта, или по крайней мере прекратили свое существование рассказы о каком-либо замечательном факте, если они не были снабжены всевозможными прикрасами, признанными приятными и доставляющими удовольствие. Прикрасы эти были лживыми; впрочем, иногда их и не старались выдать за правду; и, однако, все эти истории вовсе не считались сказками. То, что мы сейчас изложили, станет понятным из сравнения нашей современной истерии с древней.
Во времена, которым свойственно более высокое развитие разума, – в век Августа и в наше столетие – было принято рассуждать о действиях людей, проникать в причины этих действий и познавать человеческие характеры. Историки этих времен приспособились к таким вкусам и пуще всего остерегались писать лишь о голых и сухих фактах. Сообщения о событиях они сопровождали указанием на причины, присовокупляя к этому портретные описания действующих лиц.[166]166
Фонтенель имеет здесь в виду античных историков-биографов, таких, как Плутарх, Светоний и др.
[Закрыть] Можем ли мы считать, что эти описания лиц и причин были полностью правдоподобны, и верить в них так же, как в голые факты? Разумеется, нет: мы отлично знаем, что историки угадывали то и другое в меру своих возможностей и почти невероятно было бы все доподлинно угадать. Между тем мы вовсе не считаем чем-то нехорошим стремление историков к некоторым прикрасам, не имеющим ничего общего с правдоподобной частью рассказа. Но именно благодаря правдоподобию одной части рассказа примесь лжи, присутствие которой мы признаем в современных нам историях, заставляет нас не считать эти истории простыми вымыслами.
Точно так же после того как древние народы, идя упомянутыми здесь нами путями, обрели вкус к историям, где выводились боги и богини и вообще всевозможные чудеса, люди перестали повествовать рассказы, не снабженные подобными аксессуарами. Все понимали, что рассказы эти могли быть неправдоподобными; но в те времена такие вымыслы казались правдивыми, и этого было достаточно для того, чтобы сохранить за ними значение исторических истин.