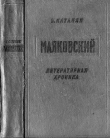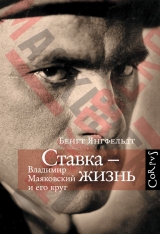
Текст книги "Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг"
Автор книги: Бенгт Янгфельдт
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Кинемо
Энтузиазм Маяковского по поводу “Кафе поэтов” иссяк быстро. Уже в начале января он сообщает Лили и Осипу, что ему надоело место, превратившееся в “мелкий клоповничек”. Лили тоже устала от Петрограда, но ее настроение поднялось после того, как они с Осипом решили отправиться в Японию вместе с Александрой Доринской. По пути они намеревались заехать в Москву навестить Маяковского, но поездка не состоялась – ни в Японию, ни в Москву.
“ Ты мне сегодня всю ночь снился, – писала ему Лили через два месяца, – что ты живешь с какой-то женщиной, что она тебя ужасно ревнует и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе не стыдно, Володенька?” Маяковский оправдывался: “От женщин отсаживаюсь стула на три на четыре – не надышали-б чего вредного”.

В письме к Лили от марта 1918 г. Маяковский с характерным преувеличением выражает разочарование по поводу того, что получил от Лили только полписьма, в то время как Лева тысячу, а мама и Эльза – сотню. Отсюда радостная мина Левы и печальная Маяковского.
Женщина, от которой Маяковский отсаживался, была художницей. Ее звали Евгения Ланг; они познакомились еще в 1911 году и теперь в Москве снова начали встречаться. Впоследствии Евгения расскажет о том, как сильно ее любил Маяковский, однако подтверждений тому, что его чувства к ней были более глубокими, чем к многочисленным другим женщинам, с которыми он встречался, нет. Любил он Лили. Первое сохранившееся письмо, где он обращается только к ней – а не к ней и Осипу, – написано в середине марта 1918 года и заканчивается словами: “В этом [письме] больше никого не целую и никому не кланяюсь” – это из цикла “Тебе, Лиля” (посвящение, украсившее титульный лист “Человека”). Начиная с этого момента тон в письмах Маяковского меняется – это уже не сухие отчеты о его жизни в Москве. В письме от 18 марта 1918 года Лили впервые называет Маяковского своим “щененком” и признается, что скучает по нему.
И все же активной стороной был Маяковский. В марте – апреле он пишет Лили три письма, на которые не получает ответа: “Отчего ты не пишешь мне ни слова? Я послал тебе три письма и в ответ ни строчки. <…> Неужели шестьсот верст такая сильная штука? Не надо этого детанька. Тебе не к лицу! Напиши, пожалуйста, я каждый день встаю с тоской: «Что Лиля?» Не забывай что кроме тебя мне ничего не нужно и не интересно”.

Сцена из фильма “Барышня и хулиган”. В главной женской роли – Александра Ребикова. Как и во многих стихах Маяковского, герой в конце фильма погибает: защищая честь учительницы, он получает смертельный удар ножом.
Лили отвечает, что ужасно скучает по нему и что он может приехать и пожить у них в Петрограде. “Ужасно люблю получать от тебя письма и ужасно люблю тебя”. Она не снимает подаренное им кольцо, на котором по кругу выгравированы ее инициалы Л. Ю. Б. – образовывая бесконечное люблюблюблюблю… На внутренней стороне выгравировано “Володя”. Кольцо, подаренное Лили Маяковскому, украшали латинские буквы WM – Wladimir Majakovskij – и внутренняя гравировка “Лиля”.

Маяковский в роли Ивана Нова в фильме “Не для денег родившийся”.
От тоски по Лиле его спасает, пишет он, только “кинемо”. В марте – апреле Маяковский спешно пишет два киносценария по заказу частной кинокомпании “Нептун”, владельцы которой, супруги Антик, были завсегдатаями “Кафе поэтов” и почитателями эстрадного таланта Маяковского.
Первый киносценарий, “Не для денег родившийся”, был создан по мотивам романа Джека Лондона “Мартин Иден”. Главную роль сыграл сам Маяковский, а часть действия разворачивалась в “Кафе поэтов”, интерьеры которого воссоздали в павильонах киностудии. Фильм демонстрировался в Москве и многих провинциальных городах в течение нескольких лет, но, к сожалению, не сохранился. Зато сохранился другой фильм, “Барышня и хулиган”, сделанный по мотивам повести итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса “Учительница рабочих”. Премьерные показы состоялись практически одновременно; и в этом фильме Маяковский играл главную роль.
Маяковский оценил свою работу для студии “Нептун” как “сентиментальную заказную ерунду”. Но это было сказано много лет спустя. На самом деле он давно интересовался художественными возможностями кинематографа. Еще в 1913 году он написал сценарий “Погоня за славою” и несколько кинематографических статей и, по некоторым сведениям, исполнил маленькую роль в фильме “Драма в кафе футуристов № 13”.
Пренебрежительный отзыв о “заказной ерунде” объясняется тем, что Маяковский был недоволен конечным результатом, – его первоначальные идеи искажались из-за многочисленных компромиссов, на которые ему пришлось согласиться. В действительности же фильм “Не для денег родившийся” был отчетливо автобиографичным, варьирующим темы поэзии Маяковского. Судьба Мартина Идена изначально похожа на судьбу Маяковского, а после того, как он превратил главного героя в поэта, параллель стала еще очевиднее. Иван Нов, который вышел из низов, влюбляется в девушку из богатой семьи. Когда она его отвергает, он пытается завоевать ее любовь сочинением стихов. Примыкает к футуристам, становится известным, а вскоре и богатым; и так же, как Маяковский, он меняет свои богемные одеяния на пальто и цилиндр.
Но счастья Иван Нов не находит, любимая по-прежнему холодна с ним. Когда она наконец признается ему в любви, он начинает подозревать, что ее интересуют только его деньги, и отказывается от нее. Собирается лишить себя жизни, но вместо этого решает в корне изменить ее. Поджигает скелет, инсценируя самоубийство, сбрасывает с пьедестала бюст Пушкина, сжигает свою элегантную одежду, надевает старую рабочую блузу и в финальной сцене удаляется, подобно чаплинскому герою, в неведомую даль.
Маяковского хвалили за актерское мастерство – в критике говорилось, что он произвел “очень хорошее впечатление и обещает быть хорошим характерным киноактером”. Сам он писал Лили: “Кинематографщики говорят, что я для них небывалый артист. Соблазняют речами славой и деньгами”.
Любляндия
Маяковский поддался соблазну: помимо того, что кинематограф представлял собой творческий вызов, он давал Маяковскому возможность сформулировать то, что он не мог выразить привычным способом из-за мучившей его творческой засухи. В апреле он пишет Лили: “Стихов не пишу <…>. На лето хотелось бы сняться с тобой в кино. Сделал бы для тебя сценарий”. Лили ответила, что она очень хочет, чтобы он написал сценарий для них обоих и чтобы, если возможно, они начали сниматься “через неделю или две”: “Ужасно хочется сняться с тобой в одной картине”.
19 мая в газете “Мир экрана” сообщалось, что “поэт В. В. Маяковский написал легенду кино «Закованная фильмой», приобретенную кинокомпанией «Нептун»”. “Ознакомившись с техникой кино, я сделал сценарий, стоявший наряду с нашей литературной новаторской работой”, – так определил Маяковский свой третий сценарий – и первый, выполненный им самим от начала и до конца. Он писал его “серьезно, с большим увлечением, как лучшие свои стихи”, вспоминала Лили.
“Закованная фильмой” – действительно оригинальное и новаторское произведение, на уровне лучших литературных экспериментов футуризма. О том, что Маяковский серьезно относился к этой работе, свидетельствует тот факт, что в 1926 году он написал вариацию на ту же тему, “Сердце экрана”; фильм, однако, снят не был.
Главный герой – художник. Ему скучно, он бродит по городу. Заговаривает с женщиной, которая внезапно становится прозрачной. Вместо сердца у нее – шляпа, шляпные булавки и ожерелье. Когда он приходит домой, жена тоже становится прозрачной: у нее вместо сердца кастрюли. Встретив друга, он выясняет, что у того вместо сердца бутылки и карты.
На бульваре художника останавливает цыганка и хочет ему погадать. Он ведет ее к себе в мастерскую, начинает рисовать ее портрет, и она тоже становится прозрачной – у нее вместо сердца монеты.
По всему городу висят афиши нового фильма “Сердце экрана”. На них изображена балерина, которая держит в руках сердце. Фильм идет с полным аншлагом. Смотрит его и художник. Когда показ заканчивается и публика покидает зал, художник приближается к экрану и продолжает аплодировать. Балерина сходит к нему с экрана.[6]6
Тот же прием позднее использовал Вуди Аллен в фильме “Пурпурная роза Каира”, в котором киногерой внезапно заговаривает с женщиной из публики и сходит с экрана. Она столько раз смотрела фильм, что он в нее влюбился. Пара покидает кинотеатр, актеры и продюсеры в полном недоумении.
[Закрыть] Он ведет ее на улицу, там дождь, шумно. Балерина дрожит, она снова исчезает, скрывшись за закрытой дверью. Художник отчаянно стучит, но ему не открывают.
Он заболевает, служанка отправляется за лекарством в аптеку. На обратном пути она роняет пакет, пакет рвется, и она заворачивает лекарство в упавшую на тротуар киноафишу. Когда художник разглаживает афишу, балерина оживает и снова оказывается рядом. Он счастлив и мгновенно выздоравливает. Но в эту же секунду она исчезает со всех афиш и экранов. В кинокомпании паника – фильм давал очень хорошие сборы.

Актриса в “Закованной фильмой” в исполнении Лили сходит с киноэкрана, но хочет обратно. Не найдя экрана, Маяковский вешает на стену скатерть (см. стр. 113).
Художник приглашает балерину к себе на дачу, кладет ее на диван, сворачивает в трубочку, как афишу, и осторожно помещает в машину. Они приезжают в загородный дом. Балерина начинает тосковать по кино и бросается на все, что напоминает экран. В конце концов художник срывает со стола скатерть, круша посуду, и вешает ее на стену. Балерина становится в позу и просит достать ей настоящий экран; попрощавшись, он идет ночью в пустой кинотеатр, где вырезает экран ножом.
В то время на дачу приезжает влюбленная в художника и ревнующая цыганка. Когда балерина гуляет в саду, цыганка набрасывается на нее с ножом. Прислонившаяся к дереву балерина снова превращается в афишу. Цыганка в ужасе, она спешно едет на киностудию и сообщает, где находится балерина. Однако сразу после того, как цыганка уходит, балерина опять оживает.
Она ждет художника. Вместо него появляется “человек с бородой” – тот самый, что однажды предложил кинокомпании снять “Сердце экрана”, – его окружают кинозвезды; их всех привела цыганка. Балерина рада, она скучала по ним. Человек с бородой окутывает ее кинопленкой, и она растворяется в ней. Все уходят, кроме цыганки, которая падает в обморок.
Когда художник приносит экран, балерины уже нет. Он возвращает к жизни цыганку, она рассказывает обо всем, что случилось. Он бросается к афише и вдруг видит название киностраны, напечатанное внизу мелким шрифтом. В финальной сцене герой стоит у окна поезда, отправляясь на поиски этой страны. По воспоминаниям Лили, страна называлась что-то вроде “Любляндии”.


Тема фильма, так же как и многих стихотворений Маяковского, – неразделенная любовь. Тот факт, что героиня – балерина, подчеркивает автобиографичную черту и ставит его в один ряд с другими произведениями из цикла “Тебе, Лиля”.
Левашово
В начале июня работа над “Закованной фильмой” была закончена. Фильм стал символическим началом нового этапа в отношениях между Лили и Маяковским: 17 июня Маяковский покинул Москву, а через неделю прописался по петроградскому адресу Бриков – ул. Жуковского, 7, где в той же парадной снял однокомнатную квартиру, такую крохотную, что ванна помещалась только в прихожей.
Реальная Любляндия называлась Левашово, это был поселок под Петроградом, где Лили, Осип и Маяковский втроем проводили отпуск. Мечта Маяковского сбылась, он наконец обладал женщиной, которую три года любил и которая не любила его – или, если любила, не допускала проявлений своих чувств. “Ведь она долго держала его на расстоянии, – вспоминал Роман Якобсон. – Но у него была железная выдержка”.
В Левашове они сняли три комнаты с полным пансионом. Маяковский рисовал пейзажи, они собирали грибы, а по вечерам играли в карты, но не на деньги: определенное количество очков значило, что нужно помыть бритву Маяковского, бо́льшее – обязывало выгнать комаров из комнаты вечером; самым тяжелым наказанием был поход на станцию за газетой в дождливую погоду. В перерывах между рисованием, собиранием грибов и игрой в карты Маяковский работал над пьесой “Мистерия-буфф” – революционной феерией, которая была поставлена к первой годовщине Октябрьской революции.
Что побудило Лили открыто стать женщиной Маяковского и почему именно сейчас? То, что Маяковский гениальный поэт, она признавала и раньше, но его назойливое ухаживание ее по большей части мучило. “Только в 1918 году я могла с уверенностью сказать О. М. о нашей любви”, – объясняла она, добавляя, что немедленно бросила бы Володю, если бы Осипу это пришлось не по душе. Осип отвечал, что ей не нужно бросать Володю, но она должна обещать, что они никогда не будут жить по отдельности. Лили сказала, что не допускает даже мысли об этом: “Так оно и получилось: мы всегда жили вместе с Осей”.
Такими были правила игры в этом союзе.
Возможно, что если б не Ося, я любила бы Володю не так сильно, – вспоминала Лили. – Я не могла не любить Володю, если его так сильно любил Ося. Ося говорил, что для него Володя не человек, а событие. Володя во многом перестроил Осино мышление <…> и я не знаю более верных друг к другу, более любящих друзей и товарищей.

Роман Якобсон, безуспешно ухаживавший за Эльзой, приблизительно 1920 г.
Каким бы искренним взгляд Лили на Маяковского ни был, он преломлялся в пенсне Осипа. Жить без Осипа она не могла, он был стержнем ее жизни – но не мог удовлетворить ее эмоциональные потребности. Если он и любил ее, то не горячей, самозабвенной любовью Маяковского. Что побудило Лили ввести в их семью Маяковского? Тщеславие? Ведь он написал для нее столько замечательных стихотворений! Но он продолжал бы посвящать ей стихи в любом случае, тем более что страдание и боль были важнейшим горючим для его вдохновения. Ей нужна была его слава? Но в эту пору Маяковский еще не стал знаменит, и денег у него тоже не было. Может быть, все же именно любовь заставила Лили после двух с половиной лет сомнений отдать себя мужчине, которого до съемок в мае она не видела полгода. Эльза, навещавшая сестру в Левашове, тоже удивилась:
Подсознательное убеждение, что чужая личная жизнь нечто неприкосновенное, не позволяло мне не только спросить, что же будет дальше, как сложится жизнь самых мне близких, любимых людей, но даже показать, что я замечаю новое положение вещей.
Земляничка, выходи за меня замуж!
Летом 1915 года, после смерти отца, Эльза с матерью переехали в квартиру в Замоскворечье. Одновременно Эльза начала изучать архитектуру на Московских женских строительных курсах. Свидетельство об окончании обучения датировано 27 июня 1918 года. Через неделю она должна была уехать в Париж, где собиралась выйти замуж за французского офицера. Приезд Эльзы в Левашово был, таким образом, не просто визитом вежливости – она заехала к сестре попрощаться.
Эльза уезжала вместе с матерью. В Париж они ехали через Стокгольм, а по пути туда одну ночь ночевали в Петрограде у Лили. “В квартире никого не было, – вспоминала Эльза, – именно тогда началась совместная жизнь Лили и Володи, и они уехали вдвоем в Левашово, под Петроградом. Для матери такая перемена в Лилиной жизни, к которой она совсем не была подготовлена, оказалась сильным ударом. Она не хотела видеть Маяковского и готова была уехать, не попрощавшись с Лилей. Я отправилась в Левашово одна”.
На следующий день Лили приехала в город попрощаться, “будто внезапно поняв, – впоминала Эльза, – что я действительно уезжаю, что выхожу замуж за какого-то чужого француза”. Маяковский с ней не приехал, так как Елена Юльевна по-прежнему относилась к нему отрицательно. Стояла невыносимая жара, в городе бушевала холера, на улицах гнили фрукты, которые никто не решался есть.
С немыслимой тоской смотрю с палубы на Лиличку, которая тянется к нам, хочет передать нам сверток с котлетами, драгоценным мясом. Вижу ее удивительно маленькие ноги в тоненьких туфлях рядом с вонючей, может быть, холерной, лужей, ее тонкую фигурку, глаза…
На самом деле Лили и мать предпочли бы видеть Эльзу женой Романа Якобсона, который несколько лет ухаживал за ней так настойчиво, что
Забыл фольклор, забыл санскрит,
и ночь, и день – все у тебя сидит.
В грустях, за неименьем рома,
огромную бутыль он выпил брома, —
как писал он в шуточном послании Эльзе.
Но как бы Эльзе ни льстило внимание Романа, на его предложение выйти за него замуж она ответила отказом. Впоследствии она опишет его сватовство в повести “Земляничка” (Москва, 1926), в главе “Земляничка, выходи за меня замуж”, где Роман выведен под именем Ника:
Ника и Земляничка сидели друг против друга за самоваром и пили чай. С вареньем и сушками. Они только что бурно спорили о новой литературе и теперь с удовольствием прихлебывали чай и молчали.
Отодвинув пустой стакан, Ника, наконец, заговорил:
– Отчего ты не хочешь за меня замуж выйти?
Земляничка долила чайник и поставила его на самовар.
– Ну что ты, Ника, как я за тебя замуж выйду.
– Да очень обыкновенно и просто. Ты за меня замуж выйти должна, это же ясно.
Земляничка молчала.
– Тебе будет очень хорошо. Я тебе буду все книжки носить, которые захочешь, поедем вместе куда угодно…
Земляничка молчала.
– Послушай Земляничка, ведь это же глупо с твоей стороны! Но как ты не понимаешь? Еще когда мне шесть лет было, и я тебя ждал в Вешняках на полянке в лесу, и ты не пришла, я так плакал, словно сломал самый любимый паровоз! Уже тогда все было ясно. Не будь такой глупой и упрямой, выходи за меня замуж.
Мсье Триоле
Выбор Эльзы пал не на Романа, а на французского офицера-кавалериста Андре Триоле, приехавшего в Россию в мае 1917 года в составе военной миссии союзнической Франции. Обстоятельства их знакомства неизвестны, но есть предположение, что оно произошло у кузенов Осипа братьев Румер, которые жили в одной парадной с родителями Эльзы. Андре Триоле происходил из богатой семьи (производство фарфора в Лиможе) и интересовался главным образом женщинами, лошадьми и яхтами. Он одевался очень элегантно. Вполне вероятно, что этот денди смог пленить Эльзу, но любила ли она его – это более сомнительно; близкие Эльзы тоже не испытывали особого энтузиазма по поводу этого союза. Когда в конце 1917 года она в обществе Триоле приехала в Петроград навестить Бриков, Маяковский и Лили, игравшие в соседней комнате в карты, вышли “посмотреть… без комментариев”.
Отъезд и брак Эльзы окружены множеством вопросительных знаков. Почему Эльза так скупо упоминает об этих жизненно важных событиях в своих воспоминаниях? Почему отсутствуют свидетельства других людей, например Лили? Почему Эльза не вышла замуж в Москве, а уехала для этого в Париж? Отсутствие точных фактов прямо пропорционально количеству вопросов, которые неизбежно возникли бы при более подробном изложении дела.
Прежде чем покинуть Москву, Эльза с матерью избавились от мебели, в том числе и от рояля, в результате чего “семья рабочего”, которая, согласно закону об “уплотнении”, уже проживала в их квартире, получила бо́льшую площадь. При этом в своих воспоминаниях Эльза утверждает, что через три-четыре месяца они намеревались вернуться. Куда? В квартиру без мебели и музыкального инструмента, с которым была неразрывно связана жизнь Елены Юльевны? И с кем – с французским офицером?

Последняя из известных семейных фотографий, сделанных до отъезда Эльзы с матерью из России летом 1918 г. На снимке: Лев Гринкруг, Эльза, ее подруга Тамара Беглярова, Елена Юльевна и Лили.
Эти мысли Эльза явно приписала себе позднее. Когда она работала над воспоминаниями, она была видным членом французской компартии и не хотела выглядеть предательницей в пору, когда будущее Советской России было в опасности.
В действительности Эльза с матерью бежали из большевистской России, в чем она впоследствии призналась в частной беседе: она “ненавидела революцию”, которую называла “крайне неприятной”. Под этим она имела в виду не только жестокость и насилие, но и внезапно обрушившиеся бедность, голод, отсутствие комфорта, бытовую нужду. Для избалованной девушки из буржуазной семьи все это было малопривлекательно. Вполне вероятно, что она искала контакты с иностранцами в Москве, надеясь, что кто-нибудь поможет ей покинуть страну.
Но кто выступал главным инициатором отъезда? Эльза? Или мать, которая, как и младшая дочь, была от большевиков в ужасе? Весной и летом 1918 года резко ухудшилось снабжение в стране: “…в дни торжества материализма материя превратилась в понятие, пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопросы”, – сформулировал этот парадокс Борис Пастернак в романе “Доктор Живаго”. Вскоре стало понятно, что страна движется к диктатуре: буржуазную прессу запретили сразу после революции, а летом 1918 года были запрещены и социалистические газеты. Одновременно вспыхнула Гражданская война, вследствие которой территория молодой Советской Республики сократилась до размеров Московского княжества в XV веке.
В этой ситуации многие представители высших классов предпочитали покинуть страну. К ним принадлежали близкие друзья Елены Юльевны – семья Якобсон, которая уехала из России летом 1918-го, взяв с собой Сергея, младшего брата Романа. Сам же Роман в это время скрывался в деревне из-за членства в кадетской партии. Чаша терпения Елены Юльевны и Эльзы переполнилась, когда их “уплотнили”, подселив новых соседей – не “семью рабочего”, как писала в воспоминаниях Эльза, а пятерых красногвардейцев, которые терроризировали обеих женщин до такой степени, что им приходилось каждую ночь баррикадировать двери.
Помимо этих практических соображений, была еще одна причина, повлиявшая на решение матери и дочери эмигрировать: Владимир Маяковский. Эльза проиграла Маяковского своей главной сопернице Лили, предложение Романа Якобсона она отклонила, а к другим кавалерам, в числе которых значился, к примеру, Виктор Шкловский, была равнодушна; и, таким образом, в романтическом плане не оставалось ничего, что удерживало бы ее в России.
Что же касается Елены Юльевны, она недолюбливала Маяковского не только потому, что он был невоспитан и груб, но и потому, что его связь с замужней Лили была в ее глазах глубоко аморальной; после того как Маяковский официально сошелся с Лили, противоречие между вольным поведением дочери и – в понимании Лили – мещанством матери крайне обострилось. Так что Елену Юльевну тоже ничто не держало в России. Ее муж умер в 1915 году, а за полгода большевистской власти весь ее мир разрушился, и материально и идеологически. Решение об эмиграции облегчалось тем, что в Лондоне жил ее родной брат, служивший управляющим отделением Ллойдовского банка. Если у Эльзы желание уехать из Советской России действительно могло быть продиктовано чувствами к будущему мужу, то в случае Елены Юльевны нет сомнений: записанные в ее паспорте слова о “сопровождении дочери” были всего лишь удобным предлогом, а на самом деле она ехала в Лондон, чтобы там остаться.