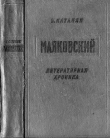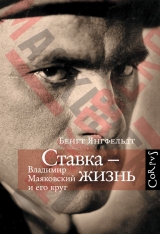
Текст книги "Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг"
Автор книги: Бенгт Янгфельдт
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Тупик
Шведский пароход “Онгерманландия”, на котором Эльза с матерью покидали Россию, уходил из Петрограда 10 июля 1918 года. По прибытии в Стокгольм судно немедленно посадили в карантин, поскольку среди пассажиров были больные холерой. “Незабываемо отвращение, которое во мне вызвали шведские еды, особенно пирожные…” – вынесла Эльза приговор шведской кухне. Пожив несколько недель в Стокгольме, Эльза с матерью уехали в Берген, откуда намеревались продолжить путешествие морем до Лондона, где их ждал брат Елены Юльевны. (Ехать через Германию нельзя было из-за войны.) Однако вскоре они поняли, что оказались в тупике: чтобы получить разрешение на въезд во Францию, им нужно было прожить определенное время в Англии, но для того, чтобы им открыли въезд в Англию, следовало документально подтвердить, что их впустят во Францию: “Разрешение ехать через Англию недостаточно. Нужно разрешение въехать в Англию и остаться там в ожидании разрешения из Франции”, – телеграфировала Елена Юльевна из Бергена брату в Лондон 12 августа.
В течение лета Лео Берман связывается с различными инстанциями, чтобы попытаться решить эту проблему, но без результата. В конце концов 14 октября он пишет письмо заместителю министра иностранных дел, в котором выражает надежду, что тот примет во внимание “исключительные обстоятельства данного дела, причиняющие тяжелые страдания бедной вдове и ее молодой дочери, а также оказывают вредное воздействие на доблестного французского офицера, жениха мисс Каган”.

Фото Эльзы в Стокгольме летом 1918 г., когда произошло удручающее знакомство со шведскими кондитерскими изделиями.
В данное время, как сообщалось в письме, Андре Триоле находился в рядах французских экспедиционных войск, высадившихся в Архангельске с целью освобождения России от большевиков, а это означало, что нужда в выдаче французской визы отпала. Однако сестра и племянница Лео Бермана не могут вернуться в Москву, поскольку их дом конфискован большевиками и они лишились средств к существованию. Оставаться в Бергене они тоже не могли, в связи с чем Берман просил для них разрешения поселиться в Англии; как служащий банка Берман ручался, что его родственницы располагают “существенными средствами”, и обещал взять на себя заботу об их обустройстве в Англии.

Эльза и Андре в своем доме на Таити.
Письмо принесло результат: Елена Юльевна и Эльза получили английские визы, и спустя почти четыре месяца после отъезда из Петрограда, 11 ноября 1918 года, они ступили на английскую землю. В начале 1919 года в Париж вернулся Андре Триоле, но Эльза все еще оставалась в Лондоне, и свадьба состоялась только в августе. Промедление объяснялось, по-видимому, тем, что Эльза колебалась; похоже, что чувства Андре не нашли полной взаимности. Елена Юльевна, со своей стороны, думала, что сомневается Андре и что причина его колебаний – антисемитизм: “Андре недостаточно любит тебя, чтобы жениться на русской еврейке”. Однако здесь она ошибалась – противился браку не Андре, а его отец. Когда же Андре, сославшись на сопротивление отца, предложил жить en concubinage, как любовники, Эльза отказалась, объяснив, что “по сути она очень буржуазна”.
В конце концов Андре и его матери удалось уговорить отца, и бракосочетание состоялось в Париже 20 августа 1919 года. По финансовой договоренности Андре получал 1500 франков в месяц. Прочие пункты договора касались запланированного путешествия: 50 тысяч франков помещались на счет в Banque d’Indochine на Таити, а 10 тысяч выделялось на поездку. В октябре того же года молодожены отправились во французскую колонию, где Андре собирался купить плантацию.
Хорошее отношение к лошадям и плохое к Горькому
Среди поклонников Лили значился Яков (Жак) Израилевич, вращавшийся в их с Осипом кругах еще до революции. “Настоящий бретер, очень неглупый, очень по-своему культурный, прожигатель денег и жизни”, по определению Романа Якобсона, рассказывавшего о том, как однажды Жак дразнил его за то, что он флиртовал с его молодой тетушкой. Когда Якобсон в шутку спросил, мол, неужели он думает, что честная женщина может позволить себе что-либо подобное, Жак ответил: “Кто смел назвать мою тетку честной женщиной?”
Во время съемок “Закованной фильмой” Жак забрасывал Лили любовными письмами, такими длинными, что она не дочитывала их до конца и оставляла без ответа. Маяковскому она ничего не говорила об эпистолярных атаках Жака, но однажды в Левашово пришло письмо, в котором Жак требовал немедленного свидания. Маяковский пришел в ярость от ревности и отправился в Петроград вместе с Лили и Осипом.
Мы были дома, когда пришел Володя и сказал нам, что встретил И[зраилевича] на улице (надо же!), что бросился на него и произошла драка, – рассказывала Лили. – Подоспела милиция, обоих отвели в отделение. И. сказал, чтобы оттуда позвонили Горькому, у которого И. часто бывал, и обоих отпустили. Володя был очень мрачен, рассказывая все это, и показал свои кулаки, все в синяках, так сильно он бил И.
После этого “Горький страшно возненавидел Маяковского”, вспоминал Якобсон.
Эпизод свидетельствует о силе ревности Маяковского, но и о чувствах, которые двадцатисемилетняя Лили по-прежнему вызывала у мужчин. То, что ее связь с Маяковским теперь стала “официальной”, порождало еще больше сплетен, тем более что Маяковский тоже не славился особой добродетельностью. Слухи о “любовном треугольнике” давали повод для злобной клеветы. Если в истории с Жаком Израилевичем Горький был второстепенным персонажем, то в другой драме, разыгравшейся примерно в это же время, он стал главным действующим лицом.
Отношения между Маяковским и Луначарским поначалу были очень хорошими. Однако Маяковский, как мы видели, не разделял взгляды большевиков на искусство, и поэтому, по словам Луначарского, их связь со временем “несколько охладилась ввиду разницы взглядов на многое”. Но до разрыва дело не доходило, а с Осипом конфликтов не было вообще. С Луначарским Маяковского связывали еще и интересы менее формального характера – при каждом удобном случае они играли вместе на бильярде. Поэтому Лили растерялась, заметив однажды, что при встрече с ними Луначарский едва поздоровался. Она рассказала об этом Шкловскому, который с удивлением отозвался: неужели она не слышала, что Горький рассказывает “всем” о том, как Маяковский “заразил сифилисом девушку и шантажировал ее родителей”? Девушкой была не кто иная, как Соня Шамардина, а источником слухов – ее самоназначенный опекун Корней Чуковский, бдительно охранявший ее добродетель зимой 1914 года, когда она близко общалась с Маяковским.

Максим Горький. Рисунок Юрия Анненкова, 1920 г.
В сопровождении Шкловского Лили немедленно отправилась к Горькому, который был неприятно задет разговором. Барабаня пальцами по столу, он говорил: “Не знаю, не знаю, мне сказал очень серьезный товарищ”, но при этом отказывался называть имя “товарища” – то есть Чуковского, – который в свою очередь утверждал, что получил информацию от одного московского врача. Горький пообещал узнать его адрес. Через две недели, так и не получив от Горького никаких сведений, Лили отправила ему письмо: “Алексей Максимович, очень прошу сообщить мне адрес того человека в Москве, у которого вы хотели узнать адрес доктора. Я сегодня еду в Москву с тем, чтобы окончательно выяснить все обстоятельства дела. Откладывать считаю невозможным”. Горький вернул Лили ее письмо. На обороте листа он крупными буквами написал, что, к сожалению, ему не удалось узнать “ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выехало на Украину”. Лили рассказала обо всем Луначарскому, попросив его передать Горькому, что Маяковский не избил его только потому, что тот стар и болен.
Слух был беспочвенным, сифилисом Маяковский не болел и поэтому заразить никого не мог. Но даже если допустить, что в слухе имелась доля истины, зачем Горький распространял его, причем довел до самого комиссара народного просвещения? Ведь на протяжении ряда лет Маяковский и Горький занимали близкие позиции как в литературных, так и в политических вопросах. Горький рано разглядел в Маяковском обещающего поэта, его издательство “Парус” опубликовало сборник “Простое как мычание” (1916) и поэму “Война и мир” (1917), Маяковский, как и Осип, сотрудничал в его газете “Новая жизнь”. Горький часто бывал у них на улице Жуковского.
Не помню, сколько раз он был у нас, не помню, о чем разговаривали, – вспоминала Лили. – Помню только, что мне он не очень понравился. Не нравилась его скромность, которой он кокетничал и которая показалась мне противной, не нравилось, как он пил чай, прислонясь к уголку стола, как посматривал на меня. Помню, что без особого азарта играли с ним в тетку.
Описание отношений с Горьким касается более позднего периода и, возможно, не отражает в точности того, какими они были в 1918 году, однако причина, по которой Горький изменил свой взгляд на Маяковского, определена с психологической достоверностью: “Горький не мог простить Маяковскому, что тот улетел из-под его крыла, а И[зраилевич] и Ч[уковский] с восторгом помогли этой ссоре”.
Девятого июня 1918 года “Новая жизнь” опубликовала стихотворение Маяковского “Хорошее отношение к лошадям” – о кляче, которая падает на улице и умирает, – обычная картина в то голодное лето. Публикация стихотворения – последний пример сотрудничества между Горьким и Маяковским; после того как Горький участвовал в распространении слухов о сифилисе, отношения между ними испортились навсегда. “Я не знаю ни одного человека, о котором он бы говорил более враждебно, чем о Горьком”, – вспоминал Роман Якобсон, весной 1919 года ставший свидетелем проявления этой враждебности. Маяковский выиграл в карты и пригласил Якобсона в частное полулегальное кафе в Камергерском переулке. За соседним столиком сидел Яков Блюмкин, который летом 1918 года убил немецкого посла фон Мирбаха, но уже вышел из тюрьмы. Блюмкин был левым эсером, чекистом и настоящим революционным романтиком, его часто видели размахивающим револьвером – так, он угрожал, в частности, Осипу Мандельштаму, осуждавшему его за работу в ЧК. При этом Блюмкин был образован, изучал древнеиранские языки и в тот вечер обсуждал с Якобсоном эпос “Авеста”, святые писания иранских народов. Но вскоре, как вспоминает Якобсон, разговор принял другой оборот,
и Володя предлагал Блюмкину вместе устроить вечер и выступить против Горького. Вдруг вошли чекисты проверять бумаги. Подошли к Блюмкину, а он отказался показать документы. Когда начали на него наседать, он сказал: “Оставьте меня, а то буду стрелять!” – “Как стрелять?” – “Ну, вот как Мирбаха стрелял”. Когда они отказались отпустить его, он пригрозил чекисту, стоявшему у двери, и вышел из кафе.
По словам Якобсона, Маяковский в тот раз “очень зло острил по поводу Горького”.
КОМФУТ
1918–1920
Бесшабашная демагогия большевизма возбуждает темные инстинкты масс.
Максим Горький, апрель 1918 г.

Типичное “окно” РОСТА. Ноябрь 1920 г.
В период расцвета основанного Маяковским, Бурлюком и Каменским анархистского “кафе-футуризма” было создано государственное учреждение, которое в корне изменит правила игры для русского авангарда, – ИЗО (Отдел изобразительных искусств) Наркомпроса. Инициатива была прямым следствием враждебной реакции деятелей культуры на призыв большевиков в ноябре 1917 года. В ответ Луначарский в условиях строгой секретности учредил лояльный по отношению к новой политической власти орган, главной задачей которого являлось реформирование художественного образования.
Возникший в Петрограде в январе 1918 года ИЗО поначалу насчитывал семь членов, среди которых были такие известные художники, как Натан Альтман и Давид Штеренберг. Показательно, что на данный момент только семь человек захотели, или рискнули, сотрудничать с большевиками; но любопытно и то, что на эту “семерку” – так их называли в печати – нападали и консервативно и радикально настроенные коллеги, обвиняя в “предательстве” искусства. Тем не менее появление ИЗО возымело два важных последствия: во-первых, созданный после Февральской революции демократический Союз деятелей культуры в одночасье лишился влияния, во-вторых, была упразднена Академия художеств.
Красный террор
“Хмеля революции все меньше, – писал критик Евгений Лундберг в июне 1918 года, – строгости – так много, что, кажется, стареешь от недели к неделе”. Это было на редкость точное наблюдение. Летом 1918-го произошел ряд событий, приведших к серьезным внутриполитическим изменениям. Вспыхнула Гражданская война, началась иностранная интервенция; в июне из рабочих советов вывели всех правых и центристских эсеров, так же как и меньшевиков, – следовательно, помимо большевиков, осталась только одна легальная партия, левые эсеры; после попытки свергнуть большевистское правительство во время V съезда Советов в начале июля были исключены и они; в течение лета почти все небольшевистские издания оказались под запретом, царскую семью убили, были убиты большевистские лидеры Володарский и Урицкий, а 30 августа эсерка Фанни Каплан совершила покушение на Ленина; как следствие этих событий в начале сентября ЧК обнародовала декрет о красном терроре.
Таким образом, осенью 1918 года большевики получили монополию на власть, а населению пришлось сделать окончательный выбор: за или против. Весной еще существовала более или менее свободная межпартийная миграция, но теперь это ушло в прошлое. Осталось только два лагеря – красные и белые. Кроме того, большевики сейчас крайне нуждались в поддержке, им нужно было вести политику, которая была бы более привлекательной для других социалистов; они также понимали, что невозможно провоцировать интеллигенцию, как прежде.
Политически это означало более толерантное отношение к другим социалистическим партиям. Меньшевики в ответ признали Октябрьскую революцию как историческую необходимость и выразили поддержку вооруженным силам советского правительства в борьбе с иностранной интервенцией. Большевики в свою очередь позволили меньшевикам возобновить политическую деятельность и выпустили из тюрем некоторых политзаключенных. Вскоре примеру меньшевиков последовали эсеры. Таким образом, на некоторое время было установлено перемирие, хотя все знали, кто определяет правила игры.
В связи с политической консолидацией осенью 1918 года большевики призвали творческую интеллигенцию сделать выбор, и немалое число прежних скептиков и критиков сдали позиции. Это отнюдь не означало, что все стали большевиками, но большевизм представлялся многим более приемлемым, чем то, что предлагала “белая” сторона.
Особенно интересна реакция Максима Горького, до этого выступавшего в “Новой жизни” с непримиримой критикой политики большевиков в статьях под общим названием “Несвоевременные мысли”. В апреле 1918 года он даже отказался от участия в дискуссии с Григорием Зиновьевым, председателем Петро градского совета, аргументируя, что “рабочих развращают рабочие, подобные Зиновьеву”, что “бесшабашная демагогия большевизма возбужда[ет] темные инстинкты масс” и что “советская политика – предательская политика по отношению к рабочему классу”.
Но в сентябре Горький изменил свою позицию, объяснив, что “террористические акты против вождей Советской республики побуждают [его] окончательно вступить на путь тесного с ней сотрудничества”. Еще через месяц он председательствовал на митинге, на котором представители большевиков призывали творческую интеллигенцию оказать поддержку режиму. Одним из ораторов был не кто иной, как Зиновьев, описавший политическую ситуацию следующим образом:
Тем, кто желает работать вместе с нами, мы открываем дорогу. <…> Но в такое время, какое мы сейчас переживаем, нейтральность невозможна. <…> Если кто-нибудь из представителей интеллигенции думает, что можно быть нейтральным, он глубоко ошибается. <…> Школа не может быть нейтральной, искусство не может быть нейтральным, литература не может быть нейтральной. <…> Товарищи, выбора нет. <…> И я бы советовал вам, вместо того, чтобы спасаться под дырявым зонтиком нейтральности, идти под родную Российскую кровлю, идти к рабочему классу.
Так же, как политические лидеры обращались к социалистическим партиям, ИЗО теперь обратился к “рабочим и художникам”, приветствуя тех, кто через год после революции был готов “служить социалистическому отечеству”. Однако призыв касался только тех художников, которые “ломают и разрушают старые формы, чтобы создать новое”. Иными словами, эстетический курс был задан: реалисты и представители других традиционных школ могли не беспокоиться!
На призыв откликнулись многие, и в течение осени членами московских и петроградских коллегий стали такие выдающиеся художники, как Казимир Малевич, Павел Кузнецов, Илья Машков, Роберт Фальк, Алексей Моргунов, Ольга Розанова, Василий Кандинский и другие. ИЗО стал бастионом художников-авангардистов – или “футуристов”, как их часто называли. К этому времени термин “футуризм” приобрел более широкое значение, чем до революции и особенно до войны, когда название использовали главным образом кубо-футуристы и другие группы, сами провозгласившие себя футуристами. Начиная с осени 1918 года “авангард”, “левое искусство” и “футуризм” стали более или менее синонимичными понятиями.
И Маяковский и Осип придерживались социалистических взглядов, но их позиция была ближе к меньшевизму и Горькому, нежели к коммунизму. Тем не менее осенью 1918 года они тоже вступили в ИЗО. Это означало не только новую политическую ориентацию, но и нарушение принципа свободы искусства от государства – одного из главных пунктов футуристических манифестов, напечатанных в “Газете футуристов” в марте того же года.
Одним из первых вопросов, обсуждавшихся на петроградской коллегии ИЗО, была необходимость создания органа, где можно пропагандировать свои идеи. В декабре 1918 года вышел первый номер еженедельной газеты “Искусство коммуны”. В январе 1919-го его дополнило московское издание подобного типа под названием “Искусство”. Редакторами “Искусства коммуны” были Брик, Натан Альтман и историк искусства Николай Пунин, среди сотрудников числились Малевич, Шагал и Шкловский. Стихи Маяковского публиковались в виде передовиц.
Важнейшим пунктом программы коллегии была борьба против влияния культурного наследия на искусство и культуру нового общества. Все, что воспринималось как устаревшая эстетика, подвергалось жестоким атакам. “Новым” или “молодым” искусством, пришедшим на смену старому, был, разумеется, футуризм, представлявший собой наиболее передовую эстетику и единственную форму искусства, достойную пролетариата – исторически наиболее передового класса. Таким образом, футуризм отождествлялся с пролетарской культурой. Эти позитивно окрашенные термины не уточнялись, а использовались по большей части как лозунги. Все “новаторское” объявлялось футуристическим и, следовательно, пролетарским. Как и война, революция представляла собой реальность, которую нельзя описать традиционными средствами, и теории футуристов прямо отсылали к эстетическим идеям, изложенным Маяковским в статьях 1914 года (см. главу “Облако в штанах”).
В эстетике футуристов присутствовал еще один важный компонент. Они ратовали за профессионализм, талант и качество и критиковали тенденцию оценивать положительно любое выражение “пролетарского искусства”, если только автор придерживался правильной пролетарской идеологии и/или происходил из соответствующей классовой среды. Для футуристов, которые всегда подчеркивали значение формы, подобный подход был неприемлемым. Так, например, Маяковский объявил, что “отношение поэта к своему материалу должно быть таким же добросовестным, как отношение слесаря к стали”, – а этот принцип шел вразрез с любительским отношением к вопросам формы, характерным, как правило, для пролетарских писателей.
За несколько месяцев ИЗО стал серьезным фактором власти в области культуры. Отдел отвечал за художественное образование на территории всей Советской Республики и за покупку новых произведений искусства для музеев; члены ИЗО могли пропагандировать собственные идеи в изданиях, которые финансировались Комиссариатом народного просвещения. Несмотря на это, футуристы были недовольны темпами развития. С весны 1918 года действительно изменилось немногое, и поэтому в декабре, одновременно с выходом первых номеров “Искусства коммуны”, Маяковский, Брик и другие члены ИЗО устроили серию лекций и поэтических вечеров в рабочих районах Петрограда. Они нуждались в социальной базе; им нужно было доказать критикам – и рабочим! – что они так же близки к пролетариату, как сами утверждали.
Результатом таких контактов с рабочими стало создание в январе 1919 года коммунистически-футуристического коллектива (Комфут), в состав которого вошли два члена ИЗО – Брик и поэт Борис Кушнер – и несколько рабочих. Маяковский с энтузиазмом поддерживал Комфут, но не мог принимать официальное участие в его деятельности, так как не был членом партии – в отличие от Осипа, по-видимому вступившего в ее ряды, когда он начал работать в ИЗО. Комфуты утверждали: культурная политика большевиков революционной не является, культурная революция отстает от политических и экономических преобразований и назрела необходимость в “новой коммунистической культурной идеологии” – что, по сути, было лишь новой формулировкой призыва к Революции Духа.

Анатолий Луначарский. Рисунок Юрия Анненкова.
Комфут задумывался как коллектив при одной из петроградских партийных ячеек, но в регистрации им отказали, сославшись на то, что подобное объединение может “создать нежелательный прецедент в будущем”. Отказ был подтверждением растущей враждебности к футуристам в партийных и правительственных кругах. Критика в их адрес началась после того, как в годовщину Октябрьской революции художникам-авангардистам предоставили возможность украсить несколько петроградских улиц кубистическими формами. Для противников эти декорации были типичным примером “непонятности” футуристов. Кроме того, их критиковали за “засилье” в ИЗО – с целью добиться признания футуризма как “государственного искусства”.
В начале 1919 года атаки участились и стали более ожесточенными. Так, например, было принято решение “ни в коем случае” не поручать им изготовление декораций для празднования 1 Мая в 1919 году. Последний гвоздь в гроб футуризма забил сам Ленин, заявивший, что “сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное”. В результате футуристы лишились своих газет и утратили почти все влияние в Наркомпросе: в декабре Луначарский с удовольствием констатировал, что интеллигенция сделала свой выбор и что теперь возможна “уравновешенная” коллегия ИЗО. Завершился короткий период в истории русского авангарда, когда он являлся государственной культурной идеологией.