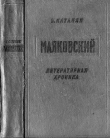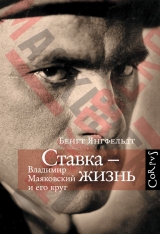
Текст книги "Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг"
Автор книги: Бенгт Янгфельдт
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
МАФ
Первое время в Риге Лили была занята оформлением поездки в Лондон. Но как только становится ясно, что поездка не состоится, она целиком посвящает себя второй цели своего путешествия: пропаганде поэзии Маяковского. В русскоязычной газете “Новый путь”, издававшейся советским торговым представительством, в октябре – ноябре печатаются две статьи о современной русской литературе, первая из них – о Маяковском. Статьи подписаны Л. Б. – даже если нет доказательств, что за инициалами скрывается именно Лили, публикация этих статей во время ее пребывания в Риге не случайна. У Маяковского и его соратников в Риге была огневая поддержка в лице Григория Винокура, который работал в торговом представительстве. Винокур, молодой филолог из Москвы, попавший в Ригу так же, как Роман Якобсон в Ревель, в течение года опубликовал две положительные статьи в газете о Маяковском, одна из них – рецензия на “150 000 000”.
Лили также вступает в контакт с представителями рижского авангарда и знакомится с еврейским поэтом-футуристом Б. Лившицем, секретарем “Арбейтергейм” – еврейского культурного центра, близкого латвийской компартии. Лившиц переводит поэму “Человек” на идиш и, по словам Лили, работает над большой статьей о Маяковском. “Заставили меня читать им «Флейту» и сошли с ума от восторга”. Вероятно, вдохновленная этими контактами Лили загорелась идеей напечатать новый тираж “Флейты-позвоночника” в Риге. “Хочу отпечатать «Флейту» здесь, – пишет она Маяковскому в конце октября. – Вышли мне разрешение на ввоз пяти тысяч экземпляров”. Спустя две недели она сообщает, что может “напечатать все что угодно” в Риге без обязательной предоплаты – и просит своих “мальчиков” прислать не только книги Маяковского, но, в частности, и “Сестра моя – жизнь” Пастернака. Она познакомилась “с одним очень крупным капиталистом”, владельцем большой типографии, который готов печатать книги футуристов, если это можно будет финансировать посредством производства русских учебников (для экспорта в Советскую Россию). “Капиталист” был Василий Зив, переехавший в Ригу из Петрограда в 1921 году. Для успеха проекта Зиву был необходим представитель в Москве, которому он гарантировал оплату деньгами и продовольствием. “Я хотела бы, чтобы этим человеком согласился быть ты, Волосик – это очень интересно, во первых, а, во вторых, дало бы тебе возможность абсолютно бросить плакаты”.
Маяковский принял предложение стать представителем издательства с энтузиазмом и немедленно связался с Комиссариатом внешней торговли, где к инициативе отнеслись положительно. Из-за бумажного дефицита в России международное сотрудничество подобного рода становилось распространенным – Госиздат тоже печатал книги за границей и потом ввозил их в Россию. Поскольку разрешение на импорт выдавал Госиздат, Маяковский опасался обструкций, но вопрос решился положительно благодаря Луначарскому, чьей помощью они немедленно заручились.
Оценив потенциал проекта, Маяковский и Осип решили не только просить разрешение на ввоз, но и зарегистрировать новое издательство, чтобы таким образом создать “комфутуризму” платформу в Москве. 28 ноября 1921 года правительство издало декрет, разрешивший в соответствии с принципами нэпа создание частных и кооперативных книгоиздательств. В тот же день Маяковский и Осип подали Луначарскому заявление о создании книжного издательства МАФ (Московская – в будущем международная – ассоциация футуристов).
Цель издательства, – писалось в докладной записке, – издание журнала, сборников, монографий, собраний сочинений, учебников и пр., посвященных пропаганде основ грядущего коммунистического искусства и демонстрации сделанного на этом пути. Учитывая ряд затруднений, связанных с печатанием наших книг в России, мы будем издаваться за границей, вывозя и распространяя издания в РСФСР. Издательство организуется на частные средства.
Среди авторов, которых издательство предполагало издавать, назывались Пастернак, Маяковский и Хлебников.
Несмотря на поддержку Луначарского, рижский проект не состоялся. Маяковский получил аванс в иностранной валюте в Москве, но далее дело не пошло, поскольку Зив, как выяснилось, прежде всего был заинтересован только в том, чтобы заработать на больших тиражах учебников по физике и математике. Издание футуристических произведений были лишь способом заручиться получением подобных заказов. “Для издателя главное – прибыль! – сообщала Лили в начале декабря. – Лучше всего – заказы на учебники от правительства”. Но путь к заказам учебной литературы шел через Надежду Крупскую, и здесь Маяковский был беспомощен. Крупская так же отрицательно относилась к футуристам, как и ее супруг, – в статье, опубликованной в “Правде” в феврале 1921 года, она определила их творчество как проявление “худших элементов старого искусства” и “ощущений <…> крайне ненормальных, искаженных”.
Лили и Ленин
Пока Лили находилась в Риге, жизнь в Москве шла своим чередом, без особых событий. Маяковский принимает участие в нескольких публичных дискуссиях о современной литературе и один раз выступает вместе с давними коллегами-футуристами Крученых, Каменским и Хлебниковом – последний даже жил у них в Водопьяном переулке несколько недель в отсутствие Лили. Осип и Маяковский иногда выходят, но, по уверению Маяковского, у них есть только одна тема для разговоров: “единственный человек на свете – киса”. Чаще всего они дома, Маяковский рисует, а Осип читает вслух Чехова. “Я все такой же твой щен, – пишет Маяковский, – живу только и думая о тебе, жду тебя и обожаю. Каждое утро прихожу к Осе и говорю: «скушно брат Кис без лиски» и Оська говорит: «скушно брат щен без Кисы»”.
В течение осени и зимы Маяковский продолжает писать и рисовать агитплакаты на злободневные темы: “Вот что говорил Ленин на съезде политпросветов…”, “Вот о помощи голодающим отчет”, “Опыт новой экономической политики показал, что мы на верном пути” и пр. Но вскоре он получает заказ иного рода: “Напиши для меня стихи”, – просит его Лили в конце октября. Он сразу принимает вызов. “Ужасно счастлива, что ты, Волосик, пишешь, – отвечает Лили уже через неделю. – Обязательно напиши к моему приезду!” “Поэма двигается крайне медленно, – сообщает Маяковский, – в день по строчке!” – а еще через неделю, 22 ноября, он пишет: “Волнуюсь что к твоему приезду не сумею написать стих для тебя. Стараюсь страшно”.
Как можно предположить, несмотря на муки творчества, к возвращению Лили в начале февраля 1922 года поэма была закончена. Сочинение стихов для Лили Маяковский считал самым надежным – возможно, единственным – способом заручиться ее любовью, и он знал, что лучшего подарка к ее возвращению не найти. В конце марта в качестве первой книги издательства МАФ вышла поэма “Люблю” с посвящением Л. Ю. Б.
“Люблю” значительно короче, чем “Флейта-позвоночник” и “Облако в штанах”, а также менее сложна. Поэма начинается привычным для Маяковского замечанием о любви как о заложнице жизни, быта: “Любовь любому рожденному дадена, – / но между служб, / доходов / и прочего / со дня на день / очерствевает сердечная почва”. Любовь можно купить, но ее не покупает тот, кто, подобно поэту, не властен над собственным сердцем. От его гипертрофированных чувств в страхе “шарахаются” женщины. И вдруг появляется она – “ты” – Лили, которая видит суть – не замученного, рычащего великана, а “просто мальчика”. Она берет его сердце и играет с ним, “как девочка мячиком”: “Должно, укротительница. / Должно, из зверинца!” – кричат другие женщины, но Маяковский ликует:
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.
Возвращаясь к “ней”, поэт возвращается домой:
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!
“Люблю”, пожалуй, самое светлое произведение Маяковского, переполненное любовью и оптимизмом, свободное от мрачности и мыслей о самоубийстве. В поэме отражается счаст ливый и гармоничный период отношений с Лили, возможно, самый бесконфликтный за всю их совместную жизнь. “Маяковский часто говорил об этой поэме, что это вещь «зрелая», – вероятно, ему показалось, что поэма написана спокойно-повествовательно, о счастливой любви”, – писала Лили. Другое дело, что ощущение счастья и гармонии частично могло быть результатом того, что в этот период они жили врозь.
Публикация поэмы совпала с концом важного этапа в литературном и художественном творчестве Маяковского: в феврале 1922 года он сделал последний плакат для РОСТА. Завершился агитационный период русской политики, теперь жизнь протекала в условиях нэпа. Кроме этого, кардинально изменилась ситуация на издательском фронте, что дало писателям новые возможности заработать. Как результат декрета от 28 ноября 1921 в течение 1922 года в стране были зарегистрированы не менее двухсот частных и кооперативных издательств, из которых семьдесят функционировали активно. Для Маяковского это означало независимость от Госиздата и возможность печататься у других издателей. Однако важнее экономических факторов было чисто политическое вмешательство в его жизнь, и в этот раз совершенное Лениным.
Пятого марта в правительственной газете “Известия” было опубликовано стихотворение Маяковского “Прозаседавшиеся” – остроумная и свирепая атака на бюрократизацию советской системы. Товарищ Иван Ваныч с коллегами теперь заседают так часто, что для того, чтобы всюду успеть, им нужно физически раздвоиться:
“Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там”.
В конце стихотворения Маяковский мечтает об обществе, в котором не было бы заседаний:
“О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!”
На следующий день, выступая на коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов, Ленин сказал:
Вчера я случайно прочитал в “Известиях” стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно.
Если критика Лениным поэмы “150 000 000” сделала Маяковского персоной нон-грата в глазах чиновников, руководивших культурой, то положительный отзыв о “Прозаседавшихся” возымел обратный эффект. Для поэта, который не хотел ничего другого, как служить революции, реакция Ленина стала настоящим подарком. Маяковский правильно понял этот политический сигнал: уже через два дня он напечатал в “Известиях” еще одно стихотворение на ту же тему – “Бюрократиада”. Раньше правительственный орган публиковал его стихи лишь спорадически, теперь же за короткое время увидели свет шесть новых стихотворений. “…Только после того, как Ленин отметил меня, только тогда «Известия» стали меня печатать”, – комментировал Маяковский этот факт. Эффект от похвалы Ленина был на самом деле таким огромным, что, как писал Николай Асеев в письме дальневосточным футуристам, “покрывает все литсобытия” в Москве, в том числе и публикацию недавно обнаруженной рукописи Достоевского “Исповедь Ставрогина”.
Одновременно все это было унизительно, поскольку Маяковский был поставлен – и поставил себя – в положение, при котором он попадал в зависимость от милости вождя. Понимал ли он это? И понимал ли, какую девальвацию его таланта – и репутации поэта – означало сочинение подобных произведений? Другие понимали. Среди тех, кого беспокоило движение Маяковского в направлении потребительского искусства и политической лояльности, были Пастернак и Мандельштам.
Как уже говорилось, Пастернак высоко ценил Маяковского, но, прочитав “нетворческие” “150 000 000”, почувствовал, что ему “впервые нечего было сказать ему”. В стихотворной надписи Маяковскому на книге “Сестра моя – жизнь” в 1922 году он спрашивает, почему тот предпочел расходовать свой дар на проблемы совнархоза, бюджетный баланс и пр.:
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?
Осип Мандельштам, который относился к революции, к шуму времени неоднозначно, но скорее положительно, в статье, написанной той же весной, точно уловил дилемму Маяковского: “Экстенсивное расширение площади под поэзию, разумеется, идет за счет интенсивности, содержательности, поэтической культуры”. И далее: “Обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю столь же неблагодарная задача, как попытаться усесться на кол”. Поэзия, лишенная своей поэтической культуры, перестает быть поэзией. По мнению Мандельштама, Маяковский – поэт, чьи стихи отличаются техническим мастерством и насыщены гиперболической метафорикой. “Поэтому совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя”, – сделал вывод Мандельштам – формулировкой, которую спустя восемь лет сам Маяковский будет варьировать словами о том, что он “наступил на горло собственной песне”.
Маяковский, разумеется, знал, что трудно быть поэтом масс, не отказавшись от поэтического качества, и тем не менее он был искренен в своем стремлении отдать свой талант народу, со всеми вытекающими отсюда последствиями в смысле упрощения формы и содержания. И, несмотря на то что он подавлял свои лирические импульсы, осталось достаточно много воздуха в горле, чтобы писать блестящую любовную лирику. На самом деле историко-эпические произведения чередовались с лирическими на протяжении всей его творческой жизни, как бы для внутреннего равновесия: он нуждался и в первом и во втором. За “Облаком в штанах” (1915) последовала “Война и мир”, написанная в 1916–1917 годы, потом “Человек” (1917), после чего “Мистерия-буфф” (1918) и “150 000 000” (1920–1921), поэма, за которой последовала, в свою очередь, “Люблю” (1922).
Опять Рига
Первого мая 1922 года в Водопьяном переулке был устроен “торжественный прием” в честь Анатолия Луначарского. Обсуждался футуризм и отношения между “вечным” искусством и современностью. “Нападали на Луначарского все, он только откусывался”, – вспоминал Николай Асеев. Что внушило им такую дерзость – мнение Ленина о стихотворении “Прозаседавшиеся”? Несмотря на нападки, Луначарский признал, что “в этой комнате сейчас собрано все наиболее яркое и певучее нашего поколения”. Из поэтов, помимо Маяковского и Асеева, были также Пастернак и Хлебников.
Лили на встрече не присутствовала. В середине апреля она снова уехала в Ригу в надежде заключить договор с Зивом. Едва приехав, она отправила “зверикам” в Москву сандалии, немецкие газеты, ноты и книги; Осипу очки с запасными стеклами, Маяковскому и Леве Гринкругу – игральные карты; шоколад, консервы и ликер, которыми следовало поделиться с домработницей Аннушкой, Ритой Райт (их общей подругой, которая прошлым летом перевела на немецкий “Мистерию-буфф”) и Асеевым с женой.
Была несколько раз в кино, один раз в цирке, один раз в театре. Скука смертная! Ничего не удается! Материи в долг не дают!! Денег тоже не дают!! <…> Вообще – не везет! В комнате у меня отвратительно!
Зив потерял интерес к сделке, и Лили надеялась вернуться в Москву уже 6 мая. Но вместе этого 2 мая, на следующий день после приема в честь Луначарского, в Ригу отбыл Маяковский, которому Лили организовала выступления в латышской столице. Это было вообще его первое заграничное путешествие. Официально он уехал как представитель Наркомпроса – таким образом, благодаря Луначарскому у Лили и Маяковского появилась возможность провести вместе девять дней в рижской гостинице “Бельвю”.
Маяковский должен был выступить с публичным докладом, но антисоветски настроенные латышские власти выступление запретили. Кроме того, полиция конфисковала весь тираж поэмы “Люблю”, напечатанный “Арбайтергеймом” во время визита Маяковского. Неудачи эти породили, с одной стороны, ироничное, но однобокое стихотворение о “демократии” и “свободе слова” в Латвийской республике, а с другой – хвалебные отзывы, в интервью, об отношении к поэту советской власти: “Советская власть, несмотря на трудности и непонимание моего творчества, оказала массу ценных услуг, помогла. Нигде, никогда я не мог иметь такой поддержки”.
Лондон
Лето 1922 года снова провели в Пушкине, в четвертый раз подряд. Образ жизни остался прежним. Вставали рано, завтракали на веранде: свежий хлеб и яйца, которые жарила и подавала Аннушка. В те дни, когда Маяковский не уезжал в город, он брал маленькую записную книжку и шел в лес: так же, как дома он шагал по комнате, бормоча стихотворные строки, теперь он отбивал ритм на тропинках и полянах. Если не писал стихи, то собирал грибы. Когда шел дождь, время проводили за игрой в карты или шахматы. Если Осип был увлечен шахматной партией с кем-либо из гостей, Маяковский (который в шахматы не играл) отчаянно набрасывался на Риту, проводившую лето с ними. Но карты Рита не любила, и Маяковский предлагал играть во что угодно, лишь бы играть. Если Рита проигрывала, ей приходилось целую неделю мыть бритву Маяковского. Ипохондрик Маяковский брился каждое утро – и в поездках, и когда торопился, но никогда не использовал грязную бритву…
В августе привычный ритм нарушился отъездом Лили в Берлин. В апреле этого же года между Германией и Советской Россией были установлены дипломатические отношения, что значительно упростило поездки для советских граждан. В Берлине Лили общалась с Левой Гринкругом, приехавшим навестить братьев. Она вела беззаботную жизнь, выбирала платья и купила “чудесное кожаное пальто”. Поскольку она заботилась, как всегда, и о своих близких – Осип и Маяковский получили элегантные рубашки и галстуки, а Рита бархатную шляпу, – то деньги вскоре закончились.
Пока Лили развлекалась в Берлине в обществе Левы и других московских друзей, Осип и Маяковским тоже не скучали, так же как и во время ее рижской поездки. Если в присутствии Лили по воскресеньям их обычно навещали ближайшие друзья, семь-восемь человек, то теперь по выходным на даче собиралось столько народа, что Маяковский порой не знал, кто есть кто, а Аннушка в отчаянии рвала на себе волосы.
Предполагалось, что Осип и Маяковский последуют за Лили в Берлин. 15 августа она отправляет им нужные документы и пишет: если они сообщат в немецком посольстве, что они больны и что им нужно ехать на курорт Бад-Киссинген, то “вам должны очень скоро выдать визы”. “Болезнь” была придумана для того, чтобы упростить бюрократическую процедуру, – ни о каком санатории речь не шла, что понятно из следующей фразы в письме Лили: “По дороге в Киссинген вы остановитесь в Берлине, где вам дадут возможность жить столько, сколько вам будет нужно”. По какой-то причине запланированная на начало сентября поездка в Берлин была отложена, и Маяковский и Осип уехали только спустя месяц, через Эстонию; с немецкими визами проблем, очевидно, не возникло, но для того, чтобы они смогли въехать в Эстонию, их официально сделали “техническим персоналом” советской дипломатической миссии в Ревеле.

В Лондоне в августе 1922 г. Лили впервые после четырехлетней разлуки встретилась с матерью и сестрой.
За это время Лили успела навестить мать в Англии: въезд в страну стал возможным после того, как 19 августа Лили официально приняли на службу в советское торговое представительство в Лондоне. Это была первая за четыре года встреча с Еленой Юльевной, последний раз они виделись в июле 1918-го. “Завтра приезжает Эльза – интересно”, – пишет Лили из Лондона в конце августа с поразительной сдержанностью. О том, как прошло воссоединение, ничего не известно. Однако нет причин думать, что мать смирилась с необычными отношениями Лили и Маяковского, которые к этому времени стали и литературным, и общественным фактом. Что касается младшей дочери, то и здесь ситуация могла бы быть более благополучной: прожив год на Таити, Андре и Эльза вернулись в Париж, где в конце 1921 года разъехались. После этого Эльза переехала к матери в Лондон и поступила на работу в архитектурную фирму, но зарабатывала так мало, что ей, по ее собственным словам, не хватало даже на губную помаду. Причиной переезда в Лондон был, однако, не только неудавшийся брак, но и то, что мать нуждалась в поддержке после ареста брата.
Если в письмах “мальчикам” в Москву Лили не особенно углублялась в детали, то ее отчеты Рите более откровенны. В письме от 22 декабря она сообщила, что проводит дни в музеях, а ночи напролет танцует и что с удовольствием осталась бы в Лондоне еще на два-три месяца. Лили с восторгом окунулась в беззаботную, богатую жизнь, о которой в России остались лишь воспоминания. Здесь продавались шелковые чулки и прочие предметы роскоши, а сама она, как обычно, привлекала внимание мужчин. Один из них влюбился в Лили еще на борту самолета Москва – Кенигсберг, а ее партнер по танцам, сотрудник Акроса Лев Герцман, стал в Лондоне ее любовником. Одновременно ее тревожит Михаил Альтер, знакомый из Риги, где он работал в отделе печати торгпредства. Он лечит легкие в Санкт-Блазиене, и она очень хочет успеть навестить его до того, как поедет в Берлин на встречу с Осипом и Маяковским.
Лили находилась далеко от московской реальности с ее литературными баталиями – и наслаждалась этим. “Ужасно рада, что здесь нет футуристов!” – сообщила она Рите. Получив письмо, Рита тотчас же позвонила Маяковскому и Осипу, и те, надев розовые рубашки и фетровые шляпы, которые Лили купила им в Риге, поспешили к Рите за новостями. Поскольку не все в письме предназначалось Осипу и Маяковскому, Рита настояла на том, чтобы читать вслух, – таким образом она могла опустить подробности о романтических приключениях Лили. Но, дойдя до фразы о футуристах, запнулась, и Маяковский резко потребовал, чтобы она читала все. Когда же Осип возразил, что заставлять нельзя, Маяковский с мрачным видом ответил: “Наверно, пишет, «хорошо, что там нет футуристов»”. Риту Райт поразила интуиция поэта и то, что он почти дословно воспроизвел формулировку Лили.
Мрачное настроение Маяковского понятно: с одной стороны, он боялся, что, изменив взгляд на футуризм, Лили изменит и свое отношение к нему, с другой – Маяковский ехал в Берлин именно в качестве футуриста, представителя новой революционной эстетики. “Я уезжаю в Европу, как хозяин, посмотреть и проверить западное искусство”, – сообщил он в интервью перед их с Осипом отъездом из Москвы 6 октября.
После нескольких дней в Ревеле, где Маяковский прочитал в советской миссии лекцию о “пролетарской поэзии”, они продолжили путешествие на корабле до Штеттина и далее поездом до Берлина, там их встретили Лили и Эльза. Все четверо поселились в “Курфюрстенотеле” на улице Курфюрстендам – в самом центре города, где в это время жили сотни тысяч русских эмигрантов. Именно в кварталах вокруг Курфюрстендама жило так много русских, что молва его окрестила “Непским проспектом”; согласно популярному анекдоту, один несчастный немец повесился из-за того, что так ни разу и не услышал здесь родную речь. Тут находились русские рестораны и кафе, русские книжные лавки, русские школы, русские футбольные и теннисные клубы. Тут же располагались многочисленные русские книжные издательства и редакции ряда русскоязычных газет и журналов. Если политической столицей русской эмиграции был – и останется – Париж, то ее культурным центром с 1921 года являлся Берлин.
После установления дипломатических отношений между Советской Россией и Веймарской республикой русский Берлин наводнили литераторы и интеллектуалы, воспользовавшиеся вновь приобретенной – и относительной – свободой передвижения. После долгих лет лишений многие испытывали нужду в передышке. Одним из тех, кого привлекла вдохновляющая культурная среда Берлина, был Борис Пастернак, который в 1922–1923 годах провел в этом городе почти полгода, другим – Андрей Белый, проживавший здесь в 1921–1923 годах. В связи с тем, что Берлин превратился в культурную столицу русской эмиграции, из Парижа в Берлин переехала “Смена вех” – группа, ратовавшая за сближение между эмигрантами и советской властью, а вместе с группой и один из ее ведущих представителей – Алексей Толстой, который в 1924 году вернется в Советский Союз; в это же время из Парижа приехал Илья Эренбург.
Специфичной чертой русского Берлина 1921–1924 годов было именно интенсивное и плодотворное общение между писателями из Советского Союза и литераторами-эмигрантами. Петроградский Дом Искусств имел филиал в Берлине, встречи проходили по пятницам в кафе “Леон” на Ноллендорф-платц. В дискуссиях и выступлениях принимали участие писатели и поэты: Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Андрей Белый, Игорь Северянин, а также художники Александр Архипенко, Натан Альтман, Наум Габо, Эль Лисицкий и другие. Здесь выступали также выдающиеся русские философы и теологи. Уникальное политическое и культурное сосуществование стало возможным, с одной стороны, благодаря относительной свободе слова и перемещений, воцарившейся на короткое время в Советском Союзе, а с другой – потому, что многие писатели по-прежнему сомневались в выборе будущего: эмиграция или большевистская Россия.