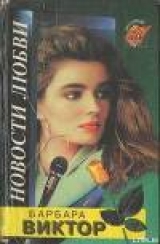
Текст книги "Новости любви"
Автор книги: Барбара Виктор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
После неловкого молчания я первая пошевелилась и, поднявшись с постели, в которую он уже никогда не ляжет вместе со мной, направилась в ванную. Я приняла душ, оделась. Кофейное пятно на моем нежно-кремовом вязаном платье было очень заметно.
Брайн уже собрался и был готов отвезти меня домой. Я приблизилась к нему и, нежно обняв, прошептала последнее прости, потому что все было кончено.
Двадцать минут спустя он остановил машину в обычном месте – в пяти кварталах от моего дома. Мы по-прежнему неловко молчали, как будто между нами встал весь мир. И снова я первая пошевелилась, и это действительно был конец наших отношений. Выбираясь из машины, я очень тихо проговорила:
– Я тебя люблю…
Я должна была это сказать, потому что действительно это чувствовала и не хотела обманывать себя.
Громкий голос Эрика Орнстайна слышался еще в парадном. Но, как только я вошла в квартиру, он превратился в шепот. Я бросила сумку на пол прямо в прихожей и взглянула на столик для почты, нет ли писем. Только потом я вошла в гостиную. Эрик сидел на лимонно-желтом диванчике рядышком со своей мамочкой, а Орнстайн-старший шагал взад и вперед по комнате, сцепив руки за спиной.
– Всем привет! – сказала я, усаживаясь в кресло обитое белым плюшем.
Орнстайн-старший перестал шагать, а свекровь уставилась на меня с выражением предельного отвращения. Вздохнув, она схватилась за сердце. Эрик закинул ногу на ногу и выжидающе взглянул на отца.
– И тебе привет, Мэгги, – сказал тот, широко улыбаясь.
Внешность свекра всегда производила на меня гораздо меньшее впечатление, чем его грязная сущность, – хотя лицо его было каким-то непропорциональным, глаза посажены чрезвычайно близко друг к другу, огромный нос, толстые, мясистые губы и скошенный подбородок, – вот физиономия. Взглянув в этот момент на свекра, я увидела характерную его улыбочку, которая означала одно – змея была готова ужалить.
Орнстайн-старший, в свое время продавший процветавший мануфактурный бизнес, чтобы купить у своего приятеля-банкрота брокерскую контору на Уолл-стрит, однажды заявил:
– Что мануфактура, что недвижимость – конец один.
Между тем основным его занятием было – с улыбочкой облапошивать простаков.
– Что случилось? – поинтересовалась я, заметив между прочим, что наш маленький черно-белый телевизор переместился с кухни на стеклянный журнальный столик около кушетки.
Свекровь скрестила полные руки на груди – жест, которым в доме истововерующих людей обычно начинается процедура молитвы. Она и начала нечто подобное – принялась раскачиваться, словно китайский болванчик, туда-сюда, а Орнстайн-старший сел в другое белое плюшевое кресло и стал тереть толстыми пальцами виски. Эрик громко хмыкнул.
– Заткнись, – проворчал Орнстайн-старший. Все указывало на то, что дело было худо.
– Что же случилось? – повторила я, оглядываясь вокруг.
– Похоже, у нас небольшая проблема, – сказал свекор. Его толстая верхняя губа подрагивала, обнажая крупные передние зубы.
– Эрик? – обратилась я к мужу.
Но он лишь снова замычал что-то нечленораздельное.
– Я уже сказал, чтобы ты заткнулся, – рявкнул на него отец.
Свекровь похлопала сына по колену. У нее на пальце засверкал огромный бриллиант в шесть каратов, не меньше.
– Мы видели тебя сегодня вечером по телевизору, – сказал свекор и снова улыбнулся.
Можно было подумать, что семейство Орнстайнов собралось в моей гостиной, чтобы посмотреть телевизор и, обсудив увиденное, оказалось недовольно моим отважным поведением в ситуации с заложниками.
– Ну и как вам показался этот репортаж? Орнстайн-старший потер ладони и его перстни – один с сапфиром, а другой с ониксом и бриллиантом – заклацали друг о друга. Он печально покачал головой. Когда он заговорил, на его нижней губе заблестела тягучая слюна.
– Ох, Мэгги, Мэгги…
– Послушайте, – сказала я, – может, все-таки кто-нибудь объяснит мне, что произошло?
Свекровь принялась теребить цепочку с тяжелым кулоном, который болтался под ее тройным подбородком.
– А где это ты посадила пятно на такое миленькое платье? – мрачно поинтересовался свекор.
– Гектор Родригес опрокинул на меня кофе, когда я была у него в квартире, – ответила я, совершенно сбитая с толку.
– Ага, – вздохнул свекор, – чудеса телевидения!
– В каком смысле? – пробормотала я.
– На телевизионном экране не видно никаких пятен, – многозначительно улыбнулся он.
– Просто мой режиссер посоветовал мне перевернуть юбку задом наперед, чтобы этого пятна не было видно…
Можно подумать, цены на моющие средства подскочили до небес.
– Ну а потом, значит, – сказал свекор тоном Мэйсона Перри, – ты задержалась на Маспете, чтобы еще раз перевернуть юбку, прежде чем отправиться домой.
Эрик начал так тоскливо подвывать, что Орнстайн-старший не выдержал и через всю комнату запустил в него подушкой.
– В последний раз говорю, чтобы ты заткнулся, придурок, – заорал он.
Все вдруг совершенно прояснилось, но изменить уже ничего было нельзя – слишком поздно. Что сделано, то сделано. Первой моей мыслью было – как отреагирует моя родительница, когда узнает, что семейство Орнстайнов наняло частного детектива, который аккуратно проследил за ее дочуркой и накрыл се в кирпичном домике семейства Флагерти, где она переодевала свою юбку с кофейным пятном.
– Интересно, что скажет твоя милая мамочка, когда узнает, что се дочка сделалась шлюхой? – сказала свекровь, прочитав мои мысли.
Орнстайн-старший поднялся и с внушительностью царя Соломона проговорил, обращаясь к жене:
– Что ты, дорогая, разве таким тоном разговаривают с родственниками?
Мои щеки запылали, ладони сделались влажными, и я, опустив глаза, принялась разглядывать причудливый рисунок на нашем бухарском ковре.
– Вы за мной следили, – повторяла я снова и снова. – Вы за мной следили…
– Мэгги, Мэгги, – с чувством произнес свекор, – что значит следили? Разве это ты сейчас должна нам сказать?
Тогда я высказалась немного яснее.
– Эрик, как ты мог позволить, чтобы за мной устраивали слежку?
– Это очень печальный день в семье Орнстайнов, – провозгласил свекор. – И именно ты виновата в том, что мы испытываем такую скорбь. Мы любили тебя как дочь, а предательство дочери – это как нож в сердце.
– Не говоря уж о том, что она занималась этим с гоем! – вставила свекровь.
– Гои-шмои, – вздохнул Орнстайн-старший. – То, что моя Мэгги, которая была для меня дочерью, сделала… – Он не окончил фразы, словно и взаправду был совершенно разбит и подавлен известием, что «его Мэгги», которую он «любил как дочь» – предала…
– Я этого так не оставлю, папа! – храбро сказал Эрик, хлопая по руке свою мамочку.
Мудрый Орнстайн-старший все еще старался овладеть ситуацией и устроить так, чтобы никому из его близких, включая и Мэгги, которую он полюбил как дочь, не сделать больно, не оскорбить и не обругать.
– Тюфяк, – сказал он сквозь зубы, адресуясь к Орнстайну-младшему. – Ничего ты не сделаешь. Тюфяк Ты даже не в состоянии присмотреть за собственной женой, чтобы она не раздвигала ноги перед каким-то гоем-копом.
Да что я, в конце концов, теряю? Можно подумать, мне будет отказано в чести посещать Букингемский дворец!.. По крайней мере, я больше не увижу как свекровь счищает с тарелок над унитазом объедки после обеда, чтобы не испачкать помойное ведро. Я буду избавлена от удовольствия слушать, как Орнстайн-старший заказывает официанту «водочки». Что означает – рюмку «Столичной» со льдом и без лимона. И наконец, мне больше не придется играть в «кошки-мышки» с Эриковым термометром.
– Не смейте даже говорить со мной об этом, – холодно сказала я. – Я не хочу об этом слышать.
Мой резкий тон пробуждает в свекре чувство близкое к восхищению.
– Если бы ты была моей женой, этого бы не случилось! – заявил Орнстайн-старший.
Мне показалось, что если я буду вести себя правильно, то есть шанс, что он будет справедлив ко мне в своем окончательном решении.
– Если бы вы были моим мужем, то мы обсудили бы этот вопрос наедине и не вмешивали в него родителей, – сказала я.
Как я и ожидала, в нем возобладал его вселенский эгоизм.
– Я сделал все, что было в моих силах для Эрика, однако он оказался не достоин моих усилий. Я пытался научить его жизни, но он пошел совершенно не в меня. Он просто слабак.
Может быть, немного позже я попыталась бы как-то утешить моего слабака-мужа, но сейчас меня больше беспокоили мои кровные деньги, мой заработок, который перекочевал к нему на счет.
– Зачем же вы следили за мной? – спросила я свекра.
Он вздохнул.
– Я бы скорее дал вырвать свое сердце, чем согласился на это, – пробормотал он. – Но кто-то сказал, что тебя видели с этим парнем в баре на Маспете. И он лапал тебя. Поверь, Мэгги, первой моей реакцией был шок. Я не поверил этому. Но потом мне сказали, что тебя видели с этим парнем около студии в его машине. Что я должен был делать? Честное слово, я надеялся, что эта крайняя мера докажет обратное.
Это был самый подходящий момент для меня, чтобы заплакать. Свекор как раз протягивал мне надушенный носовой платок. Он воскликнул:
– Я не хотел бы, чтобы в наши дела вмешивались всякие пройдохи адвокаты. Они оставят нас без штанов. Мы решим все келейно. Мы поступим так, как поступали наши предки.
Эрик нервно кашлял, прочищая горло. Свекровь начала икать.
Вдохновленная обращением Орнстайна-старшего к примеру древних иудеев, я нашла нужный тон.
– Я обещаю не делать ничего такого, что может кому-то причинить новую боль, – сказала я. – И клянусь не обращаться в суд.
– Знаешь, Мэгги, – тепло обратился ко мне свекор, – я все еще отношусь к тебе как к дочери – как к родной дочери.
– Но папа!.. – всхлипнул Эрик.
– Заткнись, – бросил ему отец, даже не повернув головы.
– Я думаю, что сегодня мне лучше отправиться к Куинси, – сказала я. – Пусть каждый из нас немного успокоится, а завтра мы сможем обо всем поговорить без нервов. Сядем и все обсудим.
– Ты поступаешь так же мудро, как Сарра! – восхитился свекор. – Значит, договорились – никаких судов?
Куинси нисколько не удивилась, увидев меня в этот вечер на пороге своей квартиры. Она лишь не могла понять, почему, когда я начала подробно рассказывать о том, что произошло, из моих глаз закапали слезы.
– Наконец-то все кончилось, – практично подытожила она. – Зачем же плакать? Тебя унижали много лет.
– Понимаешь, – всхлипнула я, – свекор так жестоко обошелся с Эриком. Обозвал его тюфяком. Я чувствую себя ужасно виноватой.
– Он и есть тюфяк, – твердо заявила Куинси. – Иначе он не побежал бы звать папочку.
– Я ужасно виновата перед ним, Куинси. Я чудовище.
Она посмотрела на меня, как на сумасшедшую, потом подошла к окну и долго стояла, глядя на улицу.
– Может быть, мне нужно напомнить тебе обо всех прелестных вещах, которые он проделывал над тобой во время вашего супружества? – повернувшись ко мне, тихо спросила Куинси.
Я отрицательно покачала головой и всхлипнула.
– Нет.
– Почему же? Может быть, ты забыла обо всем этом и теперь чувствуешь к нему жалость?
Однако я была убеждена, что одна во всем виновата. Когда я в пять часов утра заявила Куинси, что мое место рядом с Эриком и что я возвращаюсь домой, она даже не стала меня отговаривать.
– Мне нужно было просто тебе поплакаться, – виновато сказала я.
Однако через час я снова стояла на пороге ее квартиры. Дело в том, что Эрик уже успел сменить замки. Что и говорить, я слишком доверилась этим душещипательным разговорам о Сарре, Моисее и прочих ветхозаветных иудеях.
– Хватит сантиментов, – коротко сказала Куинси, подталкивая меня в квартиру. – Там где-то чистый стакан. Налей себе чего-нибудь покрепче и отправляйся спать!
6
Куинси замечает, как я нервничаю. Мои пальцы теребят, выдергивают волосы. Мои ноги готовы пуститься в какой-то отчаянный пляс. Она с тревогой смотрит на меня. Она чувствует, что для меня это весьма критический момент, и понимает, что меня нельзя оставлять одну. Однако она время от времени нетерпеливо заглядывает к себе в сумочку или делает другой суетливый жест, и я вижу, что ей пора идти. В конце концов, у меня столько дел. Нужно распаковаться, убрать, привести в порядок бумаги, разложить вещи. Словом, работать, работать и работать. Единственное, что осталось у меня в жизни. Но мне так хочется, чтобы она еще немного побыла рядом со мной. Хотя бы несколько минут. Может быть, я успею избавиться от мыслей, которые мучают меня, не покидая ни на мгновение. И очень скоро я должна буду вновь погрузиться в прежний мир телевидения и незаживающих семейных ран. Я снова буду сыта по горло знакомыми проблемами и в конце дня в моем доме не появится Ави и не успокоит мое сердце.
– Ты сегодня будешь ужинать с Грэйсоном, или мне отменить встречу? – интересуется Куинси, стараясь сообразить, как лучше дать мне понять, что ей пора идти.
– Нет, не нужно ничего откладывать. Лучше мне подписать этот контракт. Пусть хоть что-то будет у меня в жизни.
Она печально покусывает нижнюю губу.
– Перестань хныкать, Мэгги, – говорит она. – Тебе это не идет.
Я не могу сдержаться и улыбаюсь. Она совершенно права: мне это не идет. Однако одна мысль о том, чтобы сделать бодрый вид, утомляет меня.
– Ладно, иди, – говорю я. – Ты и так столько сделала для меня. Я тебе всем обязана в моей жизни.
– Очень мило с твоей стороны, – отвечает она.
– Ну, иди.
– Ладно. Но только имей в виду, что сегодня в Полночь тебе будет звонить некто по имени Ави Герцог. И еще помни, что есть люди, которые всегда готовы тебе помочь, – это Дэн и я. Посмотри, какое у тебя великолепное тело, какие потрясающе длинные ноги. Извини, но я должна признаться, что все это так восхитительно, что производит впечатление даже на неуязвимого Грэйсона. – Она улыбается. – Так, что еще я хотела сказать? Ах да, насчет твоего страха, что в конце жизни ты можешь оказаться старухой, брошенной всеми в богадельне. Это тебе не грозит, поскольку с прошлого года ты находишься на попечении мощного пенсионного фонда Ай-би-эн.
– Да, действительно. Как я об этом не подумала. Я совсем забыла, что Ай-би-эн так трогательно заботится о вышедших в тираж журналистах – об этих скромных тружениках!
– Кстати, знаешь, кто сегодня будет держать речь об этих самых тружениках?
– Кто?
– Сам Джеймс Эллиот. Он шеф всей телекомпании, шишка поважнее, чем этот Грэйсон.
Куинси поправляет волосы перед зеркалом, а потом снова поворачивается ко мне.
– Мэгги, – говорит она, – тебе нужно поспать. Почему бы тебе на целый день не отключить телефон и хорошенько не отдохнуть? Мне кажется, ты вправе ненадолго обо всем забыть. Иначе тебе несдобровать.
– Мне бы нужно позвонить родительнице. Куинси снимает пальто и трагическим жестом бросает его на стул.
– Ну тогда я остаюсь. Кто-то должен попытаться склеить то, что останется от тебя после этого разговора.
– Не стоит, – говорю я не слишком настойчиво.
– Ладно, ладно. Давай, нужно покончить и с этим, – говорит она и идет обратно в спальню. – Ты, должно быть, слишком хорошо себя чувствуешь и нуждаешься в изрядной встряске.
Куинси сидит у меня в спальне, пока я набираю номер. Она улыбается – слегка ободряюще, но не слишком. Я жду, пока возьмут трубку.
Сегодня четверг. Полдень. Двадцать восьмое декабря 1982 года. И Ави Герцог все еще желает обладать мной. Даниэль Грэйсон обедает со мной сегодня вечером, чтобы обсудить мой новый контракт. Отсюда можно сделать вывод, что я все еще профессионально пригодна. Я взрослая женщина. Но, как это ни удивительно, у меня все еще дрожат руки.
– Алло.
Я немного медлю, прежде чем тоже сказать «алло». После второго гудка трубку снял родитель.
– Отец, это Мэгги. Я вернулась в Нью-Йорк. Куинси отводит глаза.
Отец тоже немного медлит, а потом говорит: – Ну-ну, ты вернулась в Нью-Йорк, но у тебя не было возможности известить нас об этом.
– Как ты, отец? – спрашиваю я, не обращая внимания на его иронию.
– Я-то в порядке, а вот твой звукорежиссер, как я слышал, не в такой отличной форме. Говорят, эти чертовы арабы вышибли ему мозги? Нечего сказать, отблагодарили за труды.
Всего лишь одна фраза. Два десятка слов. Каждое из них эхом отдается у меня в голове. В моей памяти мгновенно прокручивается вся дрянь, которая случалась в семье Саммерсов, пока в ней подрастала маленькая Мэгги. Что я могу ответить родителю – я должна защищаться, нападать, оправдываться? Нет, все это уже слишком устарело. Мои глаза наполняются слезами – обычная моя реакция. Так было всегда, когда я слышала свое имя в устах родителей.
– Мама там?
Родитель и не думает отвечать. Сегодня он уже достаточно мне наговорил.
Я слышу голос родительницы, который полон обычного нетерпения и разочарования. И то и другое знакомо мне с детства.
– Здравствуй, Маргарита, – говорит она.
– Что случилось, мама? У тебя ужасно расстроенный голос.
Куинси качает головой и закуривает.
– Ничего, – отвечает родительница. – Когда ты вернулась?
– Вчера, – лгу я.
– Ты знаешь, Клары нет. Она уехала с семьей в отпуск.
– Знаю, мама. Хочешь приехать сегодня ко мне?
К моему удивлению, родительница не только соглашается, хотя обычно весьма тяжела на подъем, но даже, кажется, готова отправиться немедленно.
– Сейчас возьму такси и буду через пятнадцать минут, – говорит она и кладет трубку.
– Ну? – спрашивает Куинси.
– Старая история, – отвечаю я. – Только на этот раз я услышала в ее голосе разочарование. Мне это с детства знакомо. Это напомнило мне о том дне, когда отец нарисовал ужасную картинку на салфетке в отеле «Плаза»…
– Господи, о чем таком ты толкуешь? – недоуменно восклицает Куинси.
Лето шестьдесят третьего года выдалось для меня относительно удачным. Я уговорила родителей разрешить мне отправиться в лагерь Чиппенуа, неподалеку от Бангора, что в штате Мэн. Первый раз в жизни мне удалось провести июль и август вне загородного дома Саммерсов на Лонг-Айленде.
Я сидела, скрестив ноги, на полу моей спальни в квартире на Пятой авеню, а Джонези заканчивала пришивать меточки с моей фамилией на те вещи, которые я собиралась взять в лагерь. Держа во рту длинную белую нитку, она подавала мне тщательно сложенные юбки и шорты, которые нужно было укладывать в большой дорожный баул, стоявший на полу у окна. Джонези была озабочена лишь моими сборами, поскольку Клара в лагерь не ехала. Она устроилась на работу в больницу Леннокс Хилл в качестве добровольной помощницы. В белом переднике с красным крестом она должна была разносить по палатам газеты и журналы, чтобы пациенты могли скоротать время, которое им было отпущено, чтобы выздороветь или помереть.
Родительница распрощалась с нами еще несколько дней назад. Она якобы отправилась навестить дедушку и бабушку в Милуоки. Нам ДОВОЛЬНО туманно объяснили, что они поедут в отдаленный санаторий на берегу озера где-то в северном Висконсине, где будут около месяца жить на природе, в какой-то деревянной избушке. Представить себе, что родительница будет действительно жить в этой избушке целый месяц, было для нас с Кларой так же трудно, как поверить объяснениям родителя, когда тот оправдывался, почему в очередной раз не появился дома к ужину.
– Я должен работать как вол, чтобы вы обе могли посещать прекрасную частную школу, учиться в колледже, ездить в лагерь. Вот почему мне придется возвращаться домой за полночь.
Взглянув на часы, я с ужасом увидела, что уже почти полшестого. В шесть я должна была явиться пред родителем, чтобы вместе поужинать в отеле «Плаза».
– Мне пора бежать, Джонези, – сказала я. – Или я опоздаю.
Она кивнула и кряхтя поднялась, упираясь натруженной ладонью в свое толстое колено.
– Поспеши, Мэгги. Чтобы он остался тобой доволен.
Неподалеку от «Плаза» перед фонтаном стояло несколько бородатых мужчин и длинноволосых женщин, которые распевали что-то народное. На мне были белая плиссированная юбка, блузка в сине-белые цветочки и туфельки на низких каблуках. Для предстоящего ужина мой наряд был, пожалуй, слишком убог.
По ступенькам, покрытым зеленым ковром, я поднялась в фойе. Здесь было несколько киосков, в которых сверкали бриллианты и прочие шикарные вещи. Поднявшись еще по одной лестнице, я оказалась в полинезийском ресторане.
Симпатичная женщина в сари приветствовала меня и провела прямо к столику родителя, который, завидев меня издалека, галантно привстал и уселся на свое место только, когда села я. Потом он заказал безалкогольный фруктовый пунш – для меня и еще порцию водки – для себя.
– Как ты, Мэгги? – скованно поинтересовался он.
– Прекрасно, папа. Спасибо, – ответила я.
– Собралась в лагерь? – механически продолжал он.
– Почти, папа, – настороженно сказала я.
– Вот и чудесно, – пробормотал он.
– Зачем ты позвал меня сюда, папа? – с глупой прямолинейностью поинтересовалась я, и наш разговор совсем расклеился.
Мы оба молчали, и каждый сконцентрировался на своем напитке. Мы оба делали вид, что никакой непростительной бестактности с моей стороны не случилось. Между тем, как только я оторвалась от соломинки, через которую потягивала искусственный кокосовый сиропчик, родитель взял из-под моего бокала салфетку и, вытащив из внутреннего кармана авторучку, принялся что-то на ней рисовать. На салфетке появилась чья-то прискорбная физиономия. Под глазами ужасные синяки, а само лицо от подбородка до лба забинтовано и залеплено пластырем. Когда рисунок был готов, с салфетки таращился человек, который, должно быть, попал в какую-то аварию и теперь был весь в бинтах.
– Вот так выглядит сейчас твоя мать, – сказал родитель, пододвигая салфетку ко мне.
Несколько секунд я молчала, смутившись под его пристальным взглядом, а потом наконец вымолвила.
– Что с ней случилось?
Он, однако, не спешил отвечать. Сделав большой глоток из своего стакана, он слегка запрокинул голову и совершенно спокойно наблюдал, как по моим щекам медленно катятся слезы.
– Что случилось с мамой? – повторила я, стараясь не плакать.
– Твоя мама не ездила в Милуоки, – проговорил он.
В движении его губ промелькнуло удовлетворенное выражение.
– Она легла в больницу, чтобы прооперировать нос. После ужина ты увидишься с ней. И постарайся не плакать. От этого ей будет еще хуже.
Хотя из моей груди вырвался вздох облегчения оттого, что с родительницей не произошло чего-нибудь худшего, я не очень-то поняла, зачем ей понадобилось оперировать свой нос. Вполне хороший нос, который мне очень даже нравился.
– Когда она была беременна Кларой, – объяснил родитель, – то ударилась о стену. С годами косточка искривилась, и мать стала ужасно храпеть по ночам. Так ужасно, что я совсем перестал спать… Вот она и решила как-то это исправить…
Мне тогда не пришло в голову, что объяснять решение матери сделать пластическую операцию тем, что родителю мешает спать ее храп, так же нелепо, как если бы он решил отрезать себе ухо, чтобы мать могла дышать.
– А Клара знает? – пробормотала я.
– Знает. Перед тем как приехать сюда, я виделся с ней в палате у мамы в больнице Леннокс Хилл.
Теперь, задним числом, я жалею, что не сохранила ту салфетку, на которой было изображено ужасное искалеченное лицо. Мне нужно было сунуть ее в карман, чтобы впоследствии я могла предъявить ее в качестве доказательства этой невероятной истории.
– Обратите внимание на эту салфеточку, – могла бы сказать я. – Вот почему Мэгги Саммерс – такая трудная в общении особа. Все из-за того, что у нее были проблемы с отцом. Посмотрите на салфеточку. Если Мэгги Саммерс не питает к вам никакой любви, то в том нет ее вины…
Я почти ничего не ела за ужином в тот вечер. Лишь слегка поковыряла вилкой в тарелке. Отец покончил наконец со своим блюдом и заказал десерт и кофе. Заплатив по счету, он неловко двинулся из ресторана, а я потащилась за ним. Поймав такси, мы в молчании прибыли в больницу.
– Помни, что я попросил тебя не плакать, – предупредил родитель, и мы пошли по больничному коридору.
Быстро прошагав вперед, он уверенно зашел в палату, а я тихонько засеменила следом.
И вот я увидела родительницу. Забинтованная и залепленная пластырем, она точь-в-точь походила на физиономию, нарисованную на салфетке. Огромные синяки расползлись по всему лицу от лба до подбородка. Ее голова напоминала тряпичный мяч. Через две узкие прорези виднелись глаза. Несмотря на предупреждение отца, со мной приключилась истерика. Я зарыдала, закашляла, захрипела, не в силах перенести того, что увидела. Я пришла в себя только, когда в комнате появился фельдшер, который удерживал родительницу в постели. Подоспевшая медсестра вонзила в ее руку шприц, а фельдшер легонько гладил ее брови. Родительница не отрываясь смотрела на мужа, и ее возбуждение заметно падало.
– Как ты только мог? – всхлипнула она. – Мне больше не хочется жить!
С этими словами она откинулась на подушках и отключилась.
Клара вывела меня из палаты и провела в приемный покой. Здесь мы устроились на зеленой пластиковой кушетке и принялись шептаться.
По какому-то загадочному стечению обстоятельств Клара зашла как раз в палату № 1212. Она понятия не имела, какая там находится пациентка, и едва не грохнулась в обморок, когда увидела родительницу в таком состоянии. К тому же она вошла в самый неподходящий для этого момент. Несмотря на то, что глаза родительницы совершенно заплыли, а сама она была накачана наркотиками после операции, родительница углядела-таки на мужнином воротнике след розовой губной помады.
– Я стояла в дверях, – рассказывала Клара. – Отец даже не пытался ничего отрицать. Он просто заявил ей, что делает то, что ему нравится, а если ей это неприятно, то она может убираться в Винконсин или куда-нибудь еще подальше.
Он заметил Клару лишь когда стал выходить из палаты.
– Он сказал, что едет ужинать с тобой, а мне велел оставаться с матерью, пока он не вернется…
Когда же он вернулся и привез меня, фельдшер как раз был вызван, чтобы успокоить родительницу, которая пыталась сорвать с себя повязки. Клара закончила свой печальный рассказ, и я крепко обняла ее. Как хорошо, что у меня такая сестра. Впрочем, я чувствовала себя совершенно разбитой и беспомощной. У меня просто в голове не укладывалось, что родитель мог поступить подобным образом.
– Удивительно, что вы вообще смогли после этого что-то обсуждать, – печально говорит Куинси.
– Не то слово, – подтверждаю я, провожая ее до двери.
– Впрочем, может быть, это сделало тебя только крепче, – говорит она и обнимает меня. – Я должна идти, Мэгги. Увидимся вечером в Русской чайной, хорошо?
– Да. И знаешь, Куинси, я так…
– Знаю, знаю, – кивает она. Я снова обнимаю ее.
– Я так тебе благодарна за все.
Она немного отстраняет меня от себя и тихо говорит:
– Не позволяй сегодня никому себя огорчать. С тебя и так вполне достаточно.
Когда Куинси уходит, я завариваю свежий кофе и принимаюсь суетиться в ожидании родительницы. Звонок в дверь раздается в тот самый момент, когда я расставляю на подносе чашки и блюдца. Вот и родительница, собственной персоной. Вправленный нос, трижды подтягивавшееся лицо и стройная фигура. Последнее достигалось путем многолетних упражнений. Выглядит весьма прилично для своих шестидесяти четырех лет. Можно сказать, даже хорошо. Если, конечно, не присматриваться. При близком рассмотрении ее лицо выглядит потасканным, а губы кривит нервная судорога. Она сбрасывает норковое манто. Я обнимаю ее, а она стоит, словно не замечает моих чувств. Наконец она делает два шага вперед и напряженно улыбается.
– Ты выглядишь относительно ничего, Маргарита. Немного усталая. Но это от твоего неправильного образа жизни.
Она входит в гостиную и одергивает свой черный свитер. Кроме свитера, перехваченного в талии широким поясом, на ней еще черные слаксы. Она усаживается.
– Ты приехала насовсем или в отпуск?
– В отпуск. Но я еще не знаю, куда и когда мне нужно будет ехать. Это должно выясниться вечером. Я сегодня ужинаю с Грэйсоном.
Я угощаю ее кофе, и она молча принимается его цедить. Она отводит глаза и нервно покачивает ногой.
– Что тебя беспокоит? – наконец спрашиваю я. – Что-то не так? Я почувствовала это, еще когда мы говорили по телефону.
Она протяжно вздыхает.
– Просто жаль, что Клара уехала в отпуск…
– Об этом я уже слышала, мама, – говорю я устало. – Тебя беспокоит что-то другое.
– Ну, – говорит она, ставя чашечку из-под кофе, – в общем, то же, что и всегда. И тебе, и Кларе все это очень хорошо знакомо.
Она могла бы не утруждать себя дальнейшими объяснениями, потому что мне действительно все это слишком хорошо знакомо. Одно и то же на протяжении многих лет.
– Твой родитель спутался с другой женщиной Пора бы мне уже к этому привыкнуть. – Она снова вздыхает. – Однако теперь я уже слишком стара и слишком устала, чтобы притворяться, что ничего не замечаю, и… мне так не хочется доживать жизнь в одиночестве.
– С чего ты взяла, что он спутался с другой? Родительница окидывает меня недоуменным взглядом. Она, конечно, всегда знала, что я не очень умна, но чтобы до такой степени…
– С чего, спрашиваешь, я взяла? – повторяет она с отвращением. – С того, с чего и всегда. Он почти не ночует дома, а когда появляется, то непременно раздается один телефонный звонок. Это у них условный сигнал. После этого он пробирается к себе, чтобы тайком сделать ответный звонок.
Уже почти три часа дня, а родительница все еще сидит у меня в квартире. Ее доканывает бессердечное поведение супруга. С каждым годом боль все нарастает. С течением времени это подтачивает ее душу и поселяет в ней страх. Она сидит на краю диванчика и безуспешно пытается мне доказать, что страх остаться одной куда мучительнее, чем то, что ей приходится сносить от моего родителя.
– Я ведь уже совершенно не способна существовать одна. В этом смысле я не целый человек, а только половина.
– Вовсе нет. Все зависит от тебя самой.
– Увы, нет. Ты же видишь. Моя жизнь потрачена на него. Без него я ничто.
Невозможно убедить ее в обратном. Долгие годы она доказывала это себе и слышать не хотела ни о чем другом. Она страшится не потери, а пустоты.
– Он без тебя тоже не сможет, – говорю я.
– Что касается твоего отца, – отвечает она, – он только счастлив будет.
– Может, и ты была бы счастлива.
Но она даже не желает об этом слышать.
– Между прочим, – вдруг говорит она, – у твоего мужа родился второй ребенок. Тоже мальчик.
Эрик Орнстайн вот уже шесть лет вторично женат. Теперь он – отец. Причем не одного, а даже двух детей. Однако он все еще остается «мужем» Мэгги Саммерс. Нелепо даже надеяться на то, что родительница когда-нибудь перестанет называть его моим мужем.
– Откуда ты знаешь? – вежливо интересуюсь я.
– Он прислал нам приглашение на торжество. Нет ничего проще. До чего мило с его стороны, что он внес в число приглашенных родителя и родительницу и прислал им приглашение. Эрик всегда ощущал непреодолимую потребность доказать, что причина нашего неудачного супружества – только во мне. И любому, кто имеет хоть какое-то отношение ко мне, он стремится показать, какая у него теперь нормальная семейная жизнь.








