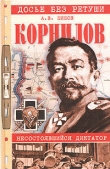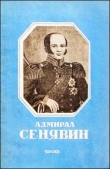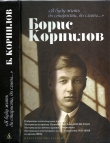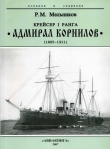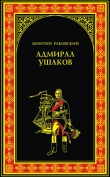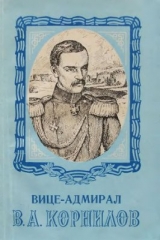
Текст книги "Вице-адмирал В. А. Корнилов"
Автор книги: Б. Зверев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Однако условия работы при Верхе сильно ухудшились. Берх не имел ни достаточных знаний, ни опыта командования и, следовательно, не имел авторитета как командующий флотом. Подчиненные его не слушали, приказания его часто не выполняли. Корнилову приходилось «всех уверять или всем намекать, что ему велено за всем смотреть, на всех сердиться». Но официальные права его были ограничены только рамками штаба. «Положение мое фальшиво, – писал он в мае 1851 г. – Имея только случайное и при том косвенное влияние на главные артерии механизма управления Черноморским флотом, – на интендантство и строительную часть, – я могу подпасть без вины нареканию, но что мне до этого? Буду делать, что могу...»9595
Вице-адмирал В. А. Корнилов, Материалы.... стр. 144.
[Закрыть]9696
Там же.
[Закрыть]
Высшие правительственные и военные круги в Петербурге отнюдь не были заинтересованы в том, чтобы потерять Корнилова как способного исполнителя «высочайших» приказов. Корнилов был нужен им постольку, поскольку они стремились использовать его разносторонние знания, способности и опыт. Николай I и его приближенные знали, что Корнилов вполне благонадежен по своим политическим убеждениям, а его критика отдельных недостатков на флоте не имела общественного значения, ибо не выходила за пределы частной переписки. Вскоре после назначения Берха командующим флотом Меншиков в докладе Николаю называл Корнилова «главным орудием» по введению усовершенствований в судостроении, вооружении и корабельной морской практике при Лазареве. Отсюда делался вывод: «Пока тот же Корнилов пользоваться будет одинаковым доверием и у другого главного командира.
то существующий порядок нс только сохранится, но и в успехах не остановится».
Царь награждал Корнилова орденами, зачислил в свою свиту, присвоил гснсрал-адъютантское звание, произвел в вице-адмиралы, позволил ему несколько раз явиться во дворец на прием и при этом нс скупился на обещания будущих повышений. При всем этом царское правительство не считало возможным доверить ему командование флотом. На этом посту казался более удобным» престарелый Берх. «Полуживой», как его называли черноморцы, он был более похож на большинство «государственных мужей» того времени. чем энергичный и решительный Корнилов, от которого, неровен час, можно было еще ожидать чего-нибудь неожиданного и не входящего в планы «сильных мира сего». Несмотря на то, что никчемность Верха была совершенно очевидна, Меншиков уже спустя полгода после его назначения писал, что новый командующий «имеет еще довольно сил для административных занятий», и поэтому считал несвоевременным «изменение личности Главного Черноморского управления».
Однако неспособность Верха руководить флотом привела к тому, что на Корнилова из года в год налагали все большую ответственность по делам, не относящимся к штабу. Верха обязали информировать своего подчиненного Корнилова о всех флотских делах, а самому Корнилову разрешили обращаться непосредственно в Главный штаб, минуя главного командира. Но официальных прав по интендантству, кораблестроительной и инженерной части ему не предоставили. Все это усугубило сложность положения начальника штаба.
Корнилов оказался в весьма тяжелых условиях. «На таком основании, – писал он брату в ноябре 1851 г., – у меня сил не хватит оставаться более полугода еще». Спустя месяц он вновь сообщал: «Без всякого официального признания властию я нравственно ответственное лицо за все... Окончательные резолюции на всякую бумагу пишет другой, и я очень часто узнаю об них после, когда они уже состоялись, и, может быть, не о всех». Прошло еще несколько месяцев, и опять он отмечал: «Мой главнокомандующий недавно возвратился из путешествия, и опять пошли недописанные или переписанные резолюции и в предупреждение их докладные записки мифа здешнего управления – начальника штаба. Опять пошли борьба и
ухищрения неутомимых негодяев здешнего гнезда опутать и завладеть болваном, брошенным царствовать над болотами нашими; опять зашевелились партии скрытых врагов покойного Михаила Петровича (Лазарева)... И это все делается из-под юбки старой, слабоумной женщины, каков Берх»'.
В отношениях с Верхом сказывалось, конечно, и самолюбие Корнилова, которому казалось несправедливым подчинение малознающему и неспособному к руководству флотом старцу. Однако современники подчеркивали, что на первом месте у Корнилова были не эгоистические интересы, а искренняя боль за интересы флота. Н. А. Добролюбов из биографических материалов Корнилова особенно выделял те факты, которые показывали, «в каком затруднительном положении часто находился Корнилов от ухищрений чернильного братства»9797
Вице-адмирал В. А. Корнилов. Материалы.... стр. 153—162.
[Закрыть]9898
3 Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч.. СПб. 1911, т. III. стр. 29'—30;
[Закрыть].
Среди офицеров, чиновников и хозяйственников, сидевших в штабных и интендантских органах флота, у Корнилова было немало недоброжелателей, завистников и врагов, которым не по душе приходилась кипучая деятельность и строгая требовательность начальника штаба, его нетерпимость к недостаткам. Но честные и любящие флот люди относились к Корнилову с глубоким уважением. «Необыкновенная проницательность и быстрота соображения, – писал одни из черноморцев,—отличное знание всех отраслей службы, практическое уменье обходиться с людьми и управлять ими, деятельность, всегда приводившая всех в удивление, наконец, смелость и решительность – вот качества, в которых не отдать ему справедливости не могут и самые его противники»9999
«Морской сборник». 1856, № 7, стр. 276.
[Закрыть].
Другой современник отмечал: «Корнилов был не
только уважаем своими подчиненными за свои глубокие познания по всем отраслям морского и военного дела и за редкую справедливость к оценке подчиненных ему люден, но мы утвердительно говорим, что он был искренне любим всеми теми, кто сам честно служил... Правда, не любили его (но все-таки уважали) все те весьма немногие, у которых было рыльце в пушку...»100100
Том же, 1868, № 4. стр. 28—29.
[Закрыть].
Современников особенно поражала очень большая работоспособность Корнилова. Сам он в одном из писем к Матюшкину в 1852 г. сообщал: «Теперь второй час ночи, а в шесть на ногах – и это почти всякий день».
Много лет прослуживший с ним Жандр писал: «Он заваливал работой своих приближенных; даже трудолюбивый, как пчела, адъютант его Железнов говаривал, что подчас выбивается из сил, но не может жаловаться, ибо Владимир Алексеевич все-таки трудится гораздо более, чем он»101101
Материалы для истории обороны Севастополя и биографии В. А. Корнилова, сост. Жандром, СПб, 1859, стр 20.
[Закрыть]. Постоянное переутомление из года в год все сильнее сказывалось на слабом здоровье Корнилова, однако энергия его казалась неиссякаемой.
Военно-организаторские способности Корнилова, которые единодушно подчеркивали его современники, особенно ярко проявлялись в уменье подбирать способных людей и направлять их деятельность на решение главных задач. Он всегда находил время для обстоятельных бесед со своими сотрудниками, но не вмешивался в частности, а требовал от них широкой инициативы и трудолюбия.
При Верхе ответственность Корнилова возросла, так как многое из того, что решал раньше главный командир флота, приходилось решать теперь начальнику штаба. Продолжая разъезды по портам и делая смотры кораблей, Корнилов все чаще оглядывался на Николаев, ибо его нельзя было теперь надолго покидать. «Оставить здешний край на месяц опасно», – отмечал он в декабре 1851 г. «Частые отлучки мои из Николаева, •– повторял он позже в письме к Матюшкину, – вредят административным делам, особенно по штабу и по строительной части».
Ежегодно под руководством Корнилова составлялись «программы плавания судов Черноморского флота», которыми определялся характер боевой подготовки всех соединений флота; разрабатывалась дислокация частей и соединений; штаб ведал госпиталями, количеством и состоянием оружия, назначением офицеров, разработкой позывных сигналов, караулами, помещениями. В штаб стекались сведения и отчеты от командиров дивизий и кораблей о результатах плаваний, об итогах стрельб, ведомости учений.
отчеты о нововведениях, рапорты о некомплекте команд, о рейсах транспортов, о крейсерстве у кавказских берегов и т. п.
Сфера ‘деятельности Корнилова выходила далеко за рамки штаба, потому что он был вынужден заниматься многими вопросами, входившими в ведение строительного ведомства и интендантства. Еще с ноября 1849 г. он был, например, председателем комиссии по составлению «нормальных правил для практического производства кораблестроительных работ». Он заботился о баркасах и артиллерийских станках; вел переписку с морским министерством о введении на вооружение нарезных штуцеров; ходатайствовал о замене медных пороховых ящиков на кораблях цинковыми ящиками, о заготовлении недостающего числа ружей, пистолетов и холодного оружия; занимался реорганизацией команд, береговых частей и соединений. «Теперь вожусь с ластовыми экипажами, – писал он Матюшкину в июне 1852 г., – потом возьмусь за рабочие».
С целью ознакомления с усовершенствованиями по всем отраслям военно-морского дела и для докладов о потребностях Черноморского флота Корнилов в течение 1850– 1853 гг. несколько раз совершал поездки в Петербург, где представлялся высшему морскому начальству и Николаю I. Как начальник Главного морского штаба Ментиков, так и управляющий морским министерством великий князь Константин каждый раз стремились подчеркнуть совершенство в устройстве Балтийского флота и показать «провинциалу-черноморцу» все балтийские учреждения в лучшем виде. Однако от проницательного взгляда Корнилова не могла укрыться неприглядная изнанка блестящего парадного фасада балтийских флотских учреждений.
В одну из своих поездок, например, Корнилов внимательно и подробно осмотрел адмиралтейства, мастерские, корабли, учебные заведения, порты, базы Балтийского флота и был поражен их внешней, показной стороной. На одном из кораблей, на котором присутствовал Корнилов, «артиллерийское ученье было произведено без всякой системы и, кажется, состояло только в перебежках по барабану с борта на борт». Со всей эскадры «палили изрядно, жаль только, что и при этом незаметно никакого порядка в обучении; делается для того только, чтобы расстрелять
шесть тысяч снарядов, предназначенных на зиму для сего предмета» *.
Особенно заинтересовал Корнилова так называемый учебный рабочий экипаж – учебное заведение, организованное для подготовки квалифицированных корабельных инженеров, артиллеристов, а также инженерчмехаников для паровых кораблей. Но и здесь блестящая внешность, не сочетавшаяся с глубоким познанием дела, вызвала у Корнилова глубокое разочарование. «Осматривал учебный рабочий экипаж в Главном адмиралтействе, который произвел на меня впечатление еще более грустное, балаганное, – отмечал он. – Жаль нашей пресловутой столицы. Один только враг России мог придумать такое заведение. Заведение, которое должно бы было сделать адмиралтейским мастерским большую пользу, теперь и *по устройству своему и по направлению делает наивеличайший вред. Стоит взглянуть на распределение времени, на устройство мас-терских и изделий, не говоря уже об этой педантической чистоте классов и камор. В особенности огромное число прислуги...»102102
ЦГАВМФ. 4». 13. оп. 1. д. 12. л. 66.
[Закрыть]103103
Там же, а. 77.
[Закрыть]
При осмотре штурманской роты и 1-го учебного экипажа, где обучались дети матросов, Корнилова вновь поразила внешняя, показная сторона этих учебных заведений. «В чернильницах нет чернил», – отмечал Корнилов, – но внешне во всем гладко и чисто1
Помимо неудовлетворенности специальной морской частью, Корнилову была тяжела и общая атмосфера жизни в столице. «Ни одного дня не проходило, – писал он, – чтоб я не наряжался с утра в футляр». После всех многочисленных приемов, обедов, званых ужинов и выездов его еще сильнее потянуло на Черноморье. «Деятельность здесь, – подводил итог Корнилов, – в большом упадке; все живет изо дня в день, утопая в роскоши, удовольствиях, обедах в английском клубе, где разговор только за обедом и то про кушанья, а после обеда прекращается все: все занимаются на зеленых столах. Обеды, вечера, театры, балы и прочее... Нет, тяжело, скорей бы домой»104104
Там же, а. 76.
[Закрыть].
Первый русский Морской устав был издан в 1720 г.; он отражал состояние флота первой четверти XVIII века. К середине XIX века, когда русский регулярный военный флот насчитывал уже свыше полутора столетий своего существования, произошли огромные перемены во всех отраслях военно-морского дела: в кораблестроении и вооружении, в организации и боевой подготовке. Однако во флоте по-прежнему продолжали руководствоваться устаревшим уставом XVIII века вплоть до 1851—1853 г., когда, наконец, был разработан новый устав.
В этом деле самое активное участие принял Корнилов. С октября 1851 г. по июнь 1852 г. он внимательно изучил все основные разделы проекта устава и представил в Петербург свои замечания – «многолетний плод своих убеждений о корабельном управлении». Эти замечания Корнилова, охватывающие огромный круг вопросов о различных сторонах флотской службы и обязанностях должностных лиц, ярко свидетельствовали о его глубокой эрудиции в морском деле, о стремлении применить опыт Черноморского флота во всем русском флоте.
Одним из первых разделов устава был раздел о флагманах1 и штабах. Излагая свое мнение об обязанностях флагманов, Корнилов подчеркивал необходимость постоянного личного контроля с их стороны за боевой подготовкой соединения. Он считал, что флагман должен «делать смотр своим судам не менее как раз в месяц и требовать, чтобы то же исполняли подчиненные ему флагмана»2. Одним из важнейших средств к совершенствованию боевой подготовки на всех кораблях соединения Корнилов считал также образцовое состояние флагманского корабля. Поэтому внимание флагмана, -писал он, должно быть прежде всего обращено на то, «чтобы исправное содержание корабля, на котором флаг его поднят, служило примером другим судам».
Не меньшее значение придавал Корнилов уровню теоретической и практической подготовки флагманов, учитывая, что от знаний самого начальника во многом зависит эффективность руководства и контроля за деятельностью своих
' Флагман – командир соединения (отряда, эскадры) кораблей, поднимающий свой флаг на корабле, где он находится * ЦГАВМФ, ф. 224. д. 22. л, 102
подчиненных. Подчеркивая, например, важность артиллерийских знании для каждого флагмана, он писал: «Каждый адмирал, достигнув своего звания через командование военными судами, должен быть знаком с деталями морской артиллерии не менее каждого из морских артиллеристов»105105
* ЦГАВМФ. ф. 224, д. 22, л. 439 об.
[Закрыть]106106
Там же, л. 357.
[Закрыть].
Корнилов отводил важную роль начальникам штабов всех степеней. «Начальник штаба,—писал он,—должен знать все намерения главнокомандующего, иначе он не будет в состоянии заменить его в случае смерти или передать его планы его преемнику». Вместо помещенных в проекте устава статей о начальнике штаба он представил свои формулировки, в которых исчерпывающим образом осветил все стороны деятельности начальника штаба.
С особой настойчивостью Корнилов проводил мысль о необходимости поддержания высокой боеготовности кораблей. Приняв в командование соединение, писал он, флагман обязан удостовериться, что «все суда находятся в полной готовности к походу и бою». В военное время в отдельном плавании флагман должен беречь провизию и запасы, чтобы «иметь флот или эскадру в готовности для действительной службы, если бы она даже была вовсе лишена всяких подвозов»*.
Каждый командир корабля, писал Корнилов, «должен наблюдать, чтобы корабль его во всякое время, днем ли то или ночью, состоял в совершенной готовности исполнить сигнал или следовать движениям старшего». Любая вещь на корабле, продолжал он, должна иметь «целью или готовность корабля вступить в сражение или готовность его вступить под паруса». Высокая боеготовность должна поддерживаться и после проведенного боя, для чего «после сражения командир безотлагательно приводит корабль в такое состояние, чтобы вновь быть готовым к бою»107107
Там же, д. 12, л. 255, д. 13, л. 102.
[Закрыть].
В проекте Морского устава говорилось, что командир корабля вправе начать бой с противником только с разрешения флагмана, независимо от обстановки. Учитывая важность внезапности, Корнилов по-иному сформулировал эту статью, предложив дать право командиру в ряде случаев самому решать вопрос о начале атаки.
Важное значение придавал Корнилов своевременной
доставке разведывательных сведений и другой информации о военное время. Он считал, что необходимо разрешить командиру корабля нанять даже купеческое судно и послать его по назначению в том случае, если этот командир корабля, «находясь в отдельном плавании, получит сведение, важное для главнокомандующего флотом или для посланника, или для отряда каких судов, или для какой армии или крепости русской, или нации, в союзе с Россией находящейся». Вместе с тем Корнилов подчеркивал недопустимость разглашения секретных сведений в частной переписке.
Целый ряд статей проекта устава вызвал резкие возражения Корнилова из-за вопиющего несоответствия их практике и установившимся порядкам на флоте. Отмечая, например, полную неприемлемость боевого расписания, предложенного в главе о десантах, Корнилов писал: «Таковое расписание к орудиям расстроит только корабельный порядок, и я бы не желал вступить в бой при таком распоряжении. Мы расписание приводим в надлежащий вид не часами, а месяцами; делу в тревоге и абордаже научаем матросов не в один день, а беспрерывными занятиями в продолжение долгого времени». Резкое возражение вызвала у Корнилова и статья устава, содержавшая упоминание о сдаче военного корабля в плен. «У англичан ничего нет о сдаче в плен– неужели нам более их в этом нужда!»1
Много места в своих замечаниях по уставу Корнилов уделил вопросам внутреннего распорядка на корабле и обязанностям командира в различных условиях обстановки. До мельчайших подробностей вникая в существо дела, он не только исправлял проект устава, но и вносил совершенно новые статьи. Им, например, была предложена специальная статья, чтобы «отвратить многие злоупотребления» на кораблях, т. е. воровство и расхищение материалов. «Командиру надлежит строго смотреть, – формулировал он эту статью, – чтобы корабельные материалы, вещи и провизия никак бы не были употребляемы для личной пользы». Категорически возражал Корнилов против большого числа содержателен – унтер-офицеров, предусмотренных уставом. «Всякое размножение начальников,– писал он в связи с этим, – размножает письмо и вредит делу».
С серьезными возражениями выступил Корнилов про-
» ЦГАВМФ, ф. 224. д. 12. л. 255 об.
‘Г,
тив статей устава, в которых определялись дисциплинарные права офицеров. По поводу статьи, предоставлявшей право телесного наказания матросов вахтенным начальникам, он писал: «Я бы полагал, что право телесного наказания для вахтенных командиров можно вовсе уничтожить, а предоставить им за неисправность и леность штрафовать повторением работ и тому подобными наказаниями». Корнилов возражал и против предоставления права телесного наказания старшему офицеру, который на кораблях того времени был, как правило, наиболее жестоким и рьяным рукоприкладчиком. В своем отзыве на статью о старшем офицере он писал: «Вообще желательно бы штрафование за поименованные проступки (т. е. «за неисправность, леность, неопрятность и вообще за маловажные проступки». – Б. 3.) не производить телесными наказаниями, а арестом и наказаниями, которые, не унижая человека, соединялись бы с пользою для службы, как-то: службой вне очереди, повторением сделанного маневра, лишением отпуска на берег или работой в час отдохновения; в особенности должны быть строго воспрещены наказания в горячке и на месте преступления...» В целом, по мнению Корнилова, ни один из офицеров, подчиненных командиру корабля, не должен обладать правом телесного наказания матросов.
Для того времени высказывать подобные взгляды и представлять их в официальном порядке было поступком довольно редким и омелым. Кроме Корнилова, ни один из адмиралов и офицеров не отважился на подобные возражения против этих статей проекта устава, что лучше всего свидетельствует об отличии взглядов Корнилова от господствовавших тогда взглядов на телесные 'наказания во флоте. Впрочем, Корнилов не был последовательным и выступил сторонником лишь ограничения телесных наказаний, но не полной ликвидации их. В своих замечаниях на устав он указал, что следует сохранить телесные наказания за «важные проступки, то есть: воровство, буйство и грубость против старшего», предоставив право применять их только командиру корабля или лицу, его заменяющему.
Однако даже половинчатое решение вопроса об ограничении телесных наказаний, как и многие другие предложения Корнилова, не было принято руководителями морского ведомства и не включено в Морской устав.
Наряду с просмотром проекта устава Корнилов в течение 1849—1852 гг. высказал свое мнение по целому ряду
других важных документов, в том числе по «Своду морских сигналов». Летом 1849 г. он вместе с Нахимовым внимательно изучил книгу «Артиллерийское ученье», переведенную офицерами Балтийского флота. В своих замечаниях он, в частности, подчеркивал, что пособие для обучаемых (т. о. матросов) должно прежде всего отвечать требованиям
 |
| Севастопольские доки.- |
доступности и учета их подготовки. Он указывал, что наставления по артиллерии для матросов «должны заключать в себе самое необходимое и по возможности быть приспособлены к взгляду людей самых простых».
Давая заключения на уставные и другие служебные документы, Корнилов исходил не только из собственных мнений, а всегда советовался с опытными специалистами и стремился проводить испытания новых положений на практике. Прежде чем дать заключение на «Артиллерийское ученье», он испытал его на фрегате «Коварна» во время плавания на нем в июле 1849 г. Точно так же во время плавания на фрегате «Кулевчи» в июле 1850 г. он отдал.специальный приказ, обязывавший командиров принять необходимые меры «для лучшего испытания вновь вводимых сигналов».
Но какими бы вопросами ни занимался Корнилов как начальник штаба флота, постоянно в центре его внимания
97
7 В. А. Корнилов
был паровой флот. Забота о развитии парового флота на Черном море проявлялась ц деятельности Корнилова повседневно и в самых разнообразных формах.
При просмотре Морского устава он предлагал включить паровые корабли в те статьи, где составители по привычке говорили лишь о парусных кораблях; при производстве испытаний вступающих в строй пароходов обязательно доводил до сведения командиров других паровых кораблей о результатах этих испытаний; при необходимости решения той или иной технической проблемы консультировал ие только инженеров в Николаеве, но и посылал свои соображения черноморским офицерам, находившимся в командировке в Англии. Большое внимание уделял Корнилов подбору кадров для паровых кораблей. В одной из докладных записок, например, он предлагал назначать на пароходы офицеров «по строгому выбору»: только тех, которые «своей службой на парусных судах командирами -или в звании старших офицеров заслужили особенное внимание начальства».
Во время своих многочисленных плаваний по портам Черного моря в 1849—1853 гг. Корнилов почти всегда выходил на пароходах, «предпочитая скорость и верность пароходного плавания корабельному комфорту». За эти годы его флаг развевался на пароходах «Владимир», «Бессарабия», «Громоносец», «Одесса», «Эльборус», «Ду* най», «Могучий», «Метеор», «Тамань».
Особенно серьезное внимание Корнилова было обращено на паровые корабли с винтовым движителем. Интерес его к этому важнейшему техническому новшеству был обусловлен пониманием объективных технических потребностей флота того времени.
Колесные паровые корабли имели ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с парусными кораблями, но обладали вместе с тем и серьезными недостатками. Артиллерийское вооружение колесных ‘пароходов было значительно меньше, а увеличить его было невозможно. Гребные колеса, вал и часть паровых котлов находились выше ватерлинии108108
Ватерлиния – линия соприкосновения борта судна со спокойной поверхностью води.
[Закрыть] и были подвержены обстрелу неприятельской артиллерии, что значительно снижало живучесть колесных кораблей. На волнении и особенно при бортовой качке перемены в углублении гребных колес значительно уменьшали их полезное действие. Наконец, огромные колесные кожухи при ветре увеличивали силу сопротивления и снижали маневренные качества корабля– Все эти недостатки устранялись с введением винтового движителя, который дал возможность создать боевые суда с мощным вооружением и прекрасными маневренными качествами.
Но винтовой движитель завоевывал признание с большим трудом. В конце 40-х – начале 50-х годов стали в основном ясны его преимущества перед гребными колесами, но далеко не все технические проблемы удалось практически разрешить. Даже в 1852 году в Англии «особые прихоти Архимедова двигателя, требовавшие совершенно новых линий (обводов), не были тогда известны, и, начавши приделывать винты второпях, без предварительных исследований, англичане должны были в весьма скором времени разобрать кормы тридцати с лишкем судов, изготовленных по новой системе, и выстроить их сообразно динамическим требованиям нового двигателя...»109109
ЦГАВМФ. ф. 26. д. 16. л. 155.
[Закрыть]
Несмотря на все трудности в новом деле, внедрение винтового движителя в передовых капиталистических странах того времени шло быстрыми темпами. На различные технические проекты тратились огромные средства, а развитая индустрия позволяла практически осуществлять их в сжатые сроки. Противоречивость мнений и отсутствие единого взгляда на перспективы развития парового флота не останавливали технического прогресса. В Англии, как отмечали современники, «торопились создать паровой флот, не заботясь об издержках и не придерживаясь никакой системы. Распиливали и наставляли старые корабли, принимали и выполняли всякие проекты, обещавшие успех, вставляли в корабли механизмы, полные и вспомогательные, делали винты подъемные и постоянные, короче – пользовались огромными государственными и частными средствами Англии и массой технических познаний в стране – без определенной цели, лишь бы только задымился флот во всем его составе»110110
Там же, л. 131.
[Закрыть].
В России же на начальном этапе развития винтового флота повторялось то же печальное положение, которое было с колесными кораблями: отечественная промышлен-пая база была слаба, руководящие круги морского ведомства нс сознавали всей важности и необходимости нового перелома в кораблестроении. Единственный русский винтовой фрегат «Архимед» разбился в 1850 г. в плавании на Балтике, и после этого строительство винтовых пароходов фактически заглохло. В этих условиях Корнилов выступил в роли неутомимого и настойчивого поборника технического прогресса во флоте.
Первым винтовым кораблем на Черноморском флоте была шхуна «Аргонавт», построенная в Англии и доставленная в Севастополь в ноябре 1851 г. Корнилов сразу же оценил се тактико-технические возможности, назвал «пре-полезной шхуной» и во время поездки в Петербург привез чертежи ее для Пароходного комитета, чтобы там могли ознакомиться с ними и сделать практические выводы для дальнейшего строительства винтовых кораблей. Но, полу-чив чертежи «Аргонавта», Пароходный комитет в мае 1852 г. устроил совещание по вопросу: «Может ли служба означенной шхуны «Аргонавт» вознаградить стоимость ее постройки и содержания и представит ли она те же выгоды перед транспортом парусным...»
Пароходный комитет затребовал от штаба Черноморского флота дополнительные сведения о шхуне «Аргонавт» и начал обычную бюрократическую переписку, во время которой практическое дело стояло. Тем временем Корнилову удалось добиться разрешения на заказ еще двух винтовых кораблей для Черноморского флота. В апреле 1852 г. он представил Верху докладную записку, в которой просил «безотлагательно командировать» капитан-лейтенанта Шестакова и инженер-механиков Иващенко и Портнова для заказа кораблей в Англии и «сделать по оному заказу немедленное распоряжение, дабы нс потерять времени столь важного»111111
ЦГЛВ.МФ. ф. 243. д. 6153. лл. 15—16. 100
[Закрыть].
Корнилов разработал основные задания для постройки новых винтовых кораблей и вручил их Шестакову. В этих заданиях было указано, что при составлении спецификации в Англии необходимо соблюсти, чтобы каждый корабль «носил бы значительную бомбическую артиллерию на открытой батарее; имел бы -машину со всеми улучшениями последнего времени, как в отношении механизма, так и котлов, дымовых труб, аппарата для осмотра винта и аппарата для дистилироваиия воды; имел бы удобное помещение для офицеров, экипажа, пороха и снарядов, провизии и запасов, десантного войска и даже, в случае нужды, десантных лошадей, и был бы выстроен из лучших строительных материалов»1. Окончательные проекты кораблей надлежало представить на утверждение Корнилову. «Перед отправлением моим, – -писал позже Шестаков, – он долго и подробно высказывал спои предположения касательно преобразования флота и снабдил меня чертежами первых судов, которыми начиналась для черноморских наших сил новая эра»*.
В сентябре 1852 г– Корниловым были получены и внимательно изучены окончательные проекты двух новых винтовых пароходо-корветов. Вскоре Шестаков получил из Севастополя асе материалы, на которых было написано: «Одобряю совершенно и утверждаю все без исключения. В. Корнилова. Новые корабли получили названия «Воин» и «Витязь».
Одновременно с заказом винтовых кораблей в Англии Корнилов принимал все меры к усилению кораблестроения на Черном -морс. В сентябре 1852 г. он представил Менши-кову докладную записку, в которой на конкретном цифровом материале раскрывал процесс строительства винтовых судов в иностранных флотах. Ввиду усиленного строительства винтовых пароходов за рубежом Корнилов считал необходимым без промедлений изменить планы черноморского судостроения и срочно ввести винтовой двигатель. «Я бы полагал, – писал он, – к перемене этой приступить теперь же... Нельзя же Черноморский флот держать на отсталой от других наций ноге и тем, в случае разрыва, предоставить случайностям неравного боя»
Корнилову удалось добиться положительного решения, и спустя пять дней после его доклада в Николаеве был заложен первый винтовой линейный корабль «Босфор» (впоследствии переименованный в «Синоп»).
Одним из основных препятствий для развития винтового судостроения на Черном море являлось отсутствие со-
' ЦГЛВМФ. Ж. 243. д. 6158. ал. 15-16.
* Гам ж*-, ф. .26, д. 16. а. 131.
3 Млтгриплм для истории обороны Ссиастополя и дли биографии Кормилоиа, СПб. 1859, стр. 32—33.
Ю1
временном кораблестроительной базы. IГиколагигког адмиралтейство без углублении Днепра было фактически неири112112
Магсриллы для истории обороны Севастополя и биографии Корнилина, СПб, 1&59, гтр. 349—350
[Закрыть] годно дли строительства кораблем с большом осадком. Поэтому адмирал Лазарев еще давно составил проект адмиралтейств»! в Севастополе специально дли строительства больших паровых кораблем. Однако средств на «Лазарево адмиралтейство», как тогда намывали итог проект» не отпускали в течение многих лет. В сними с от им Корнилов в октябре 1832 г. вновь обратился к Меншикону, поставил вопрос, о необходимости коренной реконструкции черноморских адмиралтейств н просил об «ускорении решения насчет постройки Лазарева адмиралтейства». В докладе он далее указывал: