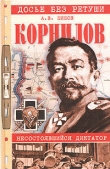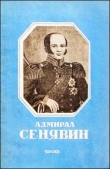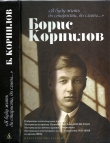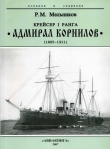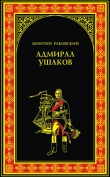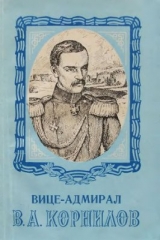
Текст книги "Вице-адмирал В. А. Корнилов"
Автор книги: Б. Зверев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
65
5*
книг, моделей, а также сбором сведений о железных судах, плавучих маяках и др.
К весне 1848 г. выполнение главной задачи – постройки пароходо-фрегата «Владимир» – подходило к завершению. В марте новый корабль был спущен на воду, в августе—сентябре прошел первые ходовые испытания. Результаты испытаний были вполне успешны: машина действо
вала безотказно, корабль имел скорость в 11 узлов7676
Узел – единица скорости: 1,852 км а час.
[Закрыть] и прекрасно слушался руля.
Длительное пребывание за рубежом давно уже тяготило Корнилова, ему надоел Лондон, хотелось скорей вернуться на родину. В июле 1848 г. он писал Матюшкину из Лондона: «Приближается время моего возвращения на
родину... Истина стихи Грибоедова: «Всюду хорошо, где
нас нет». Столица столиц мне более чем надоела – опротивела»7777
ЦГВИА. ф. 164. оп. 1. д. 1. л. 80.
[Закрыть]. Наконец, 19 сентября пароходо-фрегат «Владимир» вышел из Лондона. * Через месяц Корнилов вновь был в кругу своих друзей-черноморцев, и они не удивились «восторгу, который заметили по возвращении его в отечество».
Новый паровой корабль получил высокую оценку в Черноморском флоте. Лазарев писал, что пароход «Владимир» может быть образцом при постройке других военных пароходов.
Вскоре после возвращения на родину Корнилов был произведен в контр-адмиралы. До предстоящего освобождения очередной вакантной должности командира бригады кораблей Лазарев предполагал поручить ему выполнение целого ряда ответственных заданий: работу над «Артиллерийским учением» и «Мачтовым искусством», разработку боевых расписаний для кораблей, организацию постройки железных пароходов и введение различных улучшений по всем частям флота.
Однако зимой 1848—1849 гг. произошли непредвиденные перемены на ответственных флотских должностях в Николаеве и Севастополе. Из-за тяжелой болезни подал рапорт об увольнении с поста командира Севастопольского порта вице-адмирал Авинов, а на его место был переведен начальник штаба флота вице-адмирал Хрущев. Перед Лазаревым встал вопрос о назначении нового начальника штаба. «Контр-адмиралов у нас много, – писал он, – но легко ли избрать такого, который соединил бы в себе и познания морского дела и просвещения настоящего времени, которому без опасения можно было бы в критических обстоятельствах доверить и честь флага и честь нации?»7878
Виие-адмирал В. А. Корнилов, Материалы..., стр. 115.
[Закрыть]-
Выбор Лазарева пал на Корнилова7979
Ходатайство адмирала Лазарева о назначении Корнилова на пост начальника штаба Черноморского флота было направлено в Петербург в январе 1849 г. Характерно, однако, что «высочайшее» согласие на это назначение последовало с большой задержкой. В апреле 1849 г. Корнилову разрешили только временно исполнять должность начальника штаба флота и принять дела, а лишь в июле 1850 г., т. е. спустя полтора года после представления, он был утвержден в этой должности.
[Закрыть]. После 25 лет непрерывной корабельной службы, из которых в общей сложности 212 месяцев (т. е. свыше 17 лет) было проведено в плаваниях и походах, Корнилову предстоял переход к новой, штабной деятельности.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ФЛОТА

олжность начальника штаба Черноморского флота Кор
нилов принял в апреле 1849 г. Штаб состоял в то время из канцелярии, дежурства, аудитората, гидрографического и медицинского отделений; кроме них, начальнику штаба подчинялись архив флота, типография, обсерватория, библиотека. Наряду со штабом важным органом управления флотом являлось интендантство, начальник которого (обер-интендант) подчинялся непосредственно главному командиру. Интендантство ведало очень обширным кругом вопросов, включая постройку и вооружение кораблей. Инженерно-строительная часть составляла отдельный орган, подчиненный строительному департаменту морского министерства.
Для существовавшей в то время системы управления флотом, как и для всего центрального и местного государственного аппарата России, наиболее характерным являлось господство бюрократии, канцелярской волокиты, взяточничества и бескультурья. «Бумаг столько,—писал Лазарев.– что сижу по 10 и 12 часов в сутки и выбиваюсь из сил, но главное в том, что проклятые эти бумаги отнимают у меня время везде быть, все самому видеть»8080
«Морской сборник», 1918, № 7—8, стр. 119.
[Закрыть]. Творцов этих бумаг—чиновников различных рангов—Лазарев именовал не иначе как «пишущей тварью». Впрочем, значительная часть бумаг рождалась не на месте, а шла из центра, так как «бумажных люден в Петербурге в сто раз более нежели собак».
Искоренить этот порядок в то время было невозможно, потому что он был заведен не отдельными личностями, а представлял собой систему, свойственную аппарату управления крепостной страны. Количество бумаг росло из года в год. Если, например, в 20-х годах в управлениях Черноморского флота число «входящих и исходящих номеров» исчислялось ежегодно в 5 тысяч, то в 30-х годах достигало 35 тысяч, а в 40-х годах – 70 тысяч. «А против прежнего, – отмечал Лазарев, – толку в отчетности и вообще в делопроизводстве нисколько не более, а еще более запутанности».
Не удивительно поэтому, что первым впечатлением Корнилова, пришедшего в штаб после многолетней службы на кораблях, явилось обилие штабной переписки. Уже в первые дни работы в его дневнике появляются записи: «От бумаг голова пошла кругом», «Трудно выдумать ловчее путаницы нашей отчетности!» Чтобы хоть как-нибудь избежать укоренившихся порядков в управлении флотом, он стремился наладить систематические выезды в порты и базы, на корабли и соединения, где можно яснее представить себе истинную картину состояния флота.
Уже через две недели после вступления в должность начальника штаба Корнилов докладывает Лазареву о том, что ему приходится очень редко встречаться с командирами и офицерами кораблей. В связи с этим он просит разрешения устраивать инспекторские смотры кораблей, производить личный осмотр портов, арсеналов, маяков, верфей, строений, госпиталей, мастерских, экипажных магазинов, а также совершать плавания на отрядах судов, «занимая команды эволюциями и вообще морскою практикою». После получения разрешения Корнилов начал проводить этот порядок в жизнь.
Уже в течение первого года своей новой деятельности Корнилов находится в постоянных разъездах по портам Черноморского побережья. Здесь он своими глазами увидел действительное положение и убедился, что подлинные результаты деятельности . многих сановников, старших и младших чиновников совсем не таковы, каковыми они представлялись в официальных отчетах.
Севастополь, который Корнилов знал давно и неплохо, произвел на него тяжелое впечатление прежде всего потому, что там по-прежнему мало заботились о помещениях для матросов. Осматривая их, Корнилов писал: «Казармы текут; люди помещены в три этажа, т. е. на полу, потом на полатях первого этажа и на полатях под крышей – потолка нет». Не в лучшем положении находились и другие помещения, в которых жили матросы. Осмотрев здание 28-го флотского экипажа, он записал: «Когда взойдешь – трудно поверить, что все эти 120 и 130 человек так живут... Крыша течет, рамы ветхи до невероятия, стекол многих нет»1.
Внимательному осмотру подверглись порты северо-западного побережья Черного моря. Корнилов совершил плавание в Очаков, Одессу, Херсон, Днестровский лиман. Галац, Тульчу и Измаил, где детально осмотрел все учреждения, а также корабли базировавшейся там Дунайской флотилии. «Я все нашел, – писал он, – кроме флотилии, в самом жалком виде». В самом Измаиле, например, кораблестроительные и портовые заведения назывались адмиралтейством «более по преданию, чем по устройству».
После осмотра дунайских портов Корнилов отправился к берегам Крыма и Приазовья. Осмотрев Ялту и Феодосию, он совершил плавание по портам Азовского моря, заходил в Бердянск, Т аганрог, Ейск. В Таганроге, где находилось старинное комиссионерство Черноморского флота, было адмиралтейство, «в коем нет признаков строений, а состоит оно из груды ядер, бомб и цистерн».
В Керченском порту в то время были расположены учреждения Черноморской береговой линии, провиантские магазины, здесь же строились железоплавильные и литейные мастерские, которые должны были работать на местной руде. После осмотра всего хозяйства Корнилов отметил, что Керченское адмиралтейство «так же пусто, как Таганрогское», и что оно «соответствует своему капитану над портом, который вполовину разбит параличем».
Порты восточного побережья Черного моря: Новороссийск, Редут-кале, Геленджик, Сухуми—также содержались отнюдь не в образцовом порядке. В Геленджике, например, «две тысячи человек, – писал Корнилов,—гниют в жалком укреплении»5– 8181
1 ЦГАВМФ, Ф. 13. оп. 1. д. 12. лл. 24—25.
[Закрыть]8282
Там же, л. 61.
[Закрыть]
Осмотры и проверки портов Корнилов продолжал и в течение последующих лет. В 1850 г. он, кроме Николаева, Севастополя, Керчи и Новороссийска, которые посещал по многу раз, осматривал порт в Феодосии, крепость в Анапе, бывал в Измаиле, Ялте, Херсоне и других базах.
В следующем году он произвел детальный осмотр Ростова-на-Дону, где находился транзитный пункт для доставки различных предметов снабжение и вооружения, поступавшего на флот из внутренних областей России. «Осмотрев Ростовскую пристань,—докладывал он в июле 1851 г., – я нашел склады наши на оной в самом жалком положении... Пушки новейшего чертежа, отлитые с большим тщанием, валяются в илу без всяких под ними стелюг и даже с незаткнутыми затравниками. Якоря, выкованные с большой точностью по последним моделям, разбросаны на том же побережье. Наконец, железо разных сортов, и в том числе кили, штевни и шпангоуты для железных пароходов и барж, хоть и собраны в одну кучу и огорожены кругом железным забором, но открыты непогоде, а самое место заливается водой при разлитии реки». Далее он указывал, что система вывоза этих материалов неудовлетворительная, а между тем в Николаеве и Севастополе постоянно жалуются на недостаток сортового железа и вынуждены переделывать старые пещи; на многих судах еще нс поставлены орудия, а именно они «находятся между брошенными в глине прибрежья реки Дона»8383
Вице-адмирал В. А. Корнилов, Материалы..:, стр. 145—146.
[Закрыть].
Заглядывая в самые захолустные места, Корнилов избегал всяких торжественных встреч, останавливался в портах попросту, беседовал с людьми, расспрашивал о нуждах, все записывал. Несмотря на неудобства этих постоянных разъездов, они были для него не только важнее, но и приятнее, чем канцелярщина в Николаеве. После каждого осмотра он докладывал главному командиру флота об обнаруженных непорядках и недостатках; просил его вмешательства в дела интендантства и строительной части; жестко требовал устранения всех безобразий от лиц, подчиненных лично ему; наказывал их, снижал в должностях, внимательно подбирал на ответственные посты людей способных и энергичных. Но каждодневно и ежечасно он все больше чувствовал свое бессилие.
«В сотый раз, – писал он брату в октябре 1850 г., —
на пути в Севастополь, но это мой отдых. Если б нс эти поездки, то я бы захворал от дел правильного течения. Ты не можешь себе представить, до какой степени много поступает бумаг и, по крайней мерс, на сто бумаг девяносто девять самого пустого содержания. Чувствуешь, как тупеешь! И что самое печальное: встречаешь зло, видишь, что даже подлежишь за него ответу, если нс начальству, то совести, и вместе с тем видишь, что бессилен...»8484
Вице-адмирал В. Л. Корнилов, Материалы..., стр. 139.
[Закрыть]
Наряду с осмотрами портов и баз Корнилов стал регулярно осматривать корабли по возвращении их из крейсерства у кавказского побережья. Цель этих инспекторских смотров состояла, в частности, в том, чтобы иметь возможность «ознакомиться лично с теми из командиров и офицеров, которые подают наибольшую надежду для службы, равно как и узнать тех, которые выполняют ее с нерадением или неспособностью». Эти смотры Корнилов проводил иногда по нескольку раз в год. Во время них он проверял расписания, бил тревоги, вызывал абордажные партии, заставлял при тревогах производить различные действия парусами, проверял размещение судовых принадлежностей, приказывал производить подъем гребных судов, съемку с якоря, высадку десантных партии. Большое внимание обращал он на качество вооружения и оснащения судов.
Одновременно с мелкими судами Корнилов регулярно осматривал линейные корабли, проверял порядок как на них самих, так и в их помещениях на берегу. Благодаря смотрам кораблей Корнилов мог добиваться установления единообразия в организации службы на них. В частности, на всех кораблях было введено такое же артиллерийское ученье, как на корабле «Двенадцать апостолов». «Такие смотры или, лучшо сказать, публичные экзамены судов, – писал А. Жандр, – электризовали черноморских моряков».
Дополнением к инспекторским смотрам являлись плавания отрядов судов под флагом начальника штаба флота. Составив небольшой отряд из 5—6 фрегатов, бригов или корветов, Корнилов поднимал на одном из них свои флаг и выходил в морс для практических учении, лично руководя боевой подготовкой экипажей. В 1849 г. Корнилов плавал с отрядом судов на фрегате «Коварна», в 1850 г.– на фрегате «Кулевчи», в 1851 г. – на фрегате «Кагул». В состав этих отрядов входили ежегодно различные суда флота.
В общей сложности за несколько лет пребывания на посту начальника штаба флота Корнилов путем регулярных смотров и инспекций лично посетил свыше 50 кораблей, т. е. все боевое ядро Черноморского флота.
Осмотры, инспекции и плавания на кораблях Черноморского флота позволяли Корнилову видеть наиболее существенные недостатки в организации боевой подготовки моряков. Еще в 1849 г. он заметил большую разницу между продолжительностью плавания на больших и малых кораблях. Будучи сторонником продолжительных морских походов, он докладывал: «Мелкие суда, находясь иногда в. плавании в продолжение круглого года, и даже фрегаты, имеющие свою очередь в крейсерстве у восточного берега, гораздо счастливее линейных кораблей: команды их при
знающем и деятельном командире могут доходить до той матросской сноровки, которая приобретается одним беспрерывным упражнением и частыми встречами с многоразличными случаями в море».
Для улучшения подготовки экипажей линейных кораблей Корнилов предложил команды мелких судов составлять из двух частей: одной постоянной и другой—переменной, ежегодно меняемой по решению командира экипажа. Таким образом, на мелких судах могли бы пройти практику многие матросы линейных кораблей. Это предложение было одобрено, и в течение последующих лет специальная морская выучка всех матросов стала выравниваться, что сказалось на уровне боевой подготовки флота в целом.
4с *
*
Не только боевая подготовка на кораблях и эскадрах флота, но и порядок обучения младших специалистов в учебных заведениях играл важную роль в повышении боеспособности флота. Но дело это в то время было поставлено очень плохо. На Черном море существовало фактически только одно учебное заведение для подготовки артиллерийских и строевых унтер-офицеров – так называемый 2-й учебный экипаж8585
1-й учебный экипаж находился б Балтийском флоте..
[Закрыть], в котором обучалось около 600 детей матросов.
Основное внимание в экипаже было обращено на строевую подготовку, а занятиям по специальности отводилось второстепенное место. «Смотрел учебный экипаж, – отмечал Корнилов в 1849 г., – хороша и казарма, хорошо и хозяйство, мальчики имеют веселый и бравый вид. Жаль только, что все внимание – на фронтовую... Артиллерии учат кое-как»8686
ЦГАВМФ. ф. 13, оп. 1, д. 12, л. 22.
[Закрыть].
Корнилов бывал и в училище юнгов, где обучались малолетние дети матросов. «Смотрел училище юнгов – здание развалина». Спустя некоторое время после исправления здания он отмечал: «Помещение юнг просторно, пища хороша, но все остальное запущено « в беспорядке». Корнилов уделял внимание и Николаевскому девичьему училищу, в котором обучались дочери матросов. С 1850 г. он стал даже инспектором этого училища.
Подготовка будущих офицеров в военно-морских учебных заведениях в наибольшей степени беспокоила Корнилова. Прежде, с 80-х годов XVIII века, в Херсоне был морской корпус, аналогичный морскому кадетскому корпусу в Петербурге. В конце XVIII в. это учебное заведение было переведено в Николаев и разделено на училище корабельной архитектуры и штурманское училище. Одновременно с этим в Николаеве было основано артиллерийское училище. Впоследствии, однако, было признано более «удобным» готовить офицерские кадры в столице, под непосредственным присмотром высших сановников. Училище корабельной архитектуры и артиллерийское училище были упразднены, а штурманское училище было преобразовано в штурманскую роту.
Вскоре после вступления в должность начальника штаба Корнилов ознакомился со штурманской ротой и поразился разницей между нею и штурманской ротой в Петербурге. «Рассматривал положение о штурманской роте, – писал он. – Страшная разница между Балтийской и Черноморской...»8787
Там же. л. 19.
[Закрыть]
В постановке и организации учебной работы в штурманской роте он вскрыл серьезные недостатки: «Нет ни успеха наук, ни гимнастики, столько нужной для развития способностей... По осмотре – экзаменовал желающих в юнкера: очень мало способных, другие из рук вон как слабо приготовлены, а мальчики уже не первой молодости». В течение всего последующего времени он уделял постоянное вни-манне штурманской роте, заботился о снабжении ее леем необходимым и участвовал п разработке учебных программ.
Одна штурманская рота не могла удовлетворить потребности флота, а морской кадетский корпус присылал на юг мало офицеров. В связи с этим на Черном море практиковалась система подготовки юнкеров. Юнкерами называли тогда дворянских сыновей, добровольно поступивших на флот и проходивших унтер-офицерскую службу на кораблях. После экзамена их выпускали в офицеры.
В мае 1849 г. Корнилов отмечал: «Экзаменовал кандидатов в юнкера. Плохо, очень плохо». Еще хуже было с организацией их обучения: они жили на вольных квартирах, и контролировать их нс представлялось возможным. Поэтому Корнилов стал настойчиво добиваться, чтобы обучение было поставлено на новых основах.
Под председательством Корнилова работала комиссия, которая предложила учредить для юнкеров Черноморского флота специальную школу; в июле 1850 г. Лазарев ходатайствовал об этом, а спустя год из Петербурга пришло разрешение на устройство в Николаеве такой школы «в виде опыта». Корнилов назначил для нее опытных руководителей и воспитателей, определил расходы и порядок обучения. Одновременно с этим он разработал положение об этой школе, которое было утверждено в апреле 1852 г. В положении было записано, что школа имеет целью приучить воспитанников к должной дисциплине и дать «однообразнее образование в науках, необходимых морскому офицеру». Для поступления в школу необходимо было знать весь кадетский курс морского корпуса; в школе должен быть пройден в три года весь гардемаринский курс по программе морского корпуса.
В то время как очень немногие начальники были заинтересованы в кропотливой работе по обучению и воспитанию молодых кадров и видели в этой работе лишь тягостную для себя обузу, Корнилов ежегодно плавал с гардемаринами и лично руководил их подготовкой, а о новой школе говорил: «Я лелею ее, как свое дитя». Он постоянно участвовал в экзаменационных комиссиях и всемерно содействовал наглядности обучения и внедрению наиболее рациональных педагогических приемов.
В одной из своих докладных записок он писал: «Присутствуя на последнем публичном экзамене... я заметил в
НО
воспитанниках недостаток наглядного знакомства с орудиями, станками и вообще всей артиллерийской принадлежностью. Будучи убежден, что преподаваемый предмет тогда только прочно вкореняется в понятиях и памяти учащихся, когда вместе с книжным объяснением он показывается им на самом деле, я имею честь просить дозволить сделать для школы флотских юнкеров модели орудий... Орудия должны быть деревянные, разрезанные по длине, дабы можно было видеть устройство камеры и канала. Кроме того, отпустить одну бомбу, брандскугель, дальнюю и ближнюю картечь и вообще по одному из всех употребляемых в нашем флоте снарядов»8888
ЦГАВМФ. ф. 13, д. 2. ал. 148-148 об.
О В.’А. Корнилов
[Закрыть].
Еще одной важной отраслью штабной деятельности Корнилова была гидрография. Имея в своем подчинении гидрографическое отделение штаба с гидрографическим депо карт, типографией, обсерваторией и библиотекой, а также управление черноморских и азовских маяков, он повседневно руководил гидрографическим -исследованием Черного моря и навигационным обеспечением плавания кораблей.
В гидрографическом депо Черноморского флота печатались многие карты, лоции, таблицы и другие навигационные пособия. Перед сотрудниками депо была поставлена задача издать не только карты по Черному и Азовскому морям, но и подготовить перевод карт и лоций Средиземного моря «и Атлантики вплоть до побережья Баренцова моря. И здесь Корнилову пришлось приложить много усилий для наведения порядка и организованности, ибо недостатки встречались на каждом шагу. Характеризуя, например, состояние обсерватории, он отмечал, что она – «в жалком виде. Крыша течет, инструменты плохие, неверные и все более мюнхенские».
Однако в наиболее плачевном состоянии находились в то время маяки Черного и Азовского морей, непосредственную ответственность за которые нес управляющий гидрографическим отделением штаба генерал-лейтенант Берх. Сразу же после назначения на пост начальника штаба Корнилов тщательно проверил состояние маяков и убедился, что тут непочатый край работы. Лично осмотрев все маяки на побережье Черного и Азовского морем, он но каждому из них сделал серьезные замечания. Маяк на о. Фидониси представлял собой, по его выражению, «га*
81
дость и в расположении, и в отделке, и в содержании». Некоторые маяки не приносили никакой пользы. «Подошел к Айтодорскому маяку ночью, тихо, – писал, например, Корнилов, – маяк горел тускло, никакой разницы с огнями на берегу... Все жалуются на этот маяк». Относительно других маяков Корнилов внес конкретные предложения о замене оборудования, постановке новых створных знаков и т. д. «Непонятно, – с возмущением писал он, – как оставлять такие серьезные вещи, как маяки, без призора. И все это от того, что Верх стар, а как его тронуть!»8989
ЦГАВМФ, ф. 13, д. 12. л. 45.
[Закрыть]
Если до 1850 г. управление черноморских и азовских маяков подчинялось управляющему гидрографическим отделением штаба, то в июне 1850 г. оно было выделено в отдельное учреждение с подчинением непосредственно начальнику штаба флота. В связи с этим под руководством Корнилова были разрешены все организационно-штатные вопросы и разработано «Положение о черноморских и азовских маяках».
Корнилову приходилось повседневно заниматься вопросами обеспечения материальных потребностей маяков и разрешать постоянные споры между начальником гидрографического отделения и директором маяков9090
Там же, ф. 243, д. 5985, док. № 524.
[Закрыть].
Самой значительной работой по исследованию Черного моря и его побережья в середине XIX века являлась опись, производившаяся лейтенантами Г. Бутаковым и И. Шестаковым. На тендерах «Скорый» и «Поспешный» они в течение 1847—1850 гг. исследовали все побережье Черного моря. Подробному изучению подверглись течения, глубины, ветры, отмели, фарватеры, стоянки, порты, навигационные ориентиры и др. Корнилов непосредственно руководил этой работой, а когда опись была завершена и корабли возвратились на стоянку в Севастополь, он на следующий день после их прибытия предложил командиру Севастопольского порта распорядиться «о присылке командиров тендеров в 11иколаев для отдания отчета по возложенному на них поручению». После кропотливого обобщения всех данных в Николаевском гидрографическом депо была издана в 1851 г. лоция Черного и Азовского морей, которой руководствовались вплоть до начала XX века.
Наряду со специальными исследовательскими работами в области изучения моря Корнилов поощрял научную работу командиров кораблей в любом плавании. Он считал, что каждый поход корабля должен быть использован для уточнения навигационной обстановки, и поэтому обязывал
 |
| Севастополь в 50-х годах XIX в. |
командиров внимательно фиксировать все гидрографические особенности и вести свой журнал, «занося в него заметки и случаи, которые бы впоследствии могли служить на пользу гидрографии».
Поясняя эту необходимость, Корнилов писал: «Во время плавания командир обязывается при всяком случае поверять русские и иностранные карты; найденные погрешности, перемены, новые мели заносить в свой журнал, наполняя его и другими для гидрографии полезными сведениями, как-то: наблюдениями над склонением компаса, над господствующими ветрами и течениями; об опасности при приближении к разным якорным местам; о снабжении, которое суда или флоты могут получать в разных портах, и другие всегда нужные замечания как о самих портах, так и о жителях, в них живущих. Если обстоятельства позволят, то, кроме заметок своих, командиру надлежит поручать штурманскому офицеру производить описи портов и
берегов (с разрешения местных властей) и потом как свой журнал, так и произведенные описи представлять по окончании плавания в Гидрографический департамент»9191
» ЦГАВМФ. ф. 224. д. 12. лл. 249 об. – 250.
[Закрыть].
Большое внимание уделял Корнилов правильной организации штурманского обеспечения плавания и предъявлял высокие требования к штурманам. Он считал также, что для привития навыков в штурманском деле и для лучшей гарантии в определении места корабля в море к навигационным вычислениям ежедневно должны привлекаться не только штурманские, но и строевые офицеры.
Корнилов постоянно заботился о повышении специальной квалификации штурманов. Он полагал, что для поощрения лучших штурманских офицеров флота «весьма было бы полезно ввести английское постановление о вычете с штурманских офицеров за требование лоцмана в своем порту и о вознаграждении этих офицеров в случае, если они своими познаниями в чужих лоцмейстерских водах избавят корабль от требования иностранного лоцмана»9292
Там же, л. 248.
[Закрыть].
Осуществление ряда мероприятий по улучшению организации службы, боевой подготовки, гидрографии и других отраслей помогло повышению боеспособности флота и значительно изменило качественное его состояние по сравнению с предшествующим периодом конца 20-х – начала 30-х годов. Значительная роль в этом принадлежала Лазареву, Корнилову, Нахимову, Истомину и »их последователям. Основной же силой практической реализации всех усовершенствований на флоте являлись, разумеется, рядовые русские люди—матросы, обеспечивавшие высокую боеспособность кораблей; мастеровые, строившие эти корабли; смотрители маяков, день и ночь стоявшие на своих постах; картографы, выпускавшие замечательные карты и навигационные, пособия, и многие другие моряки различных флотских специальностей. При этом, естественно, нельзя забывать, что в конечном счете строительство и развитие флота зависело от труда всего народа; крестьяне одевали, обували, кормили флот; рабочие на рудниках, заводах, фабриках и в мастерских добывали руд у, выплавляли металл, отливали орудия, готовили инструменты, снаряды и обеспечивали все остальные потребности флота. Именно ро-
эультаты их труда проявлялись и на рейдах, и в портах Черного моря.
В течение 40-х годов неуклонно усиливалась разница между Черноморским и Балтийским флотом, находившимся иод непосредственным надзором высших сановников и испытывавшим поэтому в большей степени скованность инициативы, господство одуряющей муштры, шагистики и вахт-парадов. Говоря об этой разнице между флотами, один из современников писал: «Черноморский флот у
главного морского начальства был пасынком, а Балтийский – любимым сынком. Часто ненадежные офицеры переводились сюда из Петербурга в виде наказания... Севастополь и Николаев, исключительно морские города, составляли как будто отдельное государство со своими законами, обычаями, убеждениями и взглядами на вещи»9393
«Русски» архип», 1883. кн. III. стр. 263.
[Закрыть].
Однако в условиях самодержавно-крепостнического строя каких-либо коренных, принципиальных отличий одной части вооруженных сил от другой не было и не могло быть. На всех флотах среди офицеров было много ярых поклонников рукоприкладства и мордобоя. На Черноморском флоте, например, особенной «известностью» как истязатели матросов пользовались лейтенанты Перелешин и Христофоров; среди экипажных командиров выделялся командир 44-го экипажа Костснич, который неоднократно «попадался в употреблении нижних чинов для своих работ» и т. п. В связи с ростом освободительного движения в стране и волной буржуазных революций в странах Западной Европы в 1848—1849 гг. система полицейского сыска и репрессий в армии и флоте была еще усилена. Военные суды, охраняя интересы господствующего класса, выносили жестокие приговоры за малейшее проявление свободомыслия, за малейшее отклонение от буквы и духа царских законов и повелений.
Как на Балтике, так и на Черноморском флоте изнурительные работы на кораблях и на берегу, антисанитарные бытовые условия в казармах, плохое питание, недостаток в одежде, издевательства со стороны офицеров-крепостнн-коо и фельдфебелей приводили к большой смертности среди матросов. Одновременно росло число побегов с флота, что являлось одной из форм протеста против дикого про-
извода николаевской военщины. Из обобщенных отчетных данных штаба Черноморского флота видно, например, что за три года, с 1849 по 1851, на Черноморском флоте умерло от болезнен свыше 3 тысяч матросов. За этот же период более 740 матросов бежало с флота.
* *
♦
В феврале 1851 г. главный командир Черноморского флота М. П. Лазарев из-за тяжелой болезни (рак желудка) был вынужден покинуть Николаев и отправиться на лечение за границу. Но дни знаменитого мореплавателя были сочтены. В ночь на 11 апреля 1851 г. адмирал скончался.
Вопрос о преемнике Лазарева на посту главного командира флота был решен еще до его смерти. Накануне его отъезда на лечение Меншиков передал ему высочайшее повеление царя: «Вам предоставлено все сдать Морицу Борисовичу Берху; никого другого на первое время мы придумать не могли». Уже 21 февраля 1851 г. новый начальник приступил к исполнению обязанностей главного командира Черноморского флота.
70-летний генерал-лейтенант Берх в течение своей долгой службы на флоте занимал много должностей, но никогда не командовал ни кораблями, ни эскадрами. Был он и директором черноморских маяков, и капитаном над Севастопольским портом, и инспектором корпуса штурманов Черноморского флота, и председателем комитета по строительству сухих доков. Свыше 15 лет он являлся управляющим гидрографическим отделением штаба флота, а с декабря 1849 г. числился членом Адмиралтенств-совета без определенных занятий. Этому человеку, не сумевшему привести в порядок даже маяки Черного моря, доверили теперь командование Черноморским флотом.
Берх позаботился прежде всего о собственных интересах. «Осмелюсь испрашивать разрешение Вашей светлости, – писал он князю Меншикову в марте 1851 г., – на поднятие существующего чину моему флага вице-адмирала с присвоением мне права на получение положенных морских столовых денег»'. Вскоре ему дали и чин вице-адмирала и морские столовые деньги, но от этого органи– 9494
иГАВМФ, ф. 243. д. 6127, л. 13.
[Закрыть]
заторские способности нового командующего не стали выше.
Корнилов, как и все ученики Лазарева, тяжело переживал его смерть и стремился делом показать себя достойным своего учителя– «Я всем твержу, – писал он в мае 1851 г., – что теперь настоящее время выказать ему (Лазареву) нашу признательность и поддерживать дела в таком виде, чтобы самые недоброжелатели, если такие есть, сознались, что все, что сделано Лазаревым в Черном море, сделано не только хорошо, но и прочно»'.