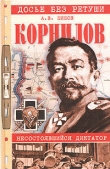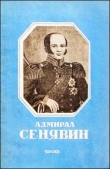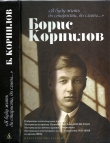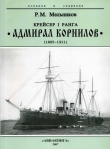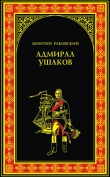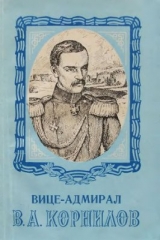
Текст книги "Вице-адмирал В. А. Корнилов"
Автор книги: Б. Зверев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Забота Корнилова о рядовом матросе выделяла его из среды офицеров-крепостников того времени. Однако из этого совершенно не следует, что жизнь и служба матросов на корабле «Двенадцать апостолов», как и на других кораблях, которыми командовали даже лучшие для того времени офицеры, существенно отличались от условий службы на других кораблях и в воинских частях вооруженных сил царизма.
Прежде всего наличие в составе флота отдельных офицеров, взгляды которых были несравненно более гуманными, чем у крепостников-самодуров, не могло изменить общего положения матросов. Даже на своем корабле Корнилов не мог искоренить барского и издевательского отношения к матросам со стороны ряда офицеров, ибо подобное отношение было фактически узаконено всем существовавшим в стране строем.
Многое из того, к чему стремился Корнилов, практически не могло быть осуществлено из-за ярого противодействия реакционеров, не желавших улучшения жизни «нижних чинов». Настойчивые непрерывные требования Корнилова о тех или иных улучшениях нередко не осуществлялись совсем или претворялись в жизнь лишь частично и медленно, год за годом. Корнилов, например, стремился улучшить условия жизни моряков на берегу, куда они перебирались с корабля после окончания кампании и где проводили значительную часть времени. Он вел упорную борьбу против интендантов и строителей, совершенно не беспокоившихся о строительстве пригодных помещений для матросов.-Однако все его попытки наталкивались на сопротивление.
Ежегодно он был вынужден обращаться непосредственно к командующему флотом, чтобы добиться минимума самых элементарных и необходимых средств для улучшения бытовых условий личного состава корабля. В 1843 г., например, он докладывал Лазареву: «Нельзя ли поговорить интенданту об отопке новой казармы? Мы в начале еще осени подали об этом, и до сих пор никакого решения... В большие холода Нахимов и я покупали даже дрова и топили за счет экипажной экономии»4242
Вице-адмирал В. А. Корнилов, Материалы..., стр. 72.
Вице-адмирал В. А. Корнилов. Материалы..., стр. 74—75.
[Закрыть].
Несмотря на настойчивые требования Корнилова и Нахимова, дело с отоплением казарм и ремонтом помещений не двигалось вперед. «Насчет отопления казарм, – докладывал Корнилов в январе 1844 г., – никаких перемен». Спустя месяц вновь следует очередной рапорт Корнилова: «Насчет топления казарм и кухонь мы с Нахимовым хлопочем, сколько можем. Но что же мы можем сделать с инженерами, от которых, к несчастью, тут, можно сказать, все зависит». Приведя ряд вопиющих примеров бездушного отношения чиновников к быту матросов, он заканчивал свой рапорт следующим выводом: «Мне жутко все это исчислять» *.
Но не только мелкие чиновники, интенданты и строители препятствовали снабжению, обеспечению и размещению матросов. Пример подобного отношения показывали высшие сановники, руководившие армией и флотом. Несмотря на отдаленность Черноморского флота от столицы, их влияние чувствовалось повседневно. Они стремились не допускать ни малейших отклонений от порядков, закреплявших рабское положение матросов. Как только замечалось какое-либо отступление даже в мелочах, тотчас же следовал грубый окрик из Петербурга. Однажды, например, начальник Главного морского штаба Меншиков сделал выговор Лазареву за то, что в бумагах Черноморского флота «продолжают именовать строевых нижних чинов не нижними чинами, как повелено, а служителями». Даже в этом был усмотрен излишний либерализм!
Таким образом, условия службы матросов на любом корабле царского флота оставались исключительно тяжелыми, независимо от характера взглядов командиров. При этом не следует забывать, что даже лучшие для того времени командиры оставались представителями своего дворянского класса. Поэтому с их стороны не могло быть и речи о коренном изменении положения матросов, о ликвидации классового антагонизма между ними и офицерами. А ведь именно матросы и определяли успех в боевой подготовке любого корабля. Несмотря на исключительно тяжелые условия службы, экипажи кораблей из года в год повышали свое боевое мастерство и завоевывали авторитет своим командирам. На Черноморском флоте по уровню боевой выучки и организации службы особенно выделялись два корабля: «Си-листрия» под командованием Нахимова и «Двенадцать апостолов» под командованием Корнилова.
А. Жандр, служивший много лет с Корниловым на Черноморском флоте, говорил, что беспристрастный ценитель не знал, кого предпочесть: «Силнстрню» или «Двенадцать апостолов». Другой современник так характеризовал корабль Корнилова: «Двенадцать апостолов» был редкое явле-мне во всех отношениях. Как образец корабельной архитектуры, нам не случалось видеть ничего подобного до введения винтовых кораблей. Внутреннее устройство, прекрасное вначале, после нескольких месяцев плавания, указавших недостатки, стало безукоризненно. Все приспособления к об-
 |
| Матросскис работы на реях. |
легчению различных действий и к содержанию корабля во всегдашнем порядке были собраны на этом истинно образцовом судне... «Двенадцать апостолов» мог служить прекрасной школой талантливому наблюдательному осрицеру и в последние годы командования Корнилова представлял во всех отношениях предмет, достойный тщательного изучения»4343
«Морской сборник», 1855, № 12, стр, 216.
«Морской сборник», 1918, № 12, стр. 83—84.
[Закрыть].
Высокую оценку кораблю Корнилова и его экипажу неизменно давал Лазарев. Однажды после очередных учений в море он писал, что на корабле «Двенадцать апостолов» «в свежий бом-брамсельный ветер я догнал лавировкой прямо на ветре бриг «Эндимион», построенный по знаменитому в Англии «ЛМа11егУ|1сЬ»; если бы он был неприятельский, то для смеху, а более для удивления, можно было бы напечатать в газетах, что огромный 120-пушечный корабль догнал и взял, бриг лавировкой на расстоянии 5 миль! Решительно можно сказать, что другой подобный корабль едва ли в каком другом флоте есть»1. Это был результат усилий всего экипажа корабля.
Значение высокой подготовки экипажа корабля «Двенадцать апостолов» заключалось не только в том, что Черноморский флот обрел в нем боеспособную единицу, которую можно было использовать для любых, самых сложных и ответственных заданий. Важнее было то, что этот корабль явился одним из образцов, по которым равнялись остальные корабли флота. Так шаг за шагом достигалось повышение боеспособности всего Черноморского флота.
НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Боеспособность военно-морского флота всегда зависела от состояния научно-теоретической мысли, постановки специального образования и общего культурного уровня личного состава флота. Однако эта очевидная истина не находила практического воплощения при строительстве и подготовке военно-морских сил в крепостной России, правящие круги и высшее военное руководство которой с пренебрежением смотрели на военную теорию. Занятия наукой, теорией были не в моде; они не только не поощрялись, но и считались излишним делом.
В особенно запущенном состоянии находилась теория морского дела. Характеризуя традиционное отношение к разработке теоретических проблем во флоте, известный русский ученый и флотоводец С. О. Макаров в конце XIX века писал, что морская специальность «с древних времен считалась делом не теории, а практики, и все детали вырабатывались исключительно практическим путем... Многие из моряков еще помнят то время, когда печатные руководства были весьма кратки и разные письменные заметки опытных адмиралов передавались из рук в руки и переписывались молодыми офицерами, желавшими изучить морское дело...
Привычка разрабатывать все ощупью сохранилась у моряков и по сие время»4444
С. О. Макаров, Рассуждения по вопросам морской тактики, М., 1942, стр. 87.
[Закрыть].
В отличие от широко распространенных взглядов, отрицавших или принижавших роль теории в морском деле, характерной чертой в деятельности Корнилова являлось его стремление к взаимной связи теории с практикой, к теоретическому осмысливанию и обобщению практического опыта. В этом отношении он стоял значительно выше многих своих современников;
Значительную роль в привитии В. А. Корнилову интереса к теоретической разработке военно-морских проблем сыграл его отец, который в свое время (конец XVIII в.) являлся одним из видных специалистов флота и автором ценного труда «Сигналы, посредством коих производятся тактические действия гребного флота».
На протяжении всей военно-морской службы Корнилов проявлял интерес как к техническим открытиям и изобретениям, так и к теоретическим работам, относящимся к различным отраслям морского дела. Во время поездок в Петербург Корнилов бывал в Географическом обществе; он постоянно интересовался научными успехами Н. М. Соковни-на, опубликовавшего в 40-х—50-х годах ряд работ по военно-морскому делу; вел постоянную переписку с С. П. Крашенинниковым – автором многих статей в «Записках Гидрографического департамента», одним из составителей «Военно-Энциклопедического Лекоикона» и редактором «Морского сборника». Корнилов поддерживал также тесную дружбу с известным гидрографом М. Ф. Ройнике, производившим в 30-х—40-х годах описи Мурманского побережья, Белого моря и Балтики; внимательно изучал все выходящие сочинения по морскому делу, хорошо знал труды Курганова, Беллинсгаузена, Ильина и др.
Будучи 24-летним юношей, Корнилов сам качал заниматься научной работой: в 1830 г. он под руководством Лазарева участвовал в составлении проекта руководства «О сигнальных флагах». Наряду с изучением русской военно-морской литературы он внимательно следил за зарубежной литературой.
В 1836 г. в Лондоне вышла книга английского капитана Гласкока «Морская служба в Англии, или руководство для морских офицеров всякого звания». Уже в сентябре того же года Корнилов просил своего двоюродного брата выписать эту книгу и прислать ее в Николаев. Вскоре книга Гласкока была получена и внимательно изучена Корниловым.
Ознакомление с книгой показало, что она представляет интерес для моряков русского флота, так как в ней излагались и обобщались наставления различным должностным чинам на английских кораблях, освещались положительные и отрицательные стороны английского флота, имевшего многовековой практический опыт. Корнилов решил заняться переводом этой книги. «Полагая, что такое сочинение, – писал он, – кроме удовлетворения любопытства, может принести моим сослуживцам на русском флоте и пользу, я решился перевести это сочинение на отечественный язык. Не имея притязаний на литературное достоинство моего труда, я сочту себя вполне вознагражденным, если перевод мой будет понятен для морских офицеров, которым он исключительно посвящается»4545
Морская служба в Англии, или руководство для морских офицеров всякого звания... Сочинение капитана английского королевского флота Гласкока; перевод с английского – флота капитана 2 ранга В. Карнилова, ч. I, СПб, 1839, стр. 1.
[Закрыть].
Перевод книги Гласкока потребовал от Корнилова напряженного и кропотливого труда. В процессе этой работы он изучил большое количество отечественной и зарубежной литературы по морскому делу, ознакомился со многими трудами, справочниками, специальными словарями и официальными военно-морскими публикациями. В сентябре 1837 г. перевод книги был завершен и представлен адмиралу Лазареву.
В первой части перевода излагались наставления младшим должностным лицам на английских военных кораблях. Здесь освещались многие порядки, заведенные исстари на английском флоте, давались советы и рекомендации о различных сторонах повседневной жизни личного состава. В связи с обязанностями того или иного должностного лица автор весьма детально излагал и другие вопросы. Например, в главе о тиммермане4646
Т иммерман – старший корабельный плотник (в англ, флоте).
[Закрыть] подробно освещались особенности английского кораблестроения, в главе о боцмане давались характеристика рангоута и такелажа, правила окраски судов и пр.
Во второй части перевода содержались наставления артиллерийскому офицеру, комиссару, медику, вахтенному офицеру, флаг-лейтенанту, капитану. В этой части книги, как и в предыдущей, помимо наставлений должностным чинам, были помещены самые разнообразные сведения: об артиллерийском вооружении кораблей и подготовке орудий к бою; о картах, навигационных инструментах и правилах ведения прокладки; о распорядке дня, корабельных работах, расписаниях, учениях и тревогах; о снабжении провизией; о производстве суда и следствия. Здесь же содержались некоторые тактические правила.
Наряду с положительным опытом в книге вскрывались и недостатки английского флота. «Это такое сочинение,– писал в связи с этим Корнилов, – в котором откровенно выставлены как недостатки английских морских постановлений, так и странности обычаев, временем укорененных на английских судах»4747
Указ. соч. Гласкока, ч. 1. стр. 1.
[Закрыть]. Ознакомление со всеми особенностями английского флота имело большое познавательное значение для русских читателей, позволяя им расширить свой кругозор и критически воспринимать правила и порядки, существовавшие как в русском, так и в иностранных флотах.
К числу недостатков на английском флоте автор книги относил, например, слабую подготовку офицеров-артиллери-стов. «Из многих старинных постановлений, до сих пор уцелевших в королевском флоте,—говорилось в книге,—ни одно не представляет столько несообразностей, как постановление, возлагающее звание артиллерийских офицеров на людей, которым это постановление должно показаться насмешкой на артиллерийское искусство. В самом деле, не смешно ли требовать, чтобы человек, вовсе незнакомый с составом пороха, чуждый самого поверхностного понятия о действии артиллерийских снарядов и о правилах возвышения и понижения орудий, – мог бы надлежащим образом отправлять должность морского артиллериста»4848
Там же, ч. II, стр. 1.
[Закрыть].
В разделе «Морская тактика» указывалось, что «не-определительность « неясность рассуждений о морской тактике и запутанность терминов, вообще принятых в этих сочинениях, не только отвратили многих офицеров от сего предмета, существенно необходимого для моряка высшего звания, но были иногда причиною замешательств на флотах, происшедших от ошибочного понятия разных эволюционных движении... До сих пор тактики, объясняя предмет, только запутывали его самым безжалостным образом»4949
' Указ. соч. Гласкока, ч. II, стр. 257—259.
[Закрыть].
При характеристике правового положения матросов автор указывал, что на английских кораблях часто применяются жестокие наказания, унижающие достоинство людей. «Случается, что людей заковывают (в кандалы) за весьма незначительные проступки даже в море, где преступнику и без того бежать некуда». Невысоко оценивались и другие отрасли военно-морского дела в Англии.
Работа над книгой Гласкока заключалась для Корнилова не только в переводе оригинала на русский язык. Корнилов сопроводил книгу большим числом своих комментариев и примечаний, что значительно повысило ее познавательное значение для русских моряков. Прежде всего он счел необходимым дополнить многие разделы книги добавочными сведениями, чтобы расширить представление читателя о новом, неизвестном предмете.
В своих примечаниях Корнилов пояснял разницу между английскими и русскими порядками и понятиями, выражал собственное мнение по поводу той или иной статьи, давал рекомендации читателю: на что обратить внимание, какие из английских порядков неприемлемы на русских кораблях, какие сомнительны. Примечания к книге характеризовали его отношение к различным областям военно-морского дела. Он, например, специально обращал внимание читателя на порядок обучения гардемаринов на кораблях английского флота. «Мне несколько раз случалось, – отмечал Корнилов, – посещать английские военные суда в часы занятий мичманов и находить их в классах, в командирской каюте, за большим столом. Да и где можно избрать место, особенно на корабле или фрегате, которое бы было столько удобно и прилично для их упражнений?»5050
Таи же, ч. I, стр. 24/.
[Закрыть].
Корнилов подчеркивал большое значение роли боцмана на каждом военном корабле. Боцман, писал он, «требует соединения практических сведений в корабельном вооружении с находчивостью, расторопностью, бережливостью и с характером, любящим порядок и способным к беспрерывной и неутомимой деятельности».
Большое внимание уделял Корнилов организации корабельной службы и внешнему виду судна. «Ничто так не показывает порядка на судне, – писал он, – как исправный вид его и спокойствие на нем тотчас после всякого действия». По поводу замечания Гласкока об отсутствии единства в командах на английских судах Корнилов в своих комментариях указывает, что этот недостаток отмечался в английской литературе очень давно. Чтобы избежать этого на русских кораблях, Корнилов рекомендовал русским «морякам руководствоваться едиными «Командными словами», изданными в Николаеве в 1832 г.
Особое внимание уделял Корнилов вопросам морской артиллерии. На флоте того времени большое значение имели приемы и способы выгрузки корабельной артиллерии на берег во время десантов. В книге Гласкока фактически излагался только один, наиболее распространенный способ выгрузки артиллерии, – на гребных судах. Корнилов же существенно дополнил автора, указав, что более удобным и простым является другой способ – переброска орудий с корабля на берег при помощи порожних водяных цистерн или ящиков, т. е. своеобразных понтонов.
Обращая внимание читателей на недостатки в подготовке артиллеристов в английском флоте, Корнилов вместе с тем подверг критике состояние этого важнейшего дела в русском флоте. «На судах наших, – писал он, – весьма мало обращают внимания на этих людей (артиллеристов) и очень часто вместо того, чтобы стараться . образовать из них хороших канониров, дозволяют им пренебрегать настоящей своей должностью, требуя только исправности в матросском деле. Неоспоримо, что самый важный предмет для морского артиллериста есть приобретение сведений в морской артиллерии, тем более что главная его обязанность есть обучение других этой же части»5151
Указ. соч. Гласкока, ч. II, стр. 290
[Закрыть].
Перевод Корнилова получил высокую оценку Лазарева, который принял все меры для того, чтобы осуществить его издание. Однако встретились значительные трудности. Правление Харьковского университета, куда была направлена рукопись -в октябре 1837 г., отказало в издании книги «по неимению литографии». Не получилось дело и в
Одессе. Лишь после «многих перипетий книга была издана в Петербурге в марте 1839 г. тиражом всего 600 экз.
Считая книгу полезной для офицеров русского флота, Лазарев направил начальнику Главного морского штаба князю А. С. Меншнкову ходатайство с просьбой о приобретении части ее тиража для Балтийского флота. Но Мен-шнкова нисколько не интересовали литературно-научные мероприятия. Тратя огромные средства на увеселительные затеи, он не нашел даже одной тысячи рублей на приобретение книги для нужд Балтийского флота. «Имею честь сообщить Вам, милостивый государь, – отвечал он Лазареву в декабре 1840 г. – что по крайне ограниченному ассигнованию Морскому Министерству сумм приобретение книги Корнилова для Балтийского ведомства не представляется в настоящее время возможным»1.
Иное отношение встретила книга на Черноморском флоте. По распоряжению Лазарева значительная часть тиража была приобретена для черноморских моряков, причем сам Лазарев распорядился распределить эти книги по каждому экипажу, в штурманскую роту, в гидрографическое депо, в библиотеку. Главный командир флота обязал даже своего начальника штаба «пригласить циркуляром офицеров Черноморского флота к покупке означенных книг, как такого издания, которое нс только полезно, но даже необходимо для всякого хорошего морского офицера»*.
Вскоре перевод Корнилова стал широко известен не только во флоте, но и среди гражданской публики. Отзывы и рецензии на книгу были опубликованы в нескольких газетах и журналах. Книга получила высокую оценку. «Опытный моряк английский написал ее для морских своих товарищей, – говорилось в одной из рецензий, – а опытный моряк русский передал ее теперь по-русски. Русский перевод напечатан превосходно». Познавательное значение этой книги сохранялось много лет спустя после ее издания: ею, например, пользовался адмирал С. О. Макаров уже в 80-х – 90-х годах XIX века.
После завершения перевода книги Гласкока Корнилов неоднократно возвращался к научно-переводческой работе. В 40-х годах, например, он занимался переводом «Мачто* 5252
» ЦГ А ВМФ, ф. 243, он. 1. д. 4558. л. 36.
[Закрыть]5353
Там же, л. 33.
[Закрыть]
оого искусства», но особенно много времени уделял изучению и переводу английского «Артиллерийского учения». В этой книге излагались правила артиллерийских учений на кораблях английского флота, приводились многочисленные таблицы и схемы по боевому использованию артиллерии. «Это ученье так подробно и так удобопонятно для всяко-
 |
| Офицерская каюта на кораблях середины XIX о. |
го, – писал Корнилов, – что перевод его, конечно, будет весьма 'полезен. Ведь может случиться и военное время, когда придется думать не об одной красоте и симметрии!»5454
Вице-адмирал В. А. Корнилов, Материалы для истории русского флота, М., 1947, стр. 71.
[Закрыть]5555
Клотик – дером я ними кружок с закругленными краями на
[Закрыть]5656
иерхушке мачты или флагштока.
[Закрыть]5757
В. Л. Корнклоо
[Закрыть]Перевод не был издан, но Корнилов использовал его в практической деятельности во время командования кораблем «Двенадцать апостолов».
Однако самой значительной и важной работой Корнилова явилось составление «Штатов вооружения и снабжения судов Черноморского флота». Под этим названием понимался тогда полный свод всего вооружения, оборудования и оснащения корабля «от киля до клотика»'. Для составления таких штатов нужно было в течение нескольких лет
разрабатывать самые подробные описи артиллерии, рангоута, парусов, такелажа, флагов, причем каждая опись производилась отдельно для различных классов кораблей: линейного корабля, фрегата, брига, корвета, парохода, шхуны5858
Шхуна – двухмачтовое парусное судно.-
[Закрыть], транспорта.
Штаты вооружения и снабжения кораблей являлись обязательным руководством для кораблестроителей, интендантства и командиров. Включая полную номенклатуру всех корабельных предметов с их характеристикой, количественными и качественными показателями, они определяли и регламентировали тактико-технические данные корабля и, следовательно, его боеспособность. Поэтому составление штатов являлось не механическим делом, а требовало самых разносторонних знаний, большого практического опыта и хорошей теоретической подготовки. Прежде чем включить тот или иной предмет в соответствующий раздел штата, составитель внимательно изучал: в какой степени необ
ходим этот предмет, не устарел ли он, нет ли необходимости заменить его другим, более современным. После этого определялась количественная потребность в нем для данного класса корабля и подробно рассматривались его свойства, соотношение с другими предметами и т. д. Очень часто приходилось производить специальные испытания нескольких возможных вариантов.
Корнилов занимался составлением штатов с 1837 г., уделяя им очень много времени. Помощником его был мичман Львов, который участвовал главным образом в вычислениях и проверке таблиц, а также в считке отпечатанных корректур, которые «по несколько раз в день обращались из типографии к Корнилову и обратно».
Наконец, в июне 1840 г. из типографии были получены последние листы. Многолетний труд был полностью завершен. Книга поступила для руководства на корабли и соединения, в адмиралтейство, тыловые и штабные органы флота.
Представляя начальнику Главного морского штаба «Штат вооружения и запасного снабжения военных судов Черноморского флота», М. П. Лазарев писал:
«Полезный труд этот наиболее принадлежит капитану 2 ранга Корнилову. Постоянные его занятия при одном помощнике (мичмане Львове), которого он сам избрал, значительно даже ослабили его здоровье, ибо забот действительно было очень много. Соображаясь со всеми известными 'иностранными штатами и разными изданиями о вооружении судов, он нашел возможным подвести штат под некоторые правила, приложил новые таблицы, им же из многих опытов составленные, составил оригинальные чертежи, по которым 66 тысяч листов налитографированы и приложены к штату; пополнил оный многими полезными правилами, относящимися до мачтового, парусного, флажного и блокового мастерства, которых прежде не было. Словом сказать, неусыпными трудами и постоянною заботливостью капитана 2 ранга Корнилова штат этот, подробно мною рассмотренный и одобренный, представляется в таком виде, в каком ни одна из морских держав никогда оного не имела»5959
Вице-адмирал В. А. Корнилов, Материалы для истории русского флота, М., 1947, стр. 40.
[Закрыть].
Штаты были высоко оценены моряками Черноморского флота. «Польза штатов 1840 года, – писал один из них,– очевидна для всякого моряка, особенно для тех, которым приходилось командовать судами или снаряжать их под своею ответственностью... Это лучшая справочная книга нашей (морской) части; подобного труда – вместе полезного и гигантского – нигде не существует»6060
«Морской сборник», 1855, № 12, стр. 215.
4*
[Закрыть]-
* *
*
Если отношение высших правительственных и военных сфер к научной работе было равнодушным и пренебрежительным, то попытки повышения общего культурного уровня, просвещения и распространения в военной среде необходимых знаний встречали особенно яростное противодействие.
Царизм был заинтересован в невежестве «нижних чинов», для чего всемерно забивал им головы религией и поощрял почти поголовную неграмотность. Царизм всячески препятствовал проникновению интереса к общественной и культурной жизни в офицерскую среду. Поэтому по окончании корпуса большинство офицеров не брало в руки книг, а на кораблях и в базах «среди карт и попоек чисто по-эпикурейски доигрывался последний акт чудовищной драмы». Многие высшие офицеры и адмиралы, черпавшие суждения «из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма», полностью разделяли взгляды грибоедовско-го Скалозуба на образование:
Там будут учить по нашему: раз. два;
А книги сохранят так: для больших оказий.
В Николаеве, где проходила значительная часть службы Корнилова, обычаи и нравы офицерской среды мало чем отличались от жизни обычных гарнизонов того времени. Характеризуя эти нравы, Ф. Ф. Матюшкин писал: «На празднествах и у нас веселятся, танцуют, гуляют, дают обеды и играют на театре. Веселятся, как и везде, со скукой пополам. Танцуют тихим шагом не в такт с разряженными куклами, гуляют для возбуждения аппетита до обеда, дают обеды не для людей, а для стерлядей, не для души, а для ухи».
Корнилову претила застойная жизнь, лишенная каких-либо культурных интересов. И тогда, когда он был холостяком, и тогда, когда женился и стал главой большой семьи6161
Зимой 1837 г. В. А. Корнилов женился на Елизавете Васильевне Новосильцевой (1816—1880). В следующем году у них появился первый сын, а в 40-х годах родилось еще два сына и пять дочерей, но трое из них умерли в раннем возрасте.
Семья Корниловых была очень дружная; сам Владимир Алексеевич горячо любил детей и заботился об их воспитании. Впоследствии в своем завещании он писал: «Детям завещаю: мальчикам —
избрав один раз службу... не менять ее, а приложить все усилия сделать ее полезной обществу, нс ограничиваясь уставом, а занимаясь с любовью, изучая всеми своими способностями то. что для полезнейших действий пригодно.– Дочкам – следовать во всем матери...»
[Закрыть], он постоянно проявлял живой интерес к книге, стремился быть в курсе последних новостей в культурной жизни страны. Более того, он ставил своей целью поощрить других офицеров, прежде всего молодежь, к расширению кругозора, к сочетанию служебной деятельности с литературными занятиями. Это стремление Корнилова особенно ярко проявилось в его участии в руководстве Севастопольской морской библиотекой.
Морская библиотека в Севастополе была основана на «ежегодные вычеты с офицеров» в 20-х годах XIX века; морское ведомство участия в создании ее фактически не принимало. Первое время библиотека регулярно пополняла свои книжные фонды, но впоследствии пришла в упадок, здание полуразвалилось, фонды не пополнялись. В одном из своих писем зимой 1843 г. Корнилов писал Лазареву:
1
49
51
«Беспорядок дошел донельзя – библиотеку не топят, библиотекарь пропал, открылось, что журналы на этот год не выписаны... Я слышал, что прошлого года при ревизии от 60 тысяч томов не могли насчитать более 28 тысяч...-Наши книги гуляют по всему Крыму и по всей Херсонской губернии. Признаться, судя по каталогу, можно этому верить. Я надеюсь распутать это дело и дать этому заведению вид приличный, который бы не выставлял каждому приезжему, каждому иностранцу в таком невыгодном свете образование русских морских офицеров»6262
Вице-адмирал В. А. Корнилов, Материалы..., М., 1947, стр. 53—54.
[Закрыть].
Как заведение общественное, а не казенное, библиотека возглавлялась не назначаемым руководителем, а «комитетом директоров», избираемым общим собранием всех членов. Видя в библиотеке лучшее средство для распространения знаний во флоте, Корнилов стремился «попасть в число избранных» директоров. В феврале 1843 г. он был избран в комитет директоров, а в самом комитете нес обязанности секретаря-казначея. Это была наиболее хлопотливая и требовавшая много времени должность. На Корнилова были возложены выписка новых книг, журналов, карт и инструментов, ведение учета и отчетности, наблюдение за порядком выдачи и сбора книг.
Корнилов с энтузиазмом взялся за дело. Прежде всего он энергично принялся за выписку новой литературы. «Для нашей библиотеки, – писал он, – ничто так не нужно, как сочинения, относящиеся до географии и истории, и в особенности морские. Этого рода книги охотно читаются молодежью и более чем какие другие содействуют к приобретению практического познания человека и развитию благородных побуждений...»6363
Там же, стр. 56.
[Закрыть] Корнилов бывал «всякий день раз или два в библиотеке», поощрял к этому молодых офицеров своего и других кораблей. В библиотеку стало поступать много новой литературы и особенно свежих периодических изданий как русских, так и иностранных. Уже летом 1643 г. стали заметны первые сдвиги в деятельности библиотеки. «Старая библиотека переменила свою гробовую физиономию – всегда почти полна офицерами», – отмечал Корнилов.
Однако это полезное дело шло не гладко. Наибольшие споры возникли вокруг нового устава, согласно которому
все подписчики, независимо от их служебного положения и чина, пользовались равными правами. «Зная, как это равенство дорого для молодого поколения, – писал Корнилов, – и желая всеми средствами приохотить его к чтению, я стоял за равенство». Но иного мнения придерживались многие высокопоставленные чины: «Многие не хотели толкаться с мичманами в журнальной комнате и требовали по-прежнему журналов на квартиру; другие желали, чтоб присылаемым за книгами лакеям верили, как им самим. Ропот был сильный»6464
«Морской сборник», 1855, № 12, стр. 218.
[Закрыть].
Корнилов болезненно переживал такое отношение к библиотеке. Считая, что именно старшие начальники должны личным примером поощрять мичманов и лейтенантов к посещению библиотеки и повышать тем самым ее авторитет, он писал Лазареву: «Казалось бы, что адмиралам в заведении этом не следовало бы и гнаться за собственными выгодами: кому же, как не высшим, думать об этой молодежи, брошенной сюда за тысячи верст от своих родных и знакомых, и которая, не имея книг, поневоле обратится к картам и другим несчастным занятиям... Но что же делать, когда у нас на Руси не созрело понятие общего блага, общей пользы. Горько признаться, а оно так. Всякий думает только о собственных своих выгодах, о собственном своем чине»6565
Вице-адмирал В. А. Корнилов, Материалы..., М., 1947, стр. 59.
[Закрыть].
Однако настойчивость Корнилова в деле улучшения библиотеки не ослабевала. При поддержке Лазарева, а также Нахимова и Истомина (являвшихся также директорами библиотеки) он добивался строгого соблюдения ее устава и упрочения материальной базы, повседневно следил за постройкой здания для библиотеки, в котором опять-таки «казна нисколько или, по крайней мере, мало участвовала».
В апреле 1844 г. прекрасно оборудованное помещение было открыто для читателей. Это явилось большим событием в культурной жизни Севастополя и Черноморского флота. Но новая библиотека просуществовала недолго: в ночь с 16 на 17 декабря 1844 г. в ее здании возник пожар, уничтоживший многолетние труды. Корнилов, бывший в это время в отпуске в Петербурге, очень тяжело переживал потерю. «Пожар этот, – писал он в феврале 1845 г., – поразил меня прямо в сердце, – до сих пор не могу поверить ему. Я смотрю на него, как на примерное общественное бедствие не только для Севастополя, но и для всего Черноморского флота». Много сил и труда положил он на возрождение любимого детища, и спустя несколько лет библиотека была восстановлена.