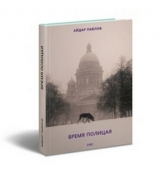
Текст книги "Время Полицая (СИ)"
Автор книги: Айдар Павлов
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Они, насколько он понял, хотели знать, кто ему сдал информацию о фирме и частной жизни президента Романова, "какие силы за этим стоят" и, разумеется, "кому выгодно" ставить перед Ильей Палычем досадные проблемы; кто убил Полицая и где он лежит?
Английский скверик с круглым лицом спрашивал, его коллеги хлестали.
Он вновь спрашивал, они вновь хлестали.
Вопрос – удар, вопрос – удар...
Это продолжалось бесконечно, ибо вразумительных ответов Вадик не находил, а версия, будто он – сын Романова, вызывала со всех сторон безудержное "га-га-га-га!", его обзывали Полицаем и метелили еще хлестче.
... В конце концов, его уже ни о чем не спрашивали и гасили справа и слева, кажется, только за то, что он "Полицай".
Лишь заметив, что парень вот-вот отрубится, Александр Шакиров, штатный ликвидатор папы, оставил Вадика в относительном покое.
То есть, почему-то не ликвидировал.
Он строго наказал Вадиму не появляться больше ни на Восстания ни, тем более, на Гороховой: "Не дай божок!" Его приятель захватил приглянувшуюся кожанку жертвы, которую хозяйственно стащили с Вадима еще до того, как пустить под молотки, затем команда круглолицего Александра врубила в салоне «девятки» реальный музон, заняла свои места и тронула в обратном направлении докладывать патриарху, что свои деньги они отработали.
Вадим остался в одной рубашке. Тьма кромешная. Он высморкался кровью, утерся воротом рубахи, зачерпнул ладонями горсть снега и прижал к лицу. Он стоял так, пока из костра побоища его не бросило в холод.
Не чувствуя собственных пальцев, он начал неуклюже перемещаться на животе, чтобы согреться или хотя бы не закоченеть в этой преисподней без конца и края. Он не понимал, куда ползет: вперед или назад, в лес или из леса, – и сворачивал только тогда, когда его башка врезалась в дерево.
Наконец, он перевернулся на спину и начал терять сознание.
Но перед тем как закрыть глаза, он вдруг заметил, что небо над лесом стало проясняться.
Блеснула Луна. Потом исчезла. И вновь появилась.
Поморгав в отступающих тучах, полная серебряная луна выплыла на синий простор и осветила землю.
Вадим увидел деревья, кусты, снежные сугробы, следы от машины, на которой его привезли, и кровь, которую из него вышибли.
Луна показывала ему дорогу.
Он вскарабкался на ноги и, припадая на правую, пустился по следу «девятки». Левая подставка, еще куда ни шло, стояла, но правая... Неслабо ее отмолотили. Колено стало, как не свое.
Худо-бедно он дотянул до шоссе и целый час пытался тормознуть попутную машину. Желающих подвести человека в окровавленной рубашке и рваных брюках не нашлось.
Но вот, ему страшно повезло. На обочине припарковалась черная «бомба», и Вадима впустили в машину. Он увидел за рулем ухоженную даму.
– Куда тебя? – спросила она.
– Ничего, что такой? – Вадику было неловко за свой вид.
– Ничего, – сказала она. – Денег нет?
– Нет, – признался он.
– Ладно, – кивнула женщина. – Прокатимся.
11
БМВ добросила его до улицы Композиторов. Вадим хотел взять у милой дамы номер счета, чтобы потом перевести деньги, но она только улыбнулась, пожелала ему удачи и уехала.
Поскольку ключи от дома, равно как выручка с "однорукого бандита" остались в куртке с тем, кто бил справа, попасть в квартиру оказалось проблематично. Одно радовало – сигнализация была отключена. Еще с тех пор, со второго декабря...
Выручила форточка на кухне. Вадим забрался на карниз, зацепился за раму на окне подбородком и левой рукой открыл задвижку (правая рука не работала, как и правое колено, ни один палец на ней не шевелился без болезненных конвульсий). Открыв окно, Вадик спрыгнул с подоконника на кухню и заорал от боли. Он забыл, что уже не кузнечик, чертово колено едва не разорвалось.
Полежав на полу, он пополз из кухни в комнату.
Залез на диван.
– Здесь лапы у елей дрожат на ветру...
Он взглянул на правую клешню. Что с ней делать? Если ее кладешь, вой становится ровным повсюду: от кисти до затылка, – если свешиваешь – голову отпускает, а в руке чугунным метрономом отзывается каждый хлопок сердечной мышцы, из глаз выпрыгивают звезды... Едва Вадим давал себе расслабиться, начинало трясти по всем конечностям. От обиды и злости. А ему казалось – от ран и холода. Или кто-то тряс его, напоминая что-то сделать. Что-то, без чего не наступит завтра. И он вновь и вновь входил под арку на Гороховой улице, останавливался под окнами отца, смотрел на четвертый этаж...
И снова и снова поднимался по ступеням дома, где жил отец, нажимал кнопку звонка, вынимал из-за ремня "пушечку" и ждал, когда ему откроют.
Дверь открывалась.
Его встречал папа в распахнутой сорочке и брюках, которые не успел застегнуть:
– Что за дурь?! – вскрикивал батька. – Вам сказали, что…
Вадим поднимал пушку и нажимал на курок.
Поднимал и нажимал.
Отец вытягивал вперед руки, пытаясь защитить гипсовое лицо, и от этого его штаны падали до колен...
А на распахнутой белой сорочке вспыхивали алые пятна...
Патриарх отлетал к стене и потихоньку оседал, оставляя на обоях кровавые разводы. Алые разводы.
Вадим шел дальше, к розовой комнате сестры, и видел Наталью, пытавшуюся преградить путь к дочери.
Он стрелял в нее и входил к Олесе.
Над креслом-раковиной торчал белый бант.
– Я люблю вас, – говорил он и стрелял в спинку кресла.
Бант медленно опускался.
Он обходил раковину с мертвой девушкой и видел, как на ее платье растут две пунцовые розы.
Он видел, как из ее худого тела вытекает кровь, а в глазах тает младенческий восторг.
Губы девушки продолжали хранить безмятежную улыбку, словно смерть застала их в конце молитвы и подарила все, о чем ее просила Олеся.
Он возвращался в гостиную и стрелял в портрет деда.
Возвращался и стрелял.
И толстая полутораметровая рама тяжеловесно падала на дубовую тумбу.
Потом он выходил из дома, где жил отец, бегом спускался с лестницы, напевая песенку Красной Шапочки и перепрыгивал лужу возле парадной.
Напевал и перепрыгивал. Снова и снова.
И не допрыгнув, падал без чувств. Не хватало каких-то миллиметров.
И он видел самое простое и красивое лицо на свете.
И слышал ее голос. Мягкий, как дым, и знакомый, как облака Балтики.
И облака Балтики расступались перед серебряной девой по имени Луна.
Диана освещала бронзового человека на коленях.
Она показывала дорогу.
Потому что мать вечно ищет своего сына, теряет и вновь обретает, чтобы показать путь.
"Я вытащу тебя, мальчик мой, – говорит она, баюкая его на руках: – Не бойся. Мы вместе. У тебя есть я – у меня есть ты. Мы качаем на руках вселенную. Капли звезд тают на наших ладонях. Аромат травы застыл на губах. Мы легче птиц, быстрее света. Ты и я...
Открыв глаза, Вадим дотянулся до телефона, взял его на диван и позвонил в дом, где жил отец.
– Да? – недовольно проворчал батя.
– Я люблю вас.
– Вам разве не объяснили, что...
– Я люблю вас, ясно?! – перебил Вадик. – Передай своим ублюдкам, что меня надо сразу и не больно. Пусть даже останется одна голова, я все равно приползу к тебе и буду плевать кровью. И поцелуй за меня Олесю. Если она тебе даст.
Он смахнул телефон с дивана, откинулся на подушку, прохрипел в потолок:
– Живешь в заколдованном диком лесу… Уйти ни хрена не возможно... – И отрубился.
12
24 декабря, 1991.
Когда он очнулся, первое, что увидел, – яркий кусок света на стене от заходящего солнца. В квартире подмораживало, поскольку окна на кухне так и были открыты настежь.
Откинув край одеяла, он полюбовался перебитой кистью правой руки. Любая попытка пошевелить пальцами сопровождалась безразличной гримасой на его лице. Да. Если б он отнесся ко всему, что происходит, с пониманием, небезразлично, от его физиономии не осталось бы ни шиша. Так что, как бы не возражал писатель Горький, безразличное отношение к действительности было и остается самым доступным опиумом для народа. Вадим сбросил ноги на пол, накинул одеяло на плечи.
Что бросалось в глаза?
Бардак. Всюду валялись вещи, вещи, вещи. А на ногах висели серые клочья с красными и черными подтеками – его брюки, сшитые в Доме мод под заказ. Классные были штаны. В своем роде шикарные.
Он задрал штанину – о, ля-ля! – и поскорее опустил ее на место: правая подставка выглядела ужасно – напоминала кусок мяса на вертеле. На ней лучше было не акцентироваться – безразличие, прежде всего.
Закутавшись в одеяло, он поковылял на кухню, закрыл окна и позавтракал: водой из чайника с колбасой из морозильника, строго, безвкусно, сердито.
Заморив червячка, он покопался в ворохе хлама на полу, нашел себе новые джинсы, старую кожаную куртку и кусок тряпки, из которой сделал лямку для руки. Он подобрал револьвер и воткнул его за пояс. Принарядившись, он вышел из дома и поехал к игровым автоматам за деньгами. У него не осталось за душой ни копейки.
Знакомый кассир игровых автоматов приветствовал его широкой улыбкой:
– А! Это вы, везунчик? Потратились?
– Привет, – поздоровался Вадик и осмотрелся.
Кроме них в зале никого не было.
– Что с вами?! – ужаснулся дядька. – Попали в передрягу?
– Мне страшно везет, – кивнул Вадим. – Три жетона в долг, пожалуйста, – попросил он и пообещал: – Через три минуты отдам три жетона и сверху накину тридцатник, идет?
– Нет, так не пойдет, – возразил дядька.
– Почему? – Он расстегнул куртку, показывая кассиру волыну под брючным ремнем.
Однако тот твердо смотрел на клавиши кассового аппарата, совершенно не замечая револьвера, которым его пытались напугать, и жестко стоял на своем:
– Потому что деньги вперед.
– Три жетона, – повторил Вадим, приставив к виску невнимательного кассира дуло "Кобры". Щелкнул затвор. – Пожалуйста!
– Попапожалуйста... – наконец, среагировал мужик. – Пожалуйста... – и выдал три жетона.
Вадим убрал пушку и направился к автомату. Не успел он забросить медяшку в "однорукого бандита", как сзади раздался ядовитый смешок. Он обернулся.
На столе, заслонив собой кассира, болтая в воздухе ножкой, сидела цыганка по имени Кобра. А рядом на том же столе красовался сумарь, черный кожаный бэг, с которого все началось.
– Отдай ему то, что взял, – попросила Кобра, кивнув на перепуганного кассира.
– Без проблем. – Вадим подплыл к столу и положил жетоны перед дядькой. – Приятно тебя видеть, – сказал он Кобре.
– Приятно меня видеть! – польщено растаяла та. – Продвигаешься, Чапаев. Очень немногим приятно меня видеть.
– Мои акции подскочили? – он кивнул на сумку: – Это мне?
– От Насти. – Кобра заботливо поправила торчавший воротник на его куртке. – А спасибо скажи Олесе.
– Я все-таки ее достал?
– Это что-то. Блицкриг. Как она была вчера счастлива! Олеся никому еще так не верила, никому.
– Почему Люшечка этого не знает?
– Тебе недостаточно, что знаю я?
– Ты видишь, что он со мной сделал? – Вадим покрутил перед цыганкой перебитой рукой.
– Так, он тупой, – улыбнулась Кобра. – Ты еще не понял?
– А мне пофиг. Я не хочу боли.
– И ему пофиг. Ему лишь бы кресло не съезжало, мальчик мой, а кто у него там: ты или Полицай, – какое ему дело?
– Короче, я уже задыхаюсь от твоих приколов, красавица. Я скоро подохну от этих шуток. Что это? – Он ткнул пальцем в сумку: – Зачем ты это принесла?
– Это Настя. Решила выйти сухой из болота, сама пришла.
– Отнеси ей обратно.
– Я что, носильщик?
– ... Слушай, зачем ты вообще с нами связалась? У тебя дел больше нет?
Он дотронулся до шоколадной ладони Кобры сначала одним пальцем, затем вторым, третьим... Наконец, осмелел, поднял ее руку с серебряными браслетами к своему лицу и лизнул впадинку между большим и указательным пальцами. Он прижал ее к губам и закрыл глаза. В это мгновение он пережил нечто божественное, ясное, блаженное. Всё сгинуло, всё растворилось, всё исчезло. Осталось беспредельное материнское лоно вселенной… Ни одного предмета, только любовь. Только любовь...
– Я так плакала о тебе, так плакала... – прошептала вдруг Кобра.
– Мама?
Цыганка коснулась второй рукой его темени, и в этот момент он понял, что победил.
– Я, правда, хочу тебя, правда... – Он без малейшего страха посмотрел в глаза Кобры. Это были самые чистые и простые глаза на свете, роднее тебя самого.
– Я знаю.
– Но когда ты рядом, я не живу. Посмотри, я еле стою. А я хочу жить, Кобра, я хочу жить. Ну, зачем ты к пришла? Ты смеешься, тебе все хи-хи-ха-ха? Люди такие маленькие, да? Такие жалкие, тупенькие... А что мы можем? Что с нас брать? У нас только деньги, Кобра, только деньги, над этим даже смеяться смешно. Если б мы могли, если б мы знали, что делать, кроме денег. Но нам же ничего не дали. Ничего, кроме денег. На свету мы дохнем как комары, в темноте ревем как молокососы. Если б кто-нибудь нам сказал, Кобра, если б кто-нибудь...
– Ладно, живи. – Кобра одернула руку, к которой он приклеился, и соскользнула со стола.
– Кобра! – Он попытался ее остановить. Глупо, конечно.
– Я проголодалась, пусти! – Она оттолкнула его и пошла к выходу. – Я хочу есть. И не дай божок, мне сегодня подсунут кетчуп вместо крови.
Дверь хлопнула.
Вадим остался один на один с обомлевшим кассиром.
– ... Вот это баба, – изумленно произнес тот, позабыв, как, чуть ранее, ему едва не разнесли череп из-за трех жетонов.
– Какая баба? – переспросил Вадик.
– Эта ж цыганка. Как ты ее назвал? Кобра?
– Где Кобра? Где цыганка?
– Была же...
– Да? Ты ее видел? Ты ее хорошо разглядел?
– …?
– Эта баба, – сказал Вадим, растопырив пятерню перед носом кассира, как при первой встрече. – Эта изумительная женщина хочет есть, ты слышал?
– Да, слышал. – Мужик вновь окосел.
– Если сегодня в этом городе не найдется того, кто сможет накормить эту бабу, она завтра поднимет Неву настолько, что не видно будет телевизионной вышки. – Вадим опустил руку: – Женат?
– Женат, двое детей, – отрапортовал кассир, чтобы его не убили.
– Любишь жену? – Вадим открыл сумку.
– Да.
– А детей?
– Да.
– Купишь детям игрушки, – распорядился Вадим, выложив мужику сто баксов двадцатками и десятками. – А с женой выпьешь за мое здоровье. А я выпью за твое.
13
Он выпил в "Корчме" на Среднем проспекте Васильевского острова, в кабачке студентов и промышленных кадров. Более того, он оставил там триста баксов, угостив всех, кто оказался с ним под одной крышей.
– "Ни земли, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать…" – затянул один осоловевший студент. Он сидел напротив Вадима, заливал пивом горечь нищеты и вспоминал Бродского.
– Как тебя звать? – спросил Вадим.
– Рома.
– А я Романов.
Рома с достоинством поднял вверх указательный палец:
– Почти тезки. Почти! – Он не собирался сокращать дистанцию. – "Твой фасад темно-синий я впотьмах не найду, между выцветших линий на асфальт упаду..."
– Классно – да? – "на асфальт упаду..." – прицепился Вадим. – А дальше? Что дальше?
– "И душа неустанно, отлетая во тьму, поплывет над домами в Петроградском дыму..."
– Да, да, да...
– И апрельская морось,
под затылком снежок,
и услышу я голос:
– до свиданья, дружок.
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
– словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.
– Я сейчас плакать начну, – сказал Вадим.
– А дело было так, – пояснил Рома, показав пальцем в пол: – У Иосифа здесь жила одна девочка...
– В "Корчме"?
– Не, – улыбнулся студент, – на Васильевском острове. Он приходил к ней с улицы Пестеля...
– Знаю, – кивнул Вадик. – Знаю, где Пестеля.
– Но у него не было денег. Поэтому она его игнорировала.
– Девчонка?
– Ага. Поэтому он приходил умирать. Пять лет ходил.
– Ого!
– ... "Зная мой статус, моя невеста пятый год за меня ни с места..." – Рома безысходно засмеялся: – Приходил умирать.
– Кто?
– Иосиф. Ходил... Потом умер, и уехал в Америку.
– Как-как?
– А вот так, – отрезал студент и с вызовом уставился в лицо Романова.
Вадим вдруг вспомнил Иосифа Блана:
– Какая у него была фамилия?
– Я сомневаюсь, что его фамилия тебе о чем-то скажет, – с миной интеллектуального сноба проворчал Рома.
– Не понял?
– Ты прилетел из другого мира, Вадя. Человек, который отдает в пивнухе триста баксов, – прости – не наш человек. Ты можешь напялить на себя бомжовский плащ, купить умную книжку, не стричься, не мыться, но ты так и останешься сытым, Вадя...
– Я? – опешил тот.
– Ты сытый, – кивнул Рома. Неожиданно его глаза дико сверкнули, голос болезненно сорвался и прошипел: – Ты даже не сытый – ты сытенький! Сытенький!
– О, ля-ля!
Вадим понял, что пора уходить. Друган Рома перебрал и решил навесить на благодетеля, унизившего его достоинство дармовой выпивкой, все свои комплексы. Чтобы не обострять отношений, Вадик пожелал студенту успехов и отправился на Университетскую набережную, к темно-синему фасаду, что напротив Медного всадника, слева от египетских сфинксов и прямо над заледеневшей речкой Нева.
14
Это было сродни пытке на девятом круге преисподней. Восемь вечера. Обстановка на третьем этаже филологического факультета такая: одна-единственная аудитория, в которой все еще горит свет, и две полуживые души: Настя и профессор Аркадьев. Она сдает зарубежную литературу – он принимает. Все однокурсники Насти разошлись по домам в районе шести вечера.
Красноречиво взмахнув рукой, Аркадьев взглянул на часы:
– Голубица, мы полтора часа бьемся над одним и тем же вопросом, с меня уже пот льется! Вы собираетесь здесь ночевать?
– Нет-нет, – ослабевшим голосом пробормотала Настя. – Что... что вы хотите, чтобы я сделала? Ставьте четверку, на пятерку я уже не рассчитываю. – Она решила сдаться.
Профессор с сочувствием покачал головой:
– Речь идет о том, что я собираюсь поставить вам двойку.
– Двойку?!
– Ага.
Право, Настя была уверена в приличной оценке: содержание билета бедняжка изложила так, что от зубов отскакивало. Но отскакивало только первые десять минут. Потом Аркадьев втянул ее в какой-то изнурительный базар о грешниках и праведниках Данте Алигьери, совершенно обескровивший девушку, так что на втором часе общения с этим извергом она не смогла бы вспомнить, на какой станции метро живет, не говоря уже о точном месте встречи Данте Алигьери с божественной Беатриче, которого от нее страстно домогался экзаменатор последние сорок минут.
– Ставьте двойку, – безвольно согласилась Настя.
Профессор отрицательно помахал указательным пальцем.
"Противный!" – подумала Настя. Еще вчера обожаемый ею Аркадьев сегодня сидел перед ней с видом прокурора, словно ты убила, ограбила и совершила все чудовищные мерзости разом, и демонстрировал девушке самые отвратительные грани своего характера: склонность к издевательству, садизму, интеллектуальному изуверству. Лишь сейчас до восемнадцатилетней студентки, тупо строчившей его лекции, стало доходить, за что ненавидит краснощекого Аркадьева сушеная университетская профессура: всех, у кого не достаточно активно варятся мозги, он пунктуально гравировал в списки личных врагов. Насти пока в этом списке не было. К огромному ее сожалению. Ибо, прими он ее за козюлю, она б уже сидела в кинотеатре "Спартак" и смотрела очередной фильм Фасбиндера.
"Может, ты голубой?" – подумала Настя и сказала:
– Вы поставили двадцать шесть троек, профессор...
– Хотите, чтоб я и с вами так поступил?
– Уже да.
– Двадцать шесть! Как трогательно, что вы подсчитали. А сколько пятерок?
– Одна.
– У Парамонова?
– Да.
– Каков ваш вывод?
Настя нервно дернула плечом и честно опустила глаза:
"Да провались ты! Не знаю!"
– Это говорит лишь о том, голубица, – заявил Аркадьев, – что у вас на курсе двадцать шесть дегенератов – идея встречаться с ними снова меня удручает. Если б я располагал уймой терпения, я бы поставил им двойки. А Парамонов – умница, подает надежду на свет в конце тоннеля. Что ж... – Он вновь обратил внимание на часы:
– Постараемся не уходить от предмета. Тройки вам все равно не видать, а насчет вечернего чая с блинами – все в ваших руках. Вы помните, как выглядела Беатриче, когда ее увидел Дант?
Сжав кулаки от раздражения, Настя ответила:
– Она выглядела эффектно.
– Да что вы?
– А что? – Настя смело устремила в постоянно прыгающие глаза экзаменатора двух серых ангелов за стеклами очков. – Нигде ведь не сказано, что от Беатриче разило перегаром и табачиной, что она была перезрела или мужеподобна, носила платье старшей сестры с дырками на коленях... Она наверняка была обеспеченной девушкой, вовремя вышла замуж.
– Наверняка, – задумчиво согласился профессор. – Наверняка. Так, где они встретились?
– У Люцифера.
– Вы путаете.
– Думаете, если б Дант не встретил Беатриче, она бы когда-нибудь попала в книгу с хорошим концом?
– Не думаю, – усмехнулся профессор. – Так-так...
– Любовь всегда начинается внизу, – обосновала студентка. – Лишь потом, по памяти, ее тащат выше: в рай, на небо, на облака.
– В каком-то смысле...
– С неба открывается совсем иная панорама. Данте он полюбил Беатриче на земле, а не на небе.
Аркадьев удовлетворенно кивнул. Кажется, Настя попала в точку и угадала, что от нее требуется:
– Полюбил и убил, – продолжала она. – Ну, чтобы не мучилась. Отправил на небо.
– Где вы это вычитали?
– Вы же сами рассказывали, как она его прокатила, – вышла замуж за романского бюргера. А он взял и... – Настя выпрямила указательный палец дулом пистолета и громко щелкнула пальцами.
Профессор вздрогнул: палец студентки и серые глаза смотрели на него.
– Ясно? – Настя с наглой улыбкой опустила руку: – Он никому не мог признаться, что убил девушку, которую любил, и всю жизнь мучился: то сделал – не то сделал?
– Но как?
– Мысленно, – без запинки ответила Настя, – Гениальное убийство: чисто, надежно, одним ударом – в сердце. Он убил ее мысленно. Надо быть очень продвинутым, чтобы убить мысленно... Потом у него начался ад: галлюцинации, ломки, мысли. Он бы никогда не стал поэтом и не написал бы Божественную комедию, если б мысленно не убил Беатриче.
– Он бы не убил Беатриче, если б не был поэтом, – сосредоточенно перефразировал Аркадьев. На его нервном лице начали проявляться признаки интеллектуального оргазма. – Вы мыслите, голубица, – с благодарностью произнес он: – Я чувствовал, что вы можете... Вы способны.
– Не стыдно заставлять девушку мыслить?
Пристыжено отвернувшись к окну, профессор подставил Насте красную щеку. Бегающие глазки педагога все реже и реже сталкивались со способной ученицей.
– Теперь я свободна? – спросила Настя. – Вы поставите тройку?
– Вы полагаете, там... – Аркадьев показал на дверь, за которую спешила убежать девушка, – будет лучше, чем здесь? Полагаете, там светит Солнце, поют херувимы?
– Нет.
– Тогда перед тем, как идти, опишите-ка мне состояние дел в нашей щёлке.
– Где?! – не поняла Настя.
– Злые щели.
– …?
– Вы впервые о них слышите?
Настя прищурилась.
– ... Восьмой круг, злые щели. Кто там?
– В каком смысле, кто? – замялась Настя.
– Я два часа бился над тем, чтобы вы прекратили корчить дурочку. Вы прекратили – умница. А теперь давайте по делу.
– По какому делу? – зациклило студентку.
– На восьмом круге, в седьмом рве находятся такие узенькие щёлочки... – Аркадьев провел ногтем на столе "такую узенькую дорожку".
Настя замерла.
– Кто в них сидит? – спросил он с бесподобным сарказмом, чувствуя, что отвоевал у противника временно оккупированную пядь земли.
– Это точно последний вопрос?
– Гарантирую, – пообещал профессор.
– Воры, созналась Настя. – Это всё?
Она сделала вид, будто ткнула пальцем в небо.
– Какие именно? Не всех же воров гребут под одну гребенку.
– Я... я не помню.
– А нечего вспоминать – подумайте. Вы же умеете мыслить.
– ... Ванни Фуччи? – вспомнила Настя.
Аркадьев недовольно вздохнул:
– Одинокий, больной Ванни Фуччи... Сколько ему еще томиться? Нет, нет и нет. Оставьте в покое несчастного Ванни, он помер тысячу лет назад, ему уже ничто не угрожает. Вы ж умеете мыслить, а слона не видите!
– У меня минус четыре и минус пять, – Настя показала Аркадьеву на свои очки. – Я плохо вижу.
– Да и бог с вами, – разочарованно махнул рукой профессор. – В аду сидят живые люди, – вот что следовало запомнить в первую очередь, а не "Ванни Фуччи". Я столько об этом говорил! Вы же были на всех лекциях.
– Была, – кивнула Настя. – Говорили. «У каждого свой ад, свое чистилище и райский уголок».
– Райский уголок ... – усмехнулся экзаменатор. – Да, райский уголок. Приятно иметь с вами дело. Вы меня эадолбали. Ладно, открывайте свою щёлку...
Настя с ужасом увидела, что правая рука Аркадьева залезла в брючный карман, а на его красной физиономии появилась печать неземного удовольствия.
– Да вы что себе позволяете?! – Она подпрыгнула со стула, словно с утюга.
– Что я? – опешил краснощекий. – Что случилось?
Настя, от греха подальше, подбежала к двери.
– Что с вами?! – Не понимал профессор.
– Что с вами, я бы хотела спросить?! Может, здесь и принято раздеваться из-за каждой отметки, но, простите, мне пора!
И без того естественно красный Аркадьев покраснел еще больше:
– Потрудитесь объяснить, я что-то не понял…
– Вы попросили, чтобы я открыла что?!
– Зачетку.
– Щёлку!!
– Не может быть. Вы за кого меня приняли? Черт, кажется, я вас застращал. Приношу свои извинения, но вам послышалось. Я такого сказать не мог.
– Неужели? – не верила Настя.
– Голубка моя, – захихикал Аркадьев, – Я импотент.
– Вы надо мной смеетесь?
– Да, да, да! – продолжал веселиться профессор: – Ой, чего только не услышишь! Идите сюда, давайте зачетку!
– Не может быть.
– Что не может? Я им-по-тент. Вы о таких слыхали?
Настя молча вернулась к столу и положила перед повеселевшим изувером зачетную книжку.
– Я не занимаюсь сексом. – Профессор расписался в графе "Зарубежная литература": – Я никого не трахаю – меня никто не трахает. А постращать люблю. Ни одной юбки не пропускаю. Ничего не могу с собой поделать. Много ем, читаю, пробую исправиться, а результат один и тот же… Берите вашу зачетку, идите с богом.
– Тройка? – спросила Настя.
– Пятерка, вы ее выстрадали.
– Спасибо.
Перед тем, как выйти, Настя остановилась в дверях:
– Вы знаете Кобру? – спросила она.
– Африканскую? – улыбнулся Аркадьев.
– Ну, я, короче, должна была сказать: там очень грязно...
– В щёлках? – Он подмигнул. – Со змеями?
– Да, – ответила Настя. – До свиданья.
– Салют!
Покинув аудиторию, которая за полных два часа превратилась в настоящий зал закрытого судебного заседания, Настя пошла по еле освещенному коридору в сторону главной лестницы и неожиданно почувствовала, что за ее спиной кто-то есть. Замедлив шаг, она стала гораздо осторожнее наступать на иглы каблуков и прислушиваться.
Точно!
– Не оборачивайся! – попросили ее в затылок, – застрелю.
"Это он, больной!!" – Она смотрела прямо перед собой.
– Я не очень стильно выгляжу, – объяснил Вадик. – Так что, пока не надо сюда смотреть. Время еще не пришло.
– Что еще?
– Шагай, шагай.
– Зачем? – Она остановилась. – Что тебе не понятно? У меня нет твоих денег!
– Не в деньгах счастье, любовь моя.
– Я тебе не любовь твоя, ну, как это еще объяснить?!
– Не оборачивайся.
Дверь аудитории скрипнула, из зала суда вышел профессор Аркадьев с удовлетворенной улыбкой на красном лице. Свое он получил сполна. Чтобы не мешать делам сердечным, профессор быстро проплыл мимо молодой пары, на прощанье махнул любимой студентке рукой и исчез из поля видимости.
– Ну, зачем ты пришел? – пролепетала Настя.
– Надо побазарить.
– Пойми: не о чем нам больше базарить.
– Не понял? Мы разве не забили стрелку?
– Какую еще стрелку?
– Ну, мы же договаривались о свидании – да? – только чтобы ты и я...
– Когда?
– Вообще. Только ты и я. Никого, кроме нас. Ты же зачем-то сюда пришла.
– Я здесь учусь.
– И я, и я хочу учиться, подснежник, – а как же? – не серым же помирать.
– Что ты делаешь?!
– Шагай, шагай! – Вадим подтолкнул девушку стволом револьвера: – Вон туда.
– Я туда не пойду, там темно!
– Шагай, шагай.
– Я сейчас закричу.
– Не закричишь. Не оборачивайся! Шагай! – Он поковылял следом за девушкой.
Так и не позволив Насте увидеть свою разбитую физиономию, Вадим завел ее в кромешный темный угол на третьем этаже и разрешил смотреть куда угодно. Он знал, что дева не увидит здесь собственного носа, не говоря уже об его обгрызанном ухе, нескольких фингалах под глазами или опухшей правой руке.
Настя, действительно, ни черта не могла разглядеть. Ей "не светило Солнце, не пели херувимы..." – тут даже не горело ни одной лампочки. Почувствовав на запястье холодное прикосновение его лапы, она оцепенела:
– На что ты рассчитываешь?
– На то, что мы будем вместе учиться, да? Глубже изучим друг друга, – заплетаясь, произнес. Вадик. Поймем, познаем, опять станем как одна семья...
"Господи, он же вдрабадан!" – поняла Настя.
С этого момента она решила придерживаться тактики беспрекословного согласия – уж очень не охота было оставаться здесь, в углу, на третьем этаже филфака до прихода утренних уборщиц, с пулей в голове.
– Хорошо, – согласилась Настя.
– Что хорошо, любовь моя? А? Будем учиться?
– Да, Вадик, все хорошо.
– Все хорошо, – вдумчиво повторил он во мраке. – Мы научимся любить друг друга, прощать, да?
– Разумеется.
– Не обманывать...
– Научимся.
– Не искать того, что нам не принадлежит, и хранить то, что у нас есть...
– Да-да.
– Хорошо… Хорошо. А Миня – слышь? – что это он? Где он сейчас? Он что, с нами собирается учиться?
– Как-кой Миня?
– Ну, козел с той визитки.
– Какой визитки?
– А которую ты потеряла. Наш Миня, ты что, его видела?
– Где? – Спина у Насти чудовищно взмокла, руки тоже. Пульс как у спортсменки.
– Не знаю. Это я у тебя должен спросить, где. Он же меня продал. За тридцать кусков, прикинь?
– Тот, что директор "Кобры"?
– Да никакой он, в жопу, не директор. Он тебе пургу нагнал, а ты повелась как ребенок. У Мини ж ни хрена за душонкой – одни долги. Директор, блин! Этих директоров сейчас как мух не перебитых – через полгода всех на навоз изведут. Директор, нах! А у меня скоро будут миллионы – слышишь? – все будет: Италия, Рим, Палермо, – все у твоих ног, я же обещал. Э, ты мне веришь или что?!
– Да-да, верю.
– Хорошо, – вновь протянул он. – Очень хорошо. А я почему-то вдруг подумал: может, не верит? Может, считает меня за барана вонючего?
– Да что ты, Вадик!
– Веришь, да?
– Конечно.
– Не считаешь, нет?
– Нет, Вадик, нет, ни в коем случае!
– Хорошо. А то ведь без тебя... без тебя мне ж никак, любовь моя. Без тебя я черт знает что. Слышишь?
– Да-да.
– Без тебя я только летаю над землей, и все. Ничего у меня без тебя не получается. Летаю, блин... А земля близко-близко. Я все пытаюсь поставить ногу, застолбиться, а она не ставится, скользит. А почему? А потому что без тебя. Постоянно не хватает двух-трех миллиметров, какой-то мелочи. Скользит, и все. Вниз уходит, проваливается. Проклятье! Всегда надо, чтобы было за что зацепиться, да? Вот, хотя бы, твоя рука, клочок земли, один взгляд, одно движение, – много не надо, – грамм любви, капля нежности… А ты говоришь, в деньгах счастье! Без тебя, любовь моя, мне не надо никаких денег, без тебя я никто, нигде... Короче, будем учиться вместе, или что? – вспомнил он.








