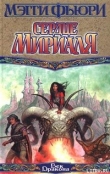Текст книги "Фэнтези 2003"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
ТЕХНОМАГИЯ
ЛЮДМИЛА И АЛЕКСАНДР БЕЛАШ
Царевна Метель
Сказано: «Ловцы, пловцы и купцы домой не бывают»;
это – истинные слова. Но велик соблазн дешево купить и дорого продать. Хаживал и я за прикупом в иные страны, привозил добра богато, кланялись мне в пояс, называли уважительно: «Здравствуй, Кудьма Горожанин, Бегунов сын!»
Когда же взял Бог жену мою Марфу, оставив в утешение трех дочерей, искал я в торговых странствиях не только прибыли, но и забвения – не мог долго жить в хоромине, где все ее помнит, ею дышит. В дальнем пути и познал я истину, с которой начал свой рассказ, а с ней и ту правду, что барышу наклад – родной брат.
Из Курска, затем вниз по Оке-реке через Резань и Муром – суда мои вошли в реку Итиль. Холм превысокий при слиянии Оки с Итилем многим ведом; чуть позже моего трудного пути князь Юрий Всеволодович поставил на нем Нижегородскую крепость для бережения от немирной чуди. Рекой сошел я в Булгар, где купля и продажа весьма выгодны, опаской миновал земли половецкие и до Хвалынского моря доплыл благополучно. Плыл морем до Дербента, далее в персидский Рей. Земли эти изобильны, правит ими царь Мухаммед, называемый хорезмшахом, а царская столица его лежит на восходе, у моря Хорезмского. Мытные сборы берут с торговых гостей немалые, однако проезжие пути здесь безопасны, их охраняет конная стража. Добрался я до города Исфахана, и до Ормуза, что лежит на теплом море, а за морем тем – земли аравитян.
Везде продавал и покупал с выгодой. Товары из ханьской земли и Хиндустана тут дешевле, нежели в Булгаре.
Тут Бог меня надоумил. Разделил я людишек своих, казну и товары надвое, и половину отправил под началом Истомы Дузя через Кандагар и Кабул в Термез, чтобы по Джейхун– реке, она ж Амударья, спустились они к городу хорезмшаха, а оттуда караваном шли к Итилю, где бы ждали меня. Сам же пошел обратно в Рей, дабы идти морем через Дербент.
Море не для людей дано, человек на море – гость незваный. Возмутилась против меня непогода, и от лютой напасти пристал я к берегу пустынному, чтоб переждать ветер. От лиха ушел, а к лиху и пришел – налетели, пуще ветра, тати, стали мои корабли бить и грабить. Были это огузы, иначе туркмени, никому не покорные кочевники, живущие разбоем. Стреляли мы в них из луков и самострелов, подожгли горшок с нафтой и под ноги коням кинули. За дымом пошли на вылазку с рогатинами, и бились крепко. Сняв одного вершника, смекнул я, что одолевают тати, вскинулся в седло и поскакал прочь вглубь берега, абы душу спасти. Там заросли и соленые топи. За мной не погнались – им нужней было добро захватить, нежели чужого человека с саблей.
Погодя вернулся я к кораблям. Пожжены, разбиты, все раскрадено, людишки мертвы или в полон взяты. Один вышел ко мне из прибрежных зарослей – толмач персиянин, именем Ибн ал-Гайб, раненный в руку.
– Одно тебе осталось, Кудима ибн Бегин, – искать милости и справедливости у хорезмшаха. Пади к его стопам, пусть покарает огузов. Меня же оставь, я не дойду пеший. Рана неглубока, но пустыня – алчный зверь, она высосет мою жизнь даже из малой ранки. Это – Туран, я же – из Ирана; здесь все против меня. В Ургенче, если Аллах соизволит, ты встретишь своего человека Истому.
Помог я ал-Гайбу соорудить жилье из корабельных досок, дал ему снасти для розжига огня – и призадумался. Зима выдалась мягкая; слышал я, что Хвалынское море едва замерзло близ устья Итиля, а Хорезмское море даже ледком не подернулось, но зима есть зима, без тепла и крова не прожить... Решил идти. Прежде, чем отправиться, выспросил ал-Гайба о пути. Он, наевшись рыбы, отудобел и рассказал внятно, в подробностях.
– От сих мест до Ургенча – сто фарсахов, десять дней вер-
хом, если конь сыт и здоров. Значит, считай для себя две седь– мицы, не меньше. Туда ведет Узбой – старая река, зимой она сильно мелеет, и вода в плесах становится гиблой, соленой. От колодца Бала-Ишем до колодца Додур, дальше колодец Кара-Хасан. Тропы покажут, как ехать. Берегись людей, ибн Бегин, а больше берегись Гульмазара. Ты узнаешь его по свету в небе.
– Что такое – Гульмазар? Чем он опасен?
– Там живет шайтан. Сам я Гульмазара не видел – хвала Аллаху! – и видеть не хочу. Караван-баши говорили – это гнездо скверны и морока. Сам Ахриман его построил. Гули, дэвы и джинны облюбовали его. Увидишь, как играет свет на тучах, – сворачивай в обход, тогда нечисть тебя не коснется.
Смастерил я рогатину, заточил и обжег острие на костре, взял рыбы, сулею и бурдючок с водой – прощай, ал-Гайб, будь удачлив.
Ехал трое дней по Узбою – глинистые берега, сквозного русла нет, едва ручьи из плеса в плес переливаются. Ночлег устраивал под берегом, жег саксаул, пек на нем рыбин. Коню корм и питье добыть – вот была задача! Туркменского конька я полюбил – моя надежа, без него рой могилу. Зима – хмарь, низкое небо, ветер свищет, снег метет – и тает. Утром встану, помолюсь Богу, из солоноватой лужи лицо омою – и дальше.
В четвертый день к вечеру завиднелось на небе мерцание, ровно отсвет от пожара. Вспомнил слова ал-Гайба – а не свернул. Манит к себе, влечет и блазнит... будто бес нашептывает: «Дойди дотуда, погляди!» Конь фыркает, сполохи на тучах то смеркнутся, то ярче станут, а по ветру снег летит редкими хлопьями.
Снег, а может, и не снег. Хлопья крупные, сероватые, порхают и на землю не ложатся. Протянул ладонь поймать их – руку облетают, завьются и взмывают ввысь, как мотыльки.
Страх меня пронял – или прав был ал-Гайб, и надо бежать от Гульмазара? Со страхом пришла и душевная крепость: «И что я, муж-курянин, боем от татей ушедший, да какой-то шелухи летучей убоюсь?»
Так, исполнившись гордыни, поехал я в ту сторону, где небо рдело, дрожа.
И увидел Гульмазар.
Бог весть, чего я ждал, – но ожидания были обманчивы. За берегом Узбоя, за холмами, за тощими ветвями саксаула
мне открылась глиняная логовина, посреди которой – четыре строения, с виду и впрямь похожие на магометанские мазары с куполами, покрытые затейливой резьбой, а между ними – то ли церква, то ли минарет, вроде башни, у подножия широкой, вверху узкой. Цвет всех строений был сродни глине, на какой они стояли, будто бы они из этой глины выросли, словно грибы. И ничего здесь не светилось, как казалось издали; Гуль– мазар был тусменным и темным. В воздухе над башенкой и куполами виднелись те же хлопья, носящиеся то мелкими гучка– ми, то частой россыпью – без шума, без звука. Неопадающий снег – виданое ли дело?..
Ни души человеческой. Съехав по склону логовины, я приблизился к ближнему мазару – точно, вход в него есть, закругленный сверху аркой, а двери нет – пустой проем, в нем тьма.
Спешился я, перекрестился на пороге, кликнул:
– Есть тут кто живой?
Звук голоса заглох в подкупольном мраке. Оглядевшись, я заметил на земле как будто след босой ноги, но наклоняться и осматривать его не стал. Коли нет запрета – можно и войти. Коня привязал у двери к выступу вроде крюка; таких крючьев и скоб было немало, иные вели рядком к верху купола.
Внутри оказалось светлей и теплей, чем я думал, но свет серый, как на самой ранней заре, что персияне зовут дум-и– гург – «волчий хвост». Под сводом – как такой возвели? великое надо умение!.. – над полом возвышались кругом шесть куполов меньших, а в круге вниз вела дыра с пологой лестницей. Я сошел по ней, шепотом призывая Господа Бога – «Спаси, сохрани и помилуй!» – а там...
Может, и не по-христиански это, но уютно, как раз усталому путнику впору. Лежак на полу, вроде тюфяка, набитого шерстью; рядом немалая чаша с водой, а на глиняном блюде – жареная птица, еще теплая. Так слюнки и потекли... Хлеба нет, но в скудости, которую я испытал, скача по Узбою, за это хозяевам пенять не станешь. Значит, приметили меня, поняли, что я в беде, гостеприимство оказывают.
– Благодарствую вам на еде и питье, люди добрые! – поклонился я на все стороны, не зная, где схоронились хозяева, а затем повторил, как умел, по-тюркски. – За харчи и постой отплачу вам по совести.
В кисе, что осталась на поясе, денег было немного – пять
дирхемов, две дюжины даников и полгорсти медных фель– сов, – но за ночлег отдать хватит.
Поев, я вышел посмотреть коня – и диво! – конек уже хрупал сеном, а рядом – глиняная корчага воды. Умилился я такой заботе, однако поглядел на землю – босых следов прибавилось. Хлеба не знают, зимой босыми ходят – что за люди живут в Гульмазаре? и люди ли?.. Серый неопадающий снег вился в сумеречном небе. Коня я завел в купол, пусть ночь в тепле проведет.
Лег спать, как в воду ухнул – без страха, с одною надеждой на Бога; саблю положил под тюфяк, рукоятью под руку, рогатину – рядом.
Проснулся – чаша полна водой, на блюде вместо объедков – свежая жареная птица. Напившись и умывшись, положил в чашу дирхем и три даника; плата изрядная. Поклонился на прощание:
–Спасибо вам за доброту и ласку. Не обидьтесь, что не лицом к лицу вас благодарю.
Но не стерпел я искушения. От малых куполов слышалось словно бы бессловесное пение, тихое-претихое, и в каждый куполок вела дверца со скобой. Я приоткрыл... о, чудеса! Пахнуло сухим жаром, а глазам предстало зрелище неописуемое – в черном мху, на высоком стебле полыхал живым светом лал, наподобие тюльпана; видно, что камень, – и не верится, столь он прозрачен и трепетен. Не знаю, как я руку протянуть осмелился. Помню, подумалось: «Вот бы Ульяше привезти, если Бог даст живым вернуться».
Стебель хрупнул, цветок-камень пал мне в ладонь.
Стон и рев раздался сзади, необоримая сила отшвырнула меня от заросли черного мха, бросила навзничь, и встал надо мной зверь не зверь, человек не человек, страшилище косматое с совиными глазами, заклокотало голосом, будто смола в котле; от испуга и боли я едва разбирал тюркские слова:
– Как ты посмел?! Я принял тебя как гостя, а ты – вор!!!
* * *
Опорный стержень накопителя был сломан, шестая часть моих трудов пошла насмарку. И все потому, что я ненадолго отвлекся на слушание известий от тучи – та отследила в двух фарсахах от Гульмазара отряд огузов. И шайтан был с ними,
пусть себе скачут! Но я озаботился – конечно, из-за гостя. Показалось, что огузы его ищут. Я подумал, что можно атаковать и перебить туранских лиходеев, слишком близко они дерзнули подступить к дому царевны, и гость, выехав, окажется в опасности – и вот благодарность за мою заботу!
Одна тучка собралась за моими плечами, уплотнилась, как пчелиный рой, – но я бы и без нее сладил с пришельцем. Что мне его сабля и копье! Я выше, мои руки сильней, мои когти... я не совладал с собой, когти выдвинулись, блеснув остриями.
– Саргиз, не смей, – вторгся в бешенство моих чувств голос царевны. – Это моя вина; я не предусмотрела создать запоры на дверях камор.
– Но царевна! – возразил я мысленно. – Он разрушил твой накопитель силы!
– Вырастим новый. Нижняя часть стержня цела, питающие нити не повреждены. Успокойся, Саргиз.
– Он что-то бормочет. Я не понимаю этот язык.
– Так говорят за Итиль-рекой, на закате. Он уверяет, что сделал это нечаянно. Он готов заплатить за ущерб.
– Хоть бы он отдал все золото хорезмшахов, никто не вернет накопитель. Я убью его.
– Саргиз, он твой брат по вере, – напомнила царевна.
– Вряд ли он признает меня за единоверца... – буркнул я; желание убивать тем временем рассеялось.
– Обяжи его клятвой, – подсказала царевна. – Он не воин, а торговец; он сможет раздобыть тебе книги, которые даже мои тучи не в состоянии отыскать.
Да, книги... Хоть я и слуга царевны, я – Саргиз сын Якуба из Мерва, верный Церкви Востока. «Люди книги» – так зовут магометане и нас, и иудеев, и огнепоклонников; можно вспомнить еще расписные книги манихеев, по которым я учился красоте узоров.
Писание – такая же необходимая часть существования, как хлеб и воздух. Никакое небесное знание не лишит меня веры. Пусть земля – шар, летящий в бездне, пусть один из многих миров, где есть разум, что из того? Христос всемогущ, ему нет запретов и пределов.
Я начал осознавать смысл речей гостя – царевна шептала мне слова, услышанные в странствиях ее послушными тучами.
Возможно, я зря прежде не интересовался народом русов, живущих на северо-западе. Язык их непрост, но красив и зву-
чен. Признаться, мысль моя устремлялась по пути подвижников, несших свет правой веры на восток; Мар-Тума, которого франки и румийцы зовут Святым Фомой, пришедший в хинд– ское царство Кочин и крестивший в Кранганоре царскую семью, патриарх Акакий, основавший первую епархию в земле Хань... я посылал туда тучи царевны и насыщался знанием.
Не без стыда подумал я о том, что в ярости хотел убить гостя. Проклятие пало бы на мою голову!
Но вольно или невольно гость повел себя недостойным образом. За это должна последовать расплата; так велит справедливость.
– У меня трое дочерей, – стенал коленопреклоненный купец, – как им прожить без отца? Матери их уже нет на свете...
Женщины. Царевна не сердилась на меня, когда я, истомившись без людского общества, отправлял тучу в Самарканд, Хиву или хорасанский Нишапур. Долетали стаи сухих снежинок и до Багдада. Каюсь, этим я умножал людские суеверия и порождал сказки о крылатых джиннах, в виде облака уносящих девиц, – но как иначе я мог найти себе собеседника? Прежде, чем пойти на похищение, я дважды честно пытался свататься – добром это не кончилось. Ни золото, ни бадах– шанские рубины не могли примирить людей с моим обличи– ем. Не помогал даже обет сочетаться браком по-христиански. Джинн-жених, верующий во Христа!..
И ни одна со мной не ужилась!
Царевна, видя мою одинокую печаль, некогда сказала:
– Саргиз, хочешь, я насыщу тело твоей избранницы нитями, и она станет как ты?
Я наотрез отказался. Мой облик – неотменное условие служения царевне, и, хоть он страшен, даже безобразен, в этом облике я неуязвим и могуч; таким и пристало быть мужу. Красота для мужчины – не главное, и иссеченный шрамами воин милей девицам, чем женоподобный юнец. Но лишать девушку' ее природной красы – недостойное дело.
Я сделал одиннадцать попыток найти свою желанную. Может быть, на этот раз мне повезет?.. Не уверен. Достаточно взглянуть в зеркало воды, чтобы понять – я не пара никакой девушке. Хоть бы я жемчугом и янтарем рассыпался под ноги, не сотрется из ее очей мой страховидный образ.
– Ладно, – ответил я купцу на языке русов, – я сниму с тебя вину и отпущу, но при одном условии.
Условие, казалось, угнело его тяжелей, чем близкая смерть от моих когтей.
– Да как же... мне нельзя скрыть, кто ты и каков ты, господин зверь-человек! Не прогневайся, ни одна за тебя не пойдет по доброй воле. Разве силой привезти – но чем так, лучше я здесь останусь и кончину приму.
– Мне нужна не рабыня, а подруга. Пусть сама захочет поселиться у меня взамен тебя, а если все откажутся – вернешься ты, и я решу, как быть. Ты нанес мне большой урон, сломав... – Я задумался, как назвать кристалл, накапливающий силу. – Сломав драгоценный цветок, и я законно требую, чтобы ты возместил его.
– Скажи, во сколько раз больше золотом по весу ценишь свой цветок, – и я отплачу, клянусь Богом-Вседержителем. Дай мне три года сроку!
– Сколько бы ты ни дал за жену, она не воскреснет; так и цветок. Я не изменю своего слова.
Купец понурился, но, набравшись сил, дал клятву.
– ...Но не раньше, чем я окажусь в Курске.
– Об этом не заботься – метель донесет тебя и вернется с той, кто решится жить у меня. Вот знак возвращения, – я велел немногим нитям выйти из меня и сплестись кольцом на пальце, после чего снял кольцо и вручил купцу. – Курск – где это место? – спросил я царевну.
– Это селение в четырехстах фарсахах от Гульмазара, за Хазарским морем.
«Значит, – подумал я, – туча с грузом покроет расстояние за время меньшее, чем от восхода до заката».
– Возьми, господин; это твое, – подал мне купец накопитель. пламенеющий от собранной в нем мощи.
– Отдашь той, которая окажется смелее прочих. Пусть цветок будет моим подарком.
К накопителю я прибавил большой ларец, полный золота – ханьские ляны, безанты, отчеканенные в Кустантании, хорезмские динары.
Возможно, следовало остеречь купца, чтобы кристалл не оказался в руках камнерезов – иначе от его Курска останется пепелище шириной в пять фарсахов, но я рассудил, что во всем мире нет резца, способного оставить царапину на оболочке средоточия силы.
Туча обволокла купца с поклажей и потянула его вверх, чтобы затем направиться к северо-западу. Памятуя, как холодно на высоте, я послал туче мысленный приказ – защищать летящего от ветра и стужи. Единственно, от чего я не мог его оборонить, – от страха; я помнил, каково было мне, когда я впервые взлетел без крыльев.
* * *
Зима – время учения. Тверди, запоминай и повторяй. Счет и грамота. Трудное это дело, и Третьяк строг, будто протодьякон. Мало ли что за ученье уплачено – Третьяк начальствует, как воевода; нет-нет и за косу дернет.
– Учи, Ульяна! Что по сторонам зыркаешь?!
– Больно! Я дядьке пожалуюсь, он тебя камчой!..
– Со мной рукоприкладствовать не можно, я лицо духовное. Не злобствуй, дщерь Кудьмы. Безмолвствуй.
Духовное! Таким духовным изгороди подпирать – и то за великую честь пойдет.
Закусила обиду медовой лепешкой. Ждан суется:
– Дай маленько, поделись.
– Завой по-волчьему.
Ждан рад угодить, взвыл; «У-у-у-у!»; Третьяк тут как тут – тресь его по загривку!
– И-и, язычник! На колени и молись!
Четки у Третьяка тяжелы, как кистень. Стоит, помахивает, а Ждан по-гречески бормочет. Чуть Третьяк отворотился, Ждан понес вполголоса иное:
– Отче наш, Перуне, иже еси на небесех, вонми гласу моления моего, порази громовой стрелой своею дьяка Третьяка, сущего в бозе дурака...
И еще бы раз ему досталось, но вошел в горницу дядька Жук – на нем лица нет, один испуг.
– Ульяша, поди со мной. Батька твой вернулся.
Как?! Его весной ждали, по полой воде!
Только в Курске и разговору было, что про возвращение моего родителя. Один-одинок, без коня, но с саблей, по пояс в снегу приволокся, таща каменный сундучок. Камень – не камень, ноздреват, легок и плавуч, как та каменная пена, что
отец привозил в запрошлый раз, которой мы пятки трем после бани.
Приставали к нему родичи тех, кто с ним ушел, – где наши-то? Отвечал разное – тот татями у Хвалынского моря убит, другой о весне придет, ждите.
– За убитых я в ответе, – поклонился он людям. – Сколько с меня спросите, отдам золотом.
И сундучок открыл. Что там было!..
Ходили его след смотреть. От стены града – как пропахано, в двух стрелищах след прервался, сплошь снежное поле, ровнина. Спрашивали градскую стражу – как вышел, откуда?
– Никак, – отвечали. – При ясном небе пронеслась метель, склубилась и вихрем осела, тут его и завидели. А метель улетела, цветом вроде пепла.
Долю в княжью казну, на церкви, родичам убитых отец раздавал в спешности, будто избавиться хотел от злата... или от расспросов. Нас едва расцеловал – губы холодные, руки ледяные, в глазах пусто. Собрал нас под вечер к себе, а у ворот люд шумел, спорил и восклицал нелепое. Челядинцы следили, чтоб поджога не было. Народ смирен, но нравом как туча – в грозу все наружу выйдет, и доброе, и самое дурное.
– Дочери мои... – сумел он сказать, а после заплакал. – Грешен перед вами – не забыть, не замолить греха...
Слово за словом, через силу, поведал он о своем пути и о зароке, данном зверю-человеку. Из-за пазухи достал цветок-камень – кажется, уголь горящий из печи, а не жжется, тяжел и руку студит.
– Не выдайте, родимые.
– Цветок один, – сказала Марья, – для одной взял, одной вез. Кому? Она пусть и служит за отцов долг. Я – значит, я, а коли другая – то другая.
Людское сердце – потемки. Свидетелей их договора со зверем-человеком не было; которая не люба – ту и назовет.
Назвал меня.
Я ревела ночь и день, и еще ночь. Подниму глаза, увижу стены, чье-нибудь лицо – и опять реветь. Между слезами – и со слезами вместе – молилась, как исступленная, в крик. И Марья, и Пелагея, и нянюшка, и даже чернавка Рада – все со мной слезы лили, а приданое собирать не забывали, как полагается.
Замуж? за кого? за нелюдя степного и заморского?..
– И замужем живут, – уговаривала Марья, – и хорошо бывает.
Хотела в колодезь кинуться, но передумала – страшно в студеной воде тонуть. Задавиться бы не дали, глаз да глаз – так стерегли, и все начитывали, как Третьяк:
– За батюшка родного, Уленька, сам Бог велел пострадать! Ты не в своей воле, он тебя родил, вот и послужи, отдай долг дочерний.
Но косу расплести я им не дала. Сама расплету, когда час придет.
Пятого дня ввечеру вывели меня под руки на двор, следом Жук и Волк несли сундуки. Стоять я не могла, на сундук села. Отец снял с пальца волосяное кольцо, надел его мне. Тихо было, и в тишине надо мной закружилась метель. Дальше я не помню.
Очнулась в хоромине без окон, низкий потолок – как небосвод. В шубе жарко, а снять ее боязно – как в чужом доме раздеваться? Но страшно или не страшно, а обычай справлять надо: я встала и поклонилась на стороны, с дрожью ожидая, как из-под стены зверь выскочит.
– Здравствуй, господин мой, на долгие лета.
Слова растаяли в беззвучии, в ответ ничего, но на стене бегучим огнем написалось – буквицы вспыхивали и тускнели, ровно кто лучиной их выводил:
«Не господин я тебе, а послушный раб. Приказывай мне, и все будет исполнено».
Писано было с огрехами; Третьяк за такую писанину не похвалил бы, но суть я поняла, и на сердце малость потеплело. Может, и зверь это, но вежество знает, и даже умалить себя готов, чтоб гостью не обидеть.
Нет, если грамоте знает – не зверь. Зверь и умен, а не смыслен, речи не ведет, тем паче буквиц не выводит. На что уж медведь лобаст, но аз-буки не скажет.
Значит – человек. С человеком сжиться всяко можно, даже, говорят, с половчанином. И все равно жуть. Буквы огненные, хоромы круглые, свет без огня... Ну как и голоса людского впредь не услышу? И церква есть ли тут?
Нахлынуло на меня, я в плач. Слышу, как буквы с шорохом пишутся, а взглянуть ни сил, ни охоты нет. Отдали замуж в чужедальнюю, незнаемую сторону!..
* * *
Когда Ульяна впервые попросила Саргиза показаться ей, я вспомнила его просьбу, обращенную ко мне, – «Царевна, дай себя увидеть». Увы, я не могла исполнить этого. Моя внешность осталась за гранью, разделяющей варианты бытия. Здесь я была не больше, чем иудейский руах – дух, то есть сила, наделенная волей и разумом. Подчиненные мне предметы, те неживые существа, которых Саргиз называл нитями, метелью или тучами царевны, ничуть не отражали моей сущности, во всяком случае – не более, чем рык отражает цвет и фактуру шерсти льва.
Саргиз полагал, что телесно я живу в северном куполе, в Доме Говорящих Стен, но он давно свыкся с тем, что меня можно слышать и говорить со мной всюду. Неудивительно – он был наполнен чувствительными, питающими и преобразующими нитями.
Я с горечью думала о том, что вскоре оставлю его. Разве могла я помыслить, что стану сожалеть о расставании, когда падающей звездой обрушилась в этот юный и темный мир, крича от муки и обиды?
Я помню все.
Я не обязана была рассказывать Саргизу о своем прошлом, но надо было, чтоб он соотнес мою судьбу с привычными ему понятиями – ему так легче. Позже я поняла, что в мире Саргиза мне есть с кем себя сравнить – миниатюрные существа, называемые пчелами, обладали иерархической структурой, сходной с обществом, из которого меня...
Нет, разумеется, общего у нас и пчел мало. Но это сходство – принципиальное; семья выдвигает из своей среды личности, способные рождать и править. Раздел семьи, связанные с этим споры, конфликты...
...Наконец, битвы.
Старая царица приметила меня раньше, чем я вошла в силу. Круг моих сторонников был невелик, а я – слишком слаба; это определило исход сражения. Старухе хватило пяти боевых накопителей, чтобы исторгнуть меня из мира.
В культуре мира Саргиза есть описательный чувственный жанр «хождение по мукам»; это близко нашим «историям отверженных», с той разницей, что мы повествуем не о наблюдаемых, а о лично пережитых страданиях. Когда-нибудь и я
внесу свой вклад в этот свод печалей и терзаний. Когда вернусь. Если вернусь.
Я нетерпелива? Может быть. Каждый раз, почуяв слабину в толще смещающихся пространственных слоев, я рассчитывала прыжок, который приведет меня домой. Просто так, без какой-либо надежды, но страстно.
Не сразу я приступила к сборам в дорогу.
Я упала в области, называемой Мавераннахр, или Согд, и некоторое время стягивалась во взрывной кратер, что возник при моем падении. Тогда мне не было дела до жителей мира; я торопливо преобразовывала грунт, формировала трубки в поисках воды настроила систему самозащиты, пока не уяснила, что бояться здесь некого.
Саргиз сам пришел ко мне, влекомый любознательностью. Стремление знать – верный признак незаурядной личности; я и сама такая.
Нуждалась ли я в помощнике? Видимо, да. И обдумывать, и воплощать задуманное самой – непривычный труд. Управление метелью отнимало много времени, хотя я смогла изготовить несколько несложных устройств, запоминавших мысли и отдающих тучам приказы. Но для точных действий требовался настоящий и верный мне разум.
Я обещала Саргизу долголетие, неуязвимость и огромные возможности познания. Как ни странно, он долго сомневался. Ему казалось, что мои дары лишат его возможности бесконечно наслаждаться после того, как он умрет; согласитесь, что в этом заложено неразрешимое противоречие – наслаждение после смерти!.. Я заверила его, что не покушаюсь ни на какую часть его естества.
Договорившись, мы перенеслись с метелью в более удобное место, где я построила укрытия и водокачку. Саргиз поселился в восточном куполе; в западном выращивались накопители для старта, а в южном – боезапас и батареи для повседневных надобностей.
К появлению Ульяны я заложила основу роста четвертого стартового накопителя и направила в нее по нитям стержня силу из запасных кристаллов южного купола. Оставалось ждать, пока четвертый созреет.
Я посвящала время наблюдениям за миром через тучи. Если бы я не отделяла себя от мира, то, вероятно, могла бы предостеречь хорезмшаха Мухаммеда от опасности с востока,
где собиралась немалая сила ездящих верхом на животных, под предводительством лидера по имени Чингиз-хан.
Гораздо больше меня занимали отношения Ульяны с Сар– гизом.
Женщины этого мира весьма выносливы и более долговечны, чем мужчины, но они слабей физически и потому находятся в зависимости у мужчин. Лидерами они становятся в исключительных случаях, обычно под конец жизни, родив себе много мужчин-потомков и опираясь на их воинскую мощь.
Поэтому наблюдать за женщиной, избавленной от мужского притеснения, было очень интересно. Саргиз, стесняясь внешности, не отягощал Ульяну своим обществом и, добиваясь ее благорасположения, во всем ей угождал. Иная, обласканная таким вниманием и предупредительностью, нежилась бы в безделье, но дочь Кудьмы оказалась активной и деятельной, чем и понравилась мне. Она распорядилась принести ей шерсть, веретено, пряла и ткала полотно на станке, вышивала. Умело обращалась она и с выделанной кожей. Ночью Саргиз тайно помогал ей справиться с неподатливой кожей для подметок, накалывал шилом отверстия для дратвы. Чтобы не спала на полу, возвел ей кирпичную суфу для сна и дневного отдыха, принес ковры, одеяла, окрашенные сафлором, доставил ханьскую бумагу, тушь и тростниковые каламы для письма, воск для печатей – и, конечно, охотно вызвался доставить ее письмо и подарки в Курск.
* * *
Если писать, то искренную правду. «Написавший ложь, – поучал Третьяк, – да памятует, что ложь та в рукописании перейдет в его потомство, во внуки и правнуки, и памятование о писавшем будет вечной ложью на все будущие времена, и предъявят ангелы ту ложь на последнем суде, и будет она свидетельством против лжеписца. Несть гаже порока, как знать истину, но писать ложь; разве Иудин грех тяжелей сего греха».
«Здравствуй, дорогой батюшка Кудьма, здравствуйте, сестрицы Марья и Пелагея.
Пишет вам дочь и сестра ваша Ульяна из места Гульмаза– ра, что в стране Туран, в земле Каракум. Я жива и здорова. Господин мой Саргиз, по-нашему Сергий, оказалось, не зверь.
а человек веры Христовой, церковь его зовется восточной ассирийской, а еще несторианской. Учил он меня молиться Богу по его обряду, и я выучилась. Греческую икону Пречистой Девы, которой батюшка благословил меня в путь, Саргиз почитает глубоко и украшает, а цветок-камень при ней, как лампада, горит неугасимо. Долго он, Саргиз, мне на глаза не являлся, а служил невидимо, я даже думала, что он дух бесплотен. И я упросила его показаться мне зримо, хотя он отказывался. Вначале говорил со мной огненными словесами на стене, потом стал говорить голосом, и я убоялась, но свыклась. А две луны назад я его увидела...»
Как о том написать?..
Я изготовилась, сев на суфе против двери, и, по уговору, сказала:
– Покажись мне!
День был ясен, с ярким солнцем.
Быстро прошел Саргиз мимо дверного проема, но и того хватило мне, чтоб пасть без чувств. Ведь и ждала, и крепилась, а не вынесла.
Темный, шерстнатый, громадный – и легкий, как летучая тень облака, с горбом за плечами, голова – котел, очи желтые, руки длинны, едва не до колен.
Очнулась я и слышу – глухо, надрывно рыдает он снаружи, причитает сдавленно:
– Что я сделал, зачем я согласился?..
И столько муки, столько боли было в его плаче!
– Саргиз!.. – окликнула я слабо.
– Не зови меня! – взрыкнул он. – Пропащий я человек. Умереть бы... Зря я, зря на уговор поддался...
– Не кручинься, ты послушай. Мне только с непривычки подурнело, а твоя ласка мне мила. Никто еще так не ухаживал за девицей. Мне это любо – и ты будешь люб, какой ни есть. Покажись еще; не испугаюсь, вот увидишь.
– Нет, не смогу. И не проси!
– Тогда я сама выйду; не смей убегать.
Я вышла; Саргиз – даже присев, он был немногим ниже меня – сгорбился у стены купола, закрывал лицо руками; пальцы переплелись когтями. Земля, казалось, подо мной, словно вода, колеблется. Я заставила себя приблизиться к нему и положила ладонь на его плечо. И страха не стало.
В самом деле – гладила же я собак и лошадей, а лошадь куда как сильна и опасна. Степняки говорят: «Увидишь в степи конский череп – взнуздай его».
«...Увидела и ничуть не устрашилась. Ростом он велик, в плечах широк, собой виден и дороден, силен, как зубр или тур дикий».
Ну, расхвасталась. Будет!..
«...Тяжелую работу исполняет он играючи, на любое дело мастеровит. Живем мы в согласии, он ко мне добр, я ни в чем недостатка не знаю. Но скучно порой без родного лица, без голоса знакомого. Пришлите ко мне с метелью девку Раду, пусть живет со мной...»
* * *
Не знала я, что испытаю ревность к слабой жительнице этого тусклого, невзрачного мирка. Почему-то я обиделась, когда она коснулась моего Саргиза. Это был повод поразмыслить, пока она уговаривала его не скрываться и не прятать от нее глаз. Как же легко она переломила неприязнь к его чудовищному облику!.. Впрочем, сущность и внешность различны. Должно быть, не все свойства и' способности здешних людей мне известны. Некогда Саргиз – в отличие от многих – не убежал от меня в панике, а напротив, стремился ко мне в желании узнать, что за диво явилось с неба, отчего пустой воздух вблизи кратера в пустыне повторяет сказанное вслух, зачем песок взвивается без ветра, а камни катятся сами собой. Могут ли люди мира Саргиза мысленно или чувственно проникать в сущность, как я? Или этим наделены избранные среди них?