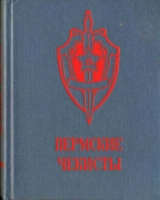
Текст книги "Пермские чекисты (сборник)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Потом нам стало известно, что Гитлер изменил маршрут и поехал в Ржев».
В декабрьскую ночь за «праздничным столом» подпольщики дали клятву мстить врагу, не щадя своей жизни. Они еще не знали тогда, что совсем скоро им действительно придется отдать жизни за освобождение Родины.
Вскоре была проведена, пожалуй, самая крупная совместная операция групп Кочкина и Фокина. Сначала – авария на электростанции. И почти одновременно вспыхнул пожар на паровозовагоноремонтном заводе. Отсутствие электроэнергии предопределило дальнейшее развитие событий. Водяные насосы включить не удалось. Завод – крупнейшее предприятие Великих Лук – сгорел дотла.
О масштабах сопротивления гитлеровцам говорит и запись в дневниках начальника гитлеровского генштаба сухопутных войск генерал-полковника Ф. Гальдера: «14 декабря 1941 года. 176-й день войны. Положение с железнодорожным транспортом. Значительно уменьшилось количество прибывающих эшелонов. Причины – диверсии партизан. В Великих Луках сожжены паровозо– и вагоноремонтные мастерские»[7]7
Гальдер Ф. Военные дневники. – М., 1971. – Т. 3, кн. 2. – С. 120.
[Закрыть].
После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой фронт приблизился к городу. Оккупанты опасались удара и с тыла. И не без оснований. Патриоты рассчитывали с приближением советских войск овладеть комендатурой, уничтожить командование гарнизона.
Однако силы оказались неравными. Против подпольщиков действовали отлаженные, беспощадные фашистские спецслужбы.
Участники подполья рисковали не только жизнью. Ко многим из них, особенно к тем, кто пользовался доверием у немцев, местные жители относились с презрением. Это было едва ли не самым тяжелым испытанием. Нельзя было ни словом, ни жестом выдать свою ненависть к фашистам. Поскольку на немцев подпольщики работали открыто, на виду у всех, истинное же лицо каждого знали немногие, по городу поползли слухи о молодых предателях, переметнувшихся к немцам. Не прекратились они и после освобождения Великих Лук, так как официального подтверждения существования подпольных групп не было. Трудно представить состояние матери Кочкина, когда на обращение в компетентные учреждения она получила ответ, что Василий был холуем у оккупантов и поэтому достоин всякого презрения. Плохая молва о сыне подорвала здоровье и старого солдата Ивана Николаевича.
Подтверждения действий патриотов в Великих Луках были получены в процессе следствия, которое в 1949-1950 годы провели пермские чекисты.
* * *
Вскоре после войны в Пермскую область прибыл Григорий Шумков. По документам – бывший военнопленный, освобожденный нашими войсками из австрийского лагеря. О прошлом вспоминать не любил, близко ни с кем не сходился – это никого не удивляло. Понимали: наверное, много человеку пришлось пережить, немало судеб искалечила война. Так и работал бы Шумков, если бы не одна встреча. Оказался в тех же краях бывший фашистский прихвостень, уже отбывший срок наказания за пособничество немецким захватчикам. И, встретившись с Шумковым, узнал в нем провокатора, выдавшего подпольщиков в Великих Луках. Никому об этом докладывать не стал, но как-то в компании не удержался, сболтнул. Пермские чекисты вышли на след предателя.
Не просто было разоблачить его. Преступник надеялся, что свидетелей не осталось, документов, изобличающих его, не сохранилось.
Подполковник Иван Васильевич Няшин попросил разрешения лично вести расследование этого дела. Начальник управления одобрил такое решение, так как хорошо знал Ивана Васильевича, его боевой путь, службу в органах. Няшин до войны более семи лет работал народным судьей, участвовал в боях на Халхин-Голе, с 1942 по 1945 год на фронте, в контрразведке «Смерш», награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями. Во время войны непосредственно участвовал в разоблачении немецких агентов, вел дела на фашистских наемников.
Шаг за шагом следствие изучало этапы предательства. Были разысканы и приглашены в Пермь участники и свидетели дел великолукского подполья. Дали показания Геннадий Фокин, Николай Смирнов, Миля Минина и другие.
Из показаний свидетеля Геннадия Васильевича Фокина:
«Шумкова я узнал, когда он стал работать в конце 1941 года или в начале 1942 года, точно не помню, на паровозоремонтном заводе. Я в это время руководил подпольной организацией, которая состояла примерно из 50 человек. Шумков с первых же встреч со мной и другими на заводе навязывал разговор про войну, о том, что советские войска начинают наступать и скоро немцев разобьют, что надо организовываться и бить немцев здесь и т. д. А потом он стал просить, чтобы его приняли в организацию. Я ему ответил, что у нас нет никакой организации. Впоследствии, посоветовавшись с некоторыми руководителями подпольных групп, мы его приняли. В беседе он рассказал, что в прошлом работал в Великолукском военкомате, имеет воинское звание «старший лейтенант», оставлен для подпольной работы, имеет оружие, в том числе пулемет.
Примерно в январе 1942 года на квартире Валентина Полякова состоялось совещание руководителей подпольных групп, на которое был приглашен и Шумков. Мы наметили план проведения диверсий на заводе и в городе против немцев и я дал задание собирать побольше оружия. Шумков выступил с патриотической речью, призывал к борьбе с фашистами...»
На очной ставке с Фокиным 23 февраля 1950 года Шумков признал:
«Показания свидетеля Фокина я подтверждаю в том, что действительно через несколько дней после совещания по моему приглашению Фокин пришел ко мне на квартиру и в беседе наедине мы подвергли обсуждению вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности нашей подпольной организации. Совершенно верно, я достал, но где, сейчас не помню, карту Великолукского округа, и мы вместе с Фокиным стали наносить на ней военные объекты противника и возможные варианты подавления немецких огневых точек в момент наступления советских войск с целью нашего соединения с ними. Припоминаю, тогда же возник вопрос о численности подпольной организации. Фокин мне называл фамилии известных ему участников подполья, и мы намечали, что каждая из групп должна будет делать в момент восстания. Фамилии я записал...»
Вскоре начались аресты подпольщиков. Патриотов привозили в гостиницу «Москва», превращенную гестаповцами в застенок с усиленной охраной. Взяли и Шумкова, но он содержался в отдельной комнате в помещении гестапо. Очевидно, немцы опасались, что он будет сразу разоблачен участниками подполья. Патриотов пытали, пытались добиться признания, однако ничего добиться не могли. Тогда в открытую решили использовать предателя.
Из протокола допроса Шумкова:
«На допросах у следователя осткомендатуры Шоля я рассказал о подпольном совещании в квартире Полякова и назвал фамилии присутствовавших на нем людей, которых знал... Мне проводились очные ставки, на которых я уличал участников нашей организации в фактах конкретной подпольной деятельности...»
Из показаний свидетеля Николая Ивановича Смирнова:
«Когда меня привели в комнату, где немецкие офицеры проводили допрос арестованных, я увидел за столом Григория Шумкова. Он ел хлеб со сливочным маслом. В этой комнате находились три немецких офицера, переводчик по фамилии Кресс и два жандарма, которые охраняли меня...»
Из показаний свидетеля Алексея Кузьмича Иванова:
«Когда я был на допросе у немецкого следователя, Шумков сидел тут же за столом в хорошем настроении, улыбался. Он задал мне вопрос: «А помнишь ли историю с досточками с гвоздями?» А мы до этого по дорогам разбрасывали металлические шипы и доски с гвоздями для прокола шин немецких автомобилей. Но я ответил, что помню, как заколачивали досками дверь в подвале электростанции...»
Вина Шумкова в предательстве великолукских патриотов была доказана. Приговор военного трибунала Прибалтийского военного округа – высшая мера наказания.
* * *
Предательство наказано, возмездие за преступление пришло, но необходимо было вернуть честные имена патриотам, которые оставались неизвестными или оклеветанными. Установлению истины способствовало следствие, проведенное чекистами по этому делу. В официальных материалах расследования есть бесценные сведения о подпольщиках, их деятельности, героическом поведении. Есть здесь и документы, касающиеся Василия Кочкина.
Из показаний свидетеля Николая Ивановича Смирнова:
«Находясь на работе на электростанции в сентябре 1941 года, числа точно не помню, с директором Киселевым Германом Степановичем мы пошли на насосную станцию. Он в разговоре интересовался моей биографией. В свою очередь я также спросил Киселева, что он за человек. На это Киселев мне ответил, что до войны отбывал наказание в Витебске. Из разговоров с ним я понял, что он в заключении не находился. Спросил его на тюремном жаргоне один из предметов в тюрьме, Киселев мне не ответил, стушевался. Он предложил мне работу по зарядке аккумуляторов, при этом заявил, что их надо заряжать так, чтобы они не работали. После этого разговора Киселев пригласил меня в гости, предупредил, чтобы я никому не рассказывал о том, какое дал он мне задание...»
О достоинстве, с которым держался Кочкин в самое трудное время, говорил и сам предатель.
Из протокола допроса Шумкова:
«На очной ставке у следователя Шоля Киселев, обратившись к переводчику Крессу, с возмущением спросил: «Скажите, за что меня арестовали?» Тот ответил: «Скоро узнаете». «Вы знаете Фокина?» – был вопрос Кресса. «Нет, не знаю». Я подтвердил их знакомство. Затем Кресс перевел следующий вопрос Киселеву: «Знаете ли вы, что у вас на электростанции группа людей производила акты саботажа?» «Нет, не знаю», – ответил Киселев. «А как вы думаете?» – Кресс адресовал вопрос мне. Я ответил, что, исходя из знакомства с Фокиным и компетентности Киселева в техническом отношении, можно предположить, что он играл известную роль в подрывной работе на электростанции...»
О том, что творилось тогда в помещении гостиницы «Москва», где содержались подпольщики, рассказала потом чудом уцелевшая Миля Минина: «Истерзанные на допросах молодые ребята, брошенные в камеру, от боли лишались дара речи. Я стала совершенно седой...»
Пытки, истязания, допросы продолжались в течение месяца. 19 марта подпольщиков посадили в грузовики, накрыли брезентом и повезли на Коломенское кладбище, на окраину города. Свое черное дело фашисты свершили рано утром, надеясь скрыть, кого расстреляли. Однако и здесь оказались свидетели. Мать подпольщика Александра Овчинникова Надежда Дмитриевна рассказала: «19 марта 1942 года я и ряд других матерей, в том числе Иванова, подошли к немецкой тюрьме. Иванова ухитрилась у двух арестованных женщин через окно спросить, где наши дети. Те ответили, что их ночью увезли на автомашинах. Через некоторое время к тюрьме подошла женщина и рассказала, что около ее дома на кладбище Коломейка расстреляли несколько человек. Она слышала крики «За Родину» и выстрелы. Мы, матери, пришли на это место, нашли несколько шапок, хлястиков от пальто, мыло, мочалку. Пытались разрыть могилу, уже отрыли 8 трупов, в том числе директора электростанции Киселева, но были отогнаны сторожем. В тот же день я спрашивала у знакомого полицейского о сыне. Он сказал, что Сашу расстреляли».
Подполковник Няшин с удовлетворением закончил это дело. Еще бы... преступление раскрыто, собраны доказательства, предатель ответит за содеянное. Но радовало другое. Выяснены, хотя и не полностью, обстоятельства действий патриотов в тылу врага. Раскрыта еще одна страничка мужества советских людей.
Великолукское подполье было организовано рядовыми коммунистами, комсомольцами, беспартийными – теми, кому дорога Родина. У них не было опыта партийной, пропагандистской работы, они не обладали навыками конспирации. С голыми руками начинали борьбу, оружие приходилось добывать у немцев. Но их это не остановило. Рискуя жизнью, подпольщики боролись с оккупантами в тяжелые для нашей страны дни 1941-1942 годов.
В арсенале группы Кочкина были и диверсии, и саботаж, много сил он и его товарищи уделяли агитационной работе, укрепляя веру в победу у местных жителей. Была отлажена «цепочка», по которой переправлялись через фронт бежавшие из лагерей военнопленные, выходившие из окружения бойцы и те подпольщики, которым угрожала непосредственная опасность. С ними же переправлялась разведывательная информация, собранная патриотами.
И провал подпольщиков произошел не из-за моральной неподготовленности, а из-за нехватки навыков конспиративной работы, отсутствия в подполье людей, знавших непреложные законы жизни в тылу врага.
Обстоятельства сложились так, что их имена не сразу были внесены в списки тех, кем гордится народ. Даже следствия почему-то оказалось недостаточно. Подключились уцелевшие подпольщики, журналисты. Лишь в 1961 году появился документ – письмо Псковского обкома КПСС, внесший полную ясность: «Дополнительной проверкой установлено, что в конце 1941 и начале 1942 годов в Великих Луках действительно имелись патриотические молодежные группы, одну из которых возглавлял Кочкин Василий Иванович, работавший в то время на городской электростанции под фамилией Киселев. В феврале 1942 года немцы арестовали многих участников этих патриотических групп и ряд из них расстреляли. В числе расстрелянных был и Киселев».
Немало подвигов совершено в годы войны на Псковщине. Вскоре после ареста подпольщиков, 24 февраля 1942 года, Совинформбюро сообщило о великолукском колхознике, 80-летнем Матвее Кузьмиче Кузьмине. Гитлеровцы предложили ему лесом и болотами провести их в тыл советских войск, обещали много денег. Во время сборов Матвей Кузьмич незаметно поручил сыну пробраться к нашим, предупредить их об опасности и сказать, чтобы они устроили засаду в условленном месте. Долго водил фашистов по лесу старый охотник. И когда они неожиданно оказались под перекрестным пулеметным огнем, Кузьмин что было силы крикнул: «Бей, ребята, не жалей гадов!» Фашистский офицер тут же выпустил в него пулю. Более 250 гитлеровцев нашли свою смерть под огнем наших бойцов. Многие были захвачены в плен. Так великолукский колхозник отомстил за молодых подпольщиков.
Вспомним и Александра Матросова, на псковской земле сделавшего свой последний шаг на вражескую амбразуру.
Много известных и пока безымянных героев сложили здесь свои головы. Один из них – наш земляк Василий Кочкин. Память о нем не должна уйти вместе с последними свидетелями тех героических событий. Как сам Василий учился на примере старших поколений, так и нынешняя молодежь должна видеть перед собой пример людей, прошедших через все испытания, не запятнав своей чести. Так пусть живые помнят.
М. СМОРОДИНОВ
Закон пограничья[8]8
Некоторые фамилии в очерке изменены.
[Закрыть]
«Председателю КГБ Литовской ССР.
Докладываю: Вакшаускас Винцас, сын Вацлаваса, 1913 года рождения, уроженец деревни Паленишки, литовец, беспартийный, кулак-единоличник, бывший житель деревни Памельгеджяй, в период временной оккупации немецко-фашистскими войсками территории Литовской ССР состоял с июня 1941 года в сувенском бандитском карательном отряде. На вооружении имел винтовку, участвовал в арестах советских граждан. После реорганизации отряда служил в илебродской немецкой полиции. Принимал участие в расстрелах арестованных коммунистов, советских активистов и лиц еврейской национальности, что подтверждается свидетельскими показаниями.
После изгнания немецко-фашистских войск с территории Зарасайского уезда Вакшаускас находился в вооруженной националистической банде Стрейкуса, получив кличку Баравикас, впоследствии измененную на кличку Рябина. Участвовал в террористических актах в тылу советских войск.
В конце сентября 1945 года банда Стрейкуса Антанаса была окружена в Радминском лесу подразделениями войск НКВД и частично уничтожена. Вакшаускасу вместе с главарем банды Стрейкусом удалось скрыться. Находясь на нелегальном положении, он организовал собственное бандоформирование, продолжал террористические вылазки, грабил население.
29 января 1948 года совместно с бандитами Имбродасом (арестован и осужден), Вайнаускасом (впоследствии убит) и Карло Ионасом (разыскивается) – Вакшаускас совершил вооруженное нападение на деревню Губеранцы. Ее житель Новицкас сообщил, что вечером к нему в дом ворвались два бандита: один среднего роста, в ватнике и шапке-ушанке, лицо корявое, вооружен автоматом, пистолетом и гранатами; второго не запомнил. По предъявленным позднее фотографиям Новицкас опознал Вакшаускаса.
Бандиты зверски избили Новицкаса и под угрозой оружия заставили постучать в дверь дома Калинскаса, где жили комсомольцы – девятнадцатилетний Вилюе и восемнадцатилетний Владас. Бандиты убили их. Избив хозяев, сложили в мешки награбленные вещи, запрягли лошадь Калинскаса и уехали в сторону деревни Сувеки. Сестра убитых комсомольцев Аксютова-Калинскас и их отец также опознали по фотокарточке Вакшаускаса. Причем сестра утверждает, что именно он застрелил из пистолета младшего из братьев.
В феврале 1948 года банда Вакшаускаса была разгромлена, девять бандитов убиты в перестрелке, шестеро арестованы, троим, в том числе главарю, удалось бежать. Активный розыск Вакшаускаса продолжался до марта и был прекращен, когда в Радминском лесу обнаружили убитого из автомата мужчину с обезображенным до неузнаваемости лицом. В кармане ватника нашли потертый аусвайс, выданный во время оккупации на имя Винцаса Вакшаускаса. Односельчане подтвердили, что убитый, по всем приметам, – разыскиваемый бандит.
Однако органами КГБ Пермской области 25 января 1960 года было обращено внимание на неизвестного мужчину, прибывшего в поселок Визяй Кудымкарского района, где в настоящее время проживает семья Вакшаускаса. Проведенные в короткий срок оперативные мероприятия позволили доказать, что в Визяй приехал Винцас Вакшаускас. Сотрудники КГБ выяснили подробности его антисоветской и националистической деятельности, собрали доказательный материал.
Учитывая, что Вакшаускас совершал преступления на территории Литвы, а расследование проведено органами КГБ Пермской области, прошу Вашего разрешения на переправку Вакшаускаса в Вильнюс с последующим арестом именно здесь.
Уполномоченный КГБ Литовской ССР по Утенскому району майор Тихонравов.17 июня 1960 года».
Действительно, расследование преступлений Вакшаускаса организовали и провели пермские чекисты вместе с литовскими товарищами. А руководил всей операцией наш земляк, майор Петр Абрамович Курганов, ныне полковник в отставке, ветеран КГБ. Сколько на его счету нелегких поединков с врагом, головоломных расследований! Свою чекистскую службу начал он еще в 1940 году, на границе, прошел через войну и кровь, служил в «Смерше», был ранен и контужен. Много наград на груди ветерана, среди них и главный солдатский орден – орден Славы. Но самая дорогая награда, как он сам признался, – медаль «За оборону Советского Заполярья».
* * *
В лощине лежал снег. Много намело его за долгую полярную зиму. Конец июня – а все еще не тают снежные языки, белеют среди ярко-зеленых тундровых болот, на фоне серых причудливых валунов, оставленных здесь проползшим в незапамятные времена ледником. На южных и западных склонах каменистых гряд, цепляясь корнями за скудную, неласковую землю, коряво стоят малорослые карельские березы. Спешат подставить узкие ладошки листьев солнечным лучам. Заполярье! Июнь – еще не лето, июль – уже не лето.
Петр Курганов – заместитель политрука первой заставы – залег с винтовкой в середине цепи из сорока пограничников. Там, за снежной лощиной, – враг. Если фашисты пойдут через границу, лощины им не миновать: южнее – озеро Титовское, севернее – непроходимые болота, скальные надолбы, настоящий противотанковый рубеж, созданный самой природой. А фашисты должны пойти: через заставу лежит кратчайшая дорога на Мурманск.
Уже неделю гремели бои, немцы танковыми клиньями ломились в глубь страны. А здесь, на севере Кольского полуострова, стояла относительная тишина. Перебежчики с финской стороны предупреждали пограничников, что фашисты готовят удар в ночь на 29 июня. А вчера Петр Курганов и сержант Киселев с нарядом из трех человек обнаружили на советской территории, примерно в километре от государственной границы, четырех вооруженных автоматами нарушителей. В перестрелке троих уничтожили, одного, раненного, задержали.
Им оказался немец в звании обер-лейтенанта, штабной офицер 6-й горно-егерской дивизии. На допросе он вел себя заносчиво, не скрывал, что выполнял разведывательное задание – выявить огневые точки, прикрывающие дорогу на Мурманск.
– Чего мне скрывать, – убежденно басил немец, – когда первого июля мы уже будем в Мурманске! А вы, господа, будете нашими пленными...
– Повадился кувшин по воду ходить – там ему и голову сложить, – сказал начальник заставы старший лейтенант Дронов, когда политрук Иванцов перевел речь фашиста. – Прочитай, что у него в документах.
– Часть нам известная – горные егеря дивизии генерала Дитла. А вот это интересно. Пригласительный билет. Командование приглашает господ офицеров вермахта в мурманский ресторан «Арктика» на торжественный банкет по случаю доблестного захвата Мурманска «на третий день с начала наступления».
– Ишь ты, на банкет! Как же – «герои Нарвика и Крита». У нас тут не Крит, охолонут маленькб.
Дронов запечатал пакет и передал его Курганову:
– Срочно доставьте командиру полка, а на словах передайте, что немцы попрут скорее всего в ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое. Показания перебежчиков косвенно подтверждаются.
Оседлав единственного на заставе коня, – зимой пограничникам приходилось больше ездить на собаках и неприхотливых оленях, – Курганов поскакал в штаб 95-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии, дислоцировавшегося восточнее реки Титовка в тылу у пограничников.
В 11 часов вечера, едва солнце коснулось горизонта, пограничники скрытно покинули казарму и двинулись к границе на высоту «202», заняли рубеж вдоль заснеженной лощины. Сорок человек с гранатами и стрелковым оружием – против многотысячной, вышколенной, вознесенной геббельсовской пропагандой до небес дивизии горных егерей, против пушек, минометов, авиации...
«Ночь» полярным днем – полчаса светлых сумерек – промелькнула быстро, как тень совы. Пограничники разложили в ниши гранаты, запасные диски и обоймы. «Хорошо хоть к «трехлинейкам» в мае пришло подкрепление – самозарядные винтовки Токарева и пистолеты-пулеметы Дегтярева. Ведь уже тогда на границе пахло порохом: чуть не каждый день нарушения – и на земле, и в небе», – думал Курганов, привалившись спиной к валуну. Посмотрел вперед, на заснеженную лощину, глянул вокруг. Хмурый пейзаж! Невысокие каменистые сопки с чахлой растительностью, болота, серое небо – нагоняли тоску. С особой остротой вспомнился дом, родная деревушка Лямпино посреди весело зеленеющей пармы.
Гадал ли он тогда, в детстве, что придется ему стрелять в людей? Нет, конечно. Петр мечтал стать учителем. Как большинство физически сильных людей, был он добродушен, не любил ссор. Да и с кем ссориться? Почитай вся деревня – родня, у всех фамилии – Кургановы. Есть еще, правда, Вавилин, да и тот – зять Кургановых, женился на старшей сестре Петра.
А силенок Петр набрался в деле, с четырнадцати лет пахал. В пятнадцать закончил ШКМ – школу колхозной молодежи, как звалась тогда сельская семилетка, поступил в Кудымкарское педучилище. Славная была жизнь, хоть и голодная. Стипендия – пятьдесят рублей, а килограмм хлеба стоил почти рубль, килограмм сахару – четыре пятьдесят. И еще надо одеться, обуться. Зато какое пиршество – после стипендии пойти в «настоящую» столовую, подкрепиться более существенным, чем каша да чай! Правда, официанты обслуживали учащуюся братию весьма неохотно, зато стремглав бросались на щелчок пальцами заезжих шоферов, те на «деньгу» не скупились.
В 39-м году Петра Курганова как выпускника направили на длительную педагогическую практику, а в сентябре 40-го призвали в пограничные войска. Петр не думал становиться профессиональным военным, хоть и был соблазн. Перед окончанием училища пришел к ним в общежитие офицер из военкомата, весь в скрипучих ремнях, в блестящих сапогах чистого хрома. Петру предложили поступить учиться в Свердловское пехотное училище.
Отговорил его зять, тот самый единственный в селе Вавилин. Был он уважаемым в колхозе человеком, партийцем. «В селе учитель – больше чем учитель. Так что, Петр, отслужи лучше срочную да возвращайся, учи ребятишек добру...».
Так и сделал бы Курганов, если б не фашисты, если б не война. Нет, не думал он стрелять в людей. А скольких уже нашли его пули здесь, на границе, с той поры, как служит он в Мурманском пограничном округе войск НКВД, на первой, самой северной на Кольском полуострове заставе? Свято выполнял он главный закон пограничья: быть бдительным, смело вступать в поединок с врагом, не жалеть своей крови и даже жизни ради своего народа, своей родины. Настоящий, чекистский закон. И не в людей он стрелял, а в нарушителей, в шпионов и диверсантов, не желавших сдаваться. И не в людей он будет стрелять сегодня, а в смертельных врагов, фашистов.
Курганов потянулся к винтовке, еще раз примериваясь, удобно ли будет целиться, и в этот миг страшно громыхнуло на западе, над головами пограничников с воем понеслись снаряды, мины. Фашисты ударили по заставе и по тылам, где располагался 95-й стрелковый полк. Как молот по наковальне, долбила и долбила по скалам фашистская артиллерия. Когда первый одуряющий страх, заставляющий инстинктивно прижиматься к земле, немного отпустил, Петр приподнял голову. По склону лощины спускались с той, западной стороны плотные цепи горных егерей в серо-зеленых мышиных мундирах.
Атакующие враги достигли белой кромки лощины. Пьяно горланя, – егеря укрепляли свою храбрость шнапсом, – фашисты бежали по рыхлому снегу, проваливаясь и беспорядочно строча перед собой из «шмайссеров». Перекрывая треск автоматных очередей, старший лейтенант Дронов крикнул: «Огонь!»
Каждый метр лощины был давно пристрелян пограничниками. Их встречный огонь был точен. Отчетливо, зло били винтовки, в центре рокотали ППД – знаменитые «дегтяри», с флангов косили врага два станковых пулемета – самая мощная «артиллерия» заставы. Трупы в мышиных мундирах испятнали белый снег. Оставшиеся в живых отступили. Застава выдержала первый натиск егерей.
В течение дня пограничники отбили восемь атак озверевших врагов. Патронов наши бойцы не жалели: арсенал заставы пополнялся единожды в году, да и запас продуктов привозился разом на весь год. И сделано это было недавно, полмесяца назад.
Несколько раз фашисты предпринимали артналеты на позиции пограничников, дважды вызывали авиацию, но сбить оборону так и не смогли. Здесь, среди вековых валунов, разрывы снарядов и бомб были малоэффективны, смертью грозило лишь прямое попадание. Именно от прямого попадания авиабомбы погиб старшина заставы, подвозивший товарищам боеприпасы. Бомба в щепки разнесла повозку с патронными ящиками и гранатами, осколками ранило лошадь, и она стонала буквально по-человечески, пока Дронов не приказал кому-то из бойцов добить ее.
К вечеру наблюдатели с левого фланга доложили, что фашисты взорвали скалу у озера, разровняли дорогу и в обход цепи пограничников пустили танки.
– Приказываю отходить! – скомандовал Дронов. – Взять максимально возможное количество боеприпасов и продовольствия, остальное вместе со зданием заставы сжечь!
Неохотно выполнили приказ начальника пограничники. Дронов понимал их, а потому и объяснил свои действия политруку заставы Иванцову:
– Задачу свою мы, Николай Матвеевич, выполнили. Нужно было продержаться восемь часов, а мы тут – без малого сутки. Егерей накрошили – снега в лощине не видать. А на танки идти с голыми кулаками – не резон. Так и растолкуй бойцам: отходим на укрепленные позиции девяносто пятого полка. Вместе будем воевать. У пехотинцев есть и пушки противотанковые, и гранаты...
* * *
Сто километров, отделявшие Мурманск от линии государственной границы, фашисты намеревались пройти за три дня. Почти два месяца потребовалось им, чтобы одолеть сорок километров от Титовки до реки Западная Лица. 95-й стрелковый полк и влившиеся в него пограничники отступали, заставляя врага платить большой кровью за каждый куст и камень, за каждый метр советской земли.
Уже 29 июня командование 82-го погранотряда потеряло связь с первой заставой. Ее сочли погибшей. Родственникам личного состава в конце июля послали похоронки. Пришла казенная бумага и в деревню Лямпино Коми-Пермяцкого округа родителям Петра Курганова.
И какова же была радость командования погранотряда и друзей-пограничников, когда застава – почти без потерь! – в августе форсировала Западную Лицу и вместе с подразделениями 95-го полка заняла оборону на ее восточном берегу! Получив подкрепление, на этом рубеже советские части стояли насмерть. До Мурманска – нашего заполярного незамерзающего порта – фашистам оставалось пройти еще шестьдесят километров, но они не смогли продвинуться уже ни на шаг. Здесь сложили головы многие егеря дивизии генерала Дитла, здесь похоронена ее «непобедимость». Не зря долину Лицы в годы войны окрестили Долиной Смерти, а после победного мая – Долиной Славы.
Пропали пригласительные билеты командования германского вермахта на банкет в ресторан «Арктика». Фашисты могли попасть в Мурманск только в одном качестве – в качестве пленных! Мишуковская дорога от пограничной заставы № 1, от Титовского озера до Мурманска – оказалась для горных егерей непроходимой.
* * *
Когда линия фронта на Западной Лице стабилизировалась, командование 82-го погранотряда отозвало пограничников из стрелковых частей. Из уцелевшего, крепко обстрелянного личного состава разных застав сформировали чекистский диверсионно-разведывательный отряд. Заставу старшего лейтенанта Дронова поделили на две диверсионно-разведывательные группы. В группу, которую он возглавил сам, Дронов включил и Петра Курганова как сообразительного разведчика, меткого стрелка, человека большой физической силы, да к тому же владеющего боевыми приемами рукопашной схватки.
Рейды пограничников во вражеский тыл отличались дерзостью и стремительностью: они действовали в хорошо знакомых им районах своих бывших застав, знали каждый камень, склон, ложбинку, болото.
– Дома стены помогают, а мы – дома! – не раз говаривал Дронов.
...Их группа возвращалась из глубокого рейда по фашистским тылам. В белесой мгле полярной ночи, в белых маскхалатах скользили пограничники на лыжах по белым снегам, выявляя расположение вражеских подкреплений, коммуникации противника, штабы, узлы связи. Спали прямо на снегу, подостлав ветки карельской березы, костров не разводили, питались стылыми консервами, кое-как размороженными на синеватом пламени таблеток сухого спирта; жевали каменные сухари.








