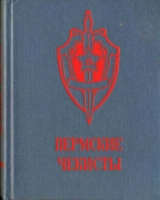
Текст книги "Пермские чекисты (сборник)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
9
Конечно, за свою оплошку Долгих выговор получил. Но не зря говорят в народе: не было бы счастья, да несчастье помогло. Напуганная подозрением группа Миклашевского затаилась, прекратила порчу техники и другие преступные акции – дабы не попасться. Это лишний раз убедило чекистов, что они идут по верному следу.
Но вечера Миклашевский не отменил. По-прежнему к его дому тянулась молодежь, по-прежнему тут пели, играли, а хозяин дома временами вспоминал что-нибудь из прочитанного про «вильну Украину». Но был весьма осторожен. И каждому из своей группы велел присматриваться к гостям. Чих не признался, что виновен. Может, оно и так. Но кто же тогда из гостей докладывает о них органам госбезопасности? Выявить его и покарать!
Подозрение падало на одного, другого, третьего. Но не на Татьяну с Григорием. По просьбе Латкина Теця продолжала переписку с Аней, по-прежнему давала прочитывать ее письма Богдану Миклашевскому; тот, в свою очередь, не упускал возможности передать племяннице новую весточку.
Одновременно Татьяна (реже Григорий) информировала чекистов, как ведут себя миклашевцы, что замышляют. А они готовили, в частности, диверсию на соседней строящейся шахте, поджог там гаража, порчу техники.
Был вызван на откровенный разговор и Чих. Вот тогда и выяснились все обстоятельства его избиения.
В один из вечеров Миклашевский, Кучера, Горак и Ханковка были арестованы.
Вскоре, в ходе следствия, стали известны дополнительные детали их деятельности и планов.
Ядро группы составляла упомянутая четверка. Еще семь-восемь человек – вроде Григория Воцуняка – выполняли отдельные их поручения.
Остальные – завсегдатаи сходок – люди безобидные. Правда, именно они подвергались националистической обработке. Незаметно, ненавязчиво Миклашевский настраивал их против Советской власти. И, возможно, со временем преуспел бы, не упреди чекисты все его замыслы.
«Камарилья» поддерживала хорошо отлаженную, тщательно законспирированную многоступенчатую связь с осколками националистического подполья. Тактика Миклашевского состояла в накоплении сил, и там, где позволяли условия, где была благодатная ситуация, как учили его западные наставники, он должен был осуществлять диверсии, наносить материальный и моральный ущерб Советскому государству.
Планы у миклашевцев были с дальним прицелом. Они мечтали достать оружие, взрывчатку (несколько патронов аммонала Горак уже украл во время подготовки отпалки в карьере и хранил их в оборудованном тайнике). Подумывали бандиты (а называть их так имелись все основания) о чистых бланках различных документов, начали собирать сведения о людях, высланных за преступления против государства.
Да рухнули эти планы, не сбылись.
Такое удачное начало работы, конечно же, придало Латкину сил и уверенности на долгие годы.
10
А если быть скрупулезным, то эти «долгие годы» можно без труда высчитать. Начинал службу в пятидесятом, закончил в восемьдесят первом. Итого – тридцать один год! Ушел в отставку полковник Латкин по болезни – пристали к нему инфаркты. Было бы здоровье, он и сейчас бы не покидал управление КГБ по Пермской области, где проработал двадцать семь лет.
О «Камарилье» он сегодня вспоминает с легкой иронией. Был-де такой случай. Справиться я со своей задачей тогда справился, но и ошибок допустил немало. По неопытности. Сейчас этого Миклашевского разоблачил бы в два счета...
Но вообще-то Латкин благодарен судьбе за то, что она устроила ему экзамен на зрелость, на самостоятельность в далеком Алдане. Это была хорошая школа.
В. СОКОЛОВСКИЙ
Крушение
Человек шел по лесу. Наступало утро. Недолгую летнюю ночь он скоротал в старом шалаше на сенокосных угодьях. Из своего ночного убежища выполз еще затемно. А когда кончился лес и тускло заблестела впереди полоска железнодорожного пути, воздух был серым, размытым, неверным.
Мокрые от росы брюки липли к ногам. Раздвигая высокую траву, он двинулся к полотну. На перекинутой через плечо костыльной лапе висела сумка с торцовым гаечным ключом и «пучинным»[9]9
Несколько больший обыкновенного костыль для крепления рельсов к шпалам. Применяется обычно весной, когда путь «пучит».
[Закрыть] костылем внутри, рукой вышедший из леса опирался на слегка изогнутый металлический прут. Человек вышел на пути, огляделся и пошагал к ближайшему рельсовому стыку. Вынул из сумки инструмент и принялся развинчивать стык.
Надо было торопиться. Вставляя в отверстия торцового ключа то большой костыль, то – если гайка шла туго – прут, он откручивал болты. Отлетела одна гайка, вторая, третья... Тогда он пустил в дело лапу. Вот рельс отошел от стыка, дальше, дальше... хватит! Теперь никуда не денутся.
Рельсы задрожали, послышался далекий гул. Человек поспешно забросал разведенный стык сорванной с обочины травой, подхватил сумку, костыльную лапу и кинулся в лес, откуда недавно вышел. За первыми деревьями остановился и стал наблюдать. Состав грохотал, грохотал в отдалении – и вдруг голова его выскочила из-за близкого поворота. Сразу шум колес сменился заглушившими все звуками: отвратительным скрежетом, визгом, свистом – так, что можно было почувствовать даже физически, как схваченные намертво тормозами колеса пытаются удержать чудовищную инерцию подпирающего сзади состава и сдирают, состругивают с рельсов верхние слои металла. Но разве остановишь сразу такую массу! Тем более что времени для торможения оставалось совсем мало – поезд только вышел из-за поворота. Сколько мог, он боролся с отделяющим его от аварии пространством – затем, сорвавшись с разведенного стыка, начал заваливаться вбок электровоз, за ним почтовый, багажный вагоны...
Дальнейшего скрывавшийся за деревьями уже не видел. Он кинулся в лес. Сердце билось жестко, зло, быстро. И если сначала он чуть не вскрикнул от радости, увидав выплывающий из-за поворота состав, то теперь задыхался от невыносимого страха и не видел перед собою дороги. Впрочем, он хорошо знал здешние места и никогда не заблудился бы. Лапу потерял, бросил где-то по дороге. Вскоре он вышел к пристанционному поселку. Далеко обогнул его. Теперь недолго – и путь его пересечется с большой автодорогой. А там уже уехать – пара пустяков. Стоит только проголосовать. Если же с транспортом будет туго – можно дойти до другого поселка, это недалеко. Там он все равно найдет попутную машину и уедет, куда надо.
1
Скорый пассажирский поезд № 90 Москва – Нижний Тагил миновал станцию Всесвятская. Скоро Багул. Привычный, обычный рейс. В нем нет ничего нового, и ничего не меняется для машинистов и их помощников. Только времена года. Но ведь перегоны одни и те же, и тот же путь впереди. Он не зависит ни от зимы, ни от лета. Конечно, что говорить, летом водителям составов легче: столько светлого времени! Когда светло – и дальше видно, и не так сказывается усталость.
А тот рейс пришелся как раз на начало июля – макушки лета. И без двадцати минут четыре по местному времени солнце хоть еще и не встало, но чувствовалась уже близость его где-то за горизонтом, и серебром отливали уносящиеся вдаль рельсы-ниточки. Лишь только электровоз вышел из поворота на прямую перед отметкой «167-й километр», машинист Николай Григорьевич Игошин увидел, что метрах в семидесяти впереди блестящий луч рельса затемнен – там что– то лежало. Острый глаз машиниста различил набросанную сверху на путь траву. Он встал с сиденья. Что такое?! И сразу стало видно: стыки не совпадают! Один рельс отведен в сторону. «Ви-ди-ишь?!..» – закричал слева помощник Замотаев. Рука сама включила экстренное торможение, их бросило вперед, на панели. «Все... конец!» – подумал Игошин. Ясно было, что тормозного пути недостаточно, чтобы остановился такой большой состав, и крушение неизбежно. Так и случилось: вой и скрежет под электровозом внезапно оборвались, он сошел с рельсов и, увлекая за собой вагоны, потащился по земле, рядом с путями. Сбил опору контактной сети, столб линии связи, но колеса врезались в торфяную почву на обочине, поэтому вагоны не свалились набок, увязнув, – как шли, так и остановились.
И настала тишина. Замотаев с разбитым лбом сидел в кабине, закрыв лицо ладонями. Игошин открыл дверь, взялся за поручень, но сойти не мог – сел на пол, свесив наружу ноги. Как тихо! С обеих сторон – лес. Как стоял, так и стоит. Словно ничего не случилось. Впереди – поворот. И за ним тоже лес. Чистое летнее небо над головой. И рядом с железнодорожными путями – электровоз, вагоны. Что случилось? И почему так тихо? Чувство боли, вины, бессилия... Игошину пришло вдруг в голову, что тишины совсем нет, просто он оглох от ужасающего визга тормозных колодок, колес...
2
«Осмотр места происшествия позволяет сделать вывод о том, что повреждение железнодорожного пути произошло умышленно: расшит и разболчен стык левой нитки пути при входе в кривую, где на него оказывает наибольшее воздействие сила динамического удара, на участке с ограниченной видимостью, вследствие чего крушение было неизбежно...
...Производство предварительного расследования по данному уголовному делу поручить следователям управления Комитета государственной безопасности по Пермской области.
Начальник следственного отделения УКГБпри СМ СССР по Пермской области».
Старший следователь майор Павел Иванович Розанов[10]10
Поскольку очерк посвящен конкретному человеку, автор приносит извинения тем сотрудникам, также принимавшим участие в расследовании крушения пассажирского поезда летом 1964 года, чья деятельность не нашла должного отражения в данной публикации.
[Закрыть] прибыл на место крушения утром, вместе с оперативными работниками управления. Приехала домой машина, пять минут на одевание и прочие сборы, и – на вокзал. Там уже ждала специальная дрезина.
Лишь только их «лимузин» вывернул из-за поворота, как видны сразу стали и сошедшие с рельсов электровоз с вагонами, и расползшиеся по кустам или бродящие вдоль полотна пассажиры. Одеты они были легко, по-летнему, и одежда их, особенно цветные платья женщин, яркими пятнами выделялась на зеленом фоне.
Вновь прибывших встретили сотрудники Чусовского подразделения УКГБ, раньше всех появившиеся здесь.
– Жертвы есть? – спросил Розанов.
– Да нет, все обошлось, на счастье, сравнительно благополучно. Со слов наших врачей и медработников-пассажиров, первичные данные таковы: у одной пятнадцатилетней девочки рваная рана в верхней части бедра; есть ссадины, ушибленные раны уха, лба, гематомы в области глаз, ушибы, у двоих – нервное потрясение. Но ведь это просто везение, что поезд в торф впахался, да откосов здесь нет, а то таких бед могло натворить-наворотить, что и представить невозможно...
– А собаку пускали?
– Да, привозили. Но след она не взяла: народ сразу высыпал из вагонов, стали ходить, истоптали все кругом. Обещали доставить из Перми чуткого, хорошего пса – вот, ждем...
– Я думаю, теперь уж напрасно его ждать...
И оказался прав: приехал с собакой старшина-проводник, пес порыскал по траве и кустам, скуля и дрожа от возбуждения, порычал на пассажиров, к которым приводили его запахи, – тем дело и кончилось. Проводник объяснил, смущенно покашливая:
– Что здесь можно сделать, товарищ майор! Столько запахов – разве он различит один старый, когда много новых. Тем более что трава, по которой ходил преступник, давно высохла уже...
Внимательнейшим образом, сантиметр за сантиметром, оперативно-следственная группа принялась осматривать местность возле железнодорожного полотна и в окрестности. Так «прочесали» ее несколько раз.
Результаты не замедлили сказаться: найдены были торцовый гаечный ключ, «пучинный» костыль, довольно тонкий, согнутый на концах металлический прут, длиной около девяноста сантиметров, и обрывок какой-то газеты. Имели ли они отношение к преступлению? Гаечный ключ и костыль можно было использовать для откручивания гаек на стыках. А вот прут – его происхождение предстояло выяснить. Павел Иванович взял его и отправился к восстанавливающей пути бригаде.
– Вы, товарищи, не скажете, откуда может быть такая штука? Железнодорожники не пользуются ими? Как путевым инструментом, я имею в виду?
Бригадир внимательно осмотрел прут и сказал:
– Нет, у нас, в путевом хозяйстве, таких не встречается. А вы откуда ее взяли?
Розанов замялся. Путеец пришел ему на помощь:
– Видите, в чем дело: на этой ветке разных железок можно найти много. По ней идут в Нижний Тагил поезда с металлоломом – бывает, что и оттуда падают.
До позднего вечера, пока не стало темнеть, пока не подошел из Тагила другой электровоз и не утащил поезд с людьми по отремонтированному пути, следователи и оперативные работники осматривали местность, беседовали с машинистами и пассажирами, осуществляли другие неотложные мероприятия. А уже затемно, в поселке Всесвятская, где им предстояло жить во время следствия, усталые, собрались на первое оперативное совещание. Версий, как всегда в нераскрытом преступлении, выдвинуто было предостаточно, все они фиксировались, и сразу намечалось, что нужно сделать по их отработке, назначались ответственные лица.
А мнений было столько, сколько людей.
– Это мог сделать местный житель.
– Человек, здесь не проживающий.
– Работник железной дороги.
– Не имеющий к ней никакого отношения.
– Одиночка.
– Нет, он был не один.
– Он должен выписывать газеты (сработал клочок, найденный на поляне близ полотна). Надо установить, что это за газета, и проверить выписывающих ее.
– А может, он купил ее в киоске «Союзпечати»?
– Выяснить бы принадлежность железного прута. Может быть, он имеет отношение к профессии преступника?
– Очертить круг экстремистски настроенных лиц и работать с ними.
– Одних настроений здесь мало, для такого преступления нужна еще и дерзость...
Словом, в предположениях и предложениях недостатка не было. Но как бы неожиданны, порою даже абсурдны, на первый взгляд, не были эти версии, ясно одно: все, все их придется отрабатывать. Ибо, пока не установлена истина по делу, нельзя сказать: нет, так быть не могло. Потому что каждый процесс поиска преступника включает в себя и известное противоречие: те, кто ищут, исходят из логики действий лица, попавшего в ту или иную ситуацию, совершившего то или иное деяние. Больше им не на что опираться, ведь главного – конкретного человека – перед ними нет, следовательно, нельзя и примерить логические ходы и выводы к психологии данной личности. А человеческая натура – она неисчерпаема, и самая точная логическая схема разбивается порою об непредсказуемое действие. Сошлитесь хорошему, бывалому детективу на опыт Шерлока Холмса, и он только посмеется над вами. «У него, – скажет он, – все было четко выверено: такой-то должен непременно поступить так-то, и никак иначе. Ну, а если бы он вдруг поступил не так? И посрамлен был бы великий ум. Потому что в жизни сплошь и рядом так и бывает».
Когда совещание наконец закончилось, Розанов долго еще не мог избавиться от возбуждения и уснуть. Конечно, все было верно, и главный вопрос, который стоит перед группой, это – кто? Но за ним маячит и другой, которого в суматохе первого дня следствие почти не коснулось: зачем?
Зачем?
Человек или группа людей, подготовившая крушение, не могли не предвидеть последствия своих действий. Преступление очень тяжкое. Это кем же надо быть, чтобы на него решиться?
Нет, не торопись. Ведь было же раньше у тебя дело по станции Шамары. Там тоже оказались разобранными пути перед проходом пассажирского поезда. Разъем стыков заметил бригадир обходчиков и поднял тревогу. Авария была предотвращена. Вот что было на поверхности. А что оказалось на самом деле, что установило следствие? Оказалось, бригадир этот давно пил мертвецки, его наказывали, наказывали и однажды сказали: надоело твое поведение, учти, работаешь до последнего замечания. Он и обиделся, и испугался. Вечером, на обходе, разобрал путь и поднял тревогу, чтобы показать начальству: глядите, дескать, какого нужного, бдительного человека можете потерять, если станете относиться к нему неуважительно! Павел Иванович, установив суть случившегося, закончил дело и передал в суд, избрав в качестве меры пресечения подписку о невыезде. А через малое время узнал о смерти бригадира: тот, возвращаясь ночью пьяный домой по путям, не услыхал гудка идущего сзади поезда и погиб под его колесами. Говорили тогда в поселке и на работе, что это он сам покончил с собой таким образом – да поди проверь теперь... Сколь сложен бывает в поступках самый, казалось бы, заурядный человек – Павел Иванович знал... Но там и здесь – разве можно сравнить? Ведь бригадир точно знал, разбирая путь, что крушения не будет, он остановит поезд. А этот или эти – предвидели, что будет катастрофа с человеческими жертвами, и были каким-то образом заинтересованы в ней.
3
Люди прибывали и прибывали, оперативно-следственная группа пополнялась новыми, лучшими сотрудниками управления. В нее вошли и несколько товарищей из Москвы. Жили в пассажирском купейном вагоне, специально поставленном на станции. Работы хватало всем, и люди не считались со временем. Шли сигналы от местных жителей, работников станции о подозрительных чем-либо людях, которых приходилось им видеть на Всесвятской и в ее окрестности. Много поступало информации, ее надо было проверять. Одна девочка, например, у которой отец пил, избивал ее с матерью, так и говорила всем, детям и взрослым: «Это мой папка сделал». Проверили и убедились: никоим образом этот человек к крушению не причастен...
Устанавливали свалки металлолома, с которых мог попасть на место происшествия железный прут. Ближайшая находилась в Чусовом, на металлургическом заводе. Павел Иванович поехал туда сам. Ходил, лазил по ее горам, беседовал с рабочими – и вернулся, усталый, на станцию, в свой вагон. Хмуро сказал товарищам, что не нашел ничего похожего.
– Вы продолжайте заниматься этой работой, – предложил сотрудник центральной аппарата КГБ Василий Петрович, – а я съезжу с прутом в Москву. Надо предъявить его в проектно-технических учреждениях, может быть, и удастся узнать, что это такое.
Он уехал, а Розанов продолжал свою работу. Ездил на металлургические заводы в Лысьву, Пермь, Старую Пашию. Самой последней была запланирована поездка в Нижний Тагил. Вот там-то на свалке и нашел следователь еще несколько таких же прутьев. Обрадовался, кинулся к работникам Вторчермета: «Вы не скажете, откуда они могли сюда попасть?»
Ответ был неутешительным:
– Да кто же это вам скажет! Здесь намешано лома со всей страны – а нам, сами понимаете, разбираться и сортировать его нет резона: все равно в печь уйдет! Сами уж разбирайтесь, что откуда...
А на Всесвятской ждала телеграмма от Василия Петровича: «Установлено, что прут представляет собой веретено ткацкого фабричного производства».
4
Майор Павел Иванович Розанов слыл в управлении вдумчивым, осторожным работником. «Спешить не стоит, – говорил он. – Прежде чем сделать – подумай: верно ли? Кто больше думает – дольше живет». Такая убежденность была у него еще с войны, с тех времен, когда он, юный лейтенант-сапер, двигался со своей отдельной минно-инженерной бригадой следом за передовыми частями и обезвреживал оставленные фашистами мины, бомбовые и снарядные склады. Там смерть ходила по пятам и караулила ежеминутно. Зазевался или сделал неверное движение – пропал, все. Нужна четкая, взвешенная, холодная осторожность. Как-то допустил оплошность, подорвался неподалеку солдат – Павел Иванович до сих пор этот случай помнит. Будь осторожен, внимателен, этому же учи и подчиненных! В военных условиях счет ведь очень жесткий.
А еще пуще учила осторожности послевоенная Белоруссия, где он уже сотрудником госбезопасности боролся с бандитизмом, с терроризировавшими целые селения бывшими карателями, полицаями и другими пособниками гитлеровцев. Это была война, по накалу мало отличавшаяся от той, что недавно кончилась! И остались там могилки друзей и сослуживцев Розанова – та война тоже брала свое, как и всякая другая, косила свою жатву... Времена действительно были крайне тяжелыми, не только из-за постоянной угрозы нападения или пули из-за угла, но и нежелания части жителей помогать органам Советской власти. Что ж, надо было делать поправку на исторические условия: ведь раньше районы Западной Белоруссии находились под пятой панской Польши. Конечно, были среди местных жителей и сочувствующие. Иной – видишь – искренне сочувствует, а оказать конкретную помощь в ликвидации банды или поимке бывшего карателя наотрез отказывается. И что делать, приходится относиться с пониманием, ты уйдешь – а ему здесь жить. Ты уедешь – а к нему могут тут же нагрянуть: «Ну-ка рассказывай, о чем гутарил с чекистами?» И чуть только заподозрят неискренность – в слове, взгляде ли – конец человеку. Убьют тут же. Вот такая была обстановка. Сколько работы без сна и отдыха, прежде чем наступит перелом в сознании населения.
...Итак, прут опознан, установлено, откуда эта деталь. Можно предположить также, что он сброшен с вагона с металлоломом, идущего в Нижний Тагил. Но что это дает? Человек мог подобрать его в любом месте. Есть список фабрик, где он мог использоваться, откуда мог попасть в эти края. Ну узнаем, допустим, фабрику. Что толку от этих сведений, если они не могут вывести на преступника?
5
На одном из совещаний начальник оперативно-следственной группы Борис Александрович Васильев сказал:
– Давайте обсудим создавшееся положение. У кого есть какие мысли?
– Мысли... – послышался голос. – Есть же план, вот по нему и надо дальше трудиться. А вообще – пока глухо, как в танке...
– С пессимизмом будем кончать! – сурово сказал Васильев. – Он – плохое нам подспорье. Нужна работа, нужен результат. Да и как иначе? Ведь преступник на свободе. Мы не знаем его замыслов, не знаем, на что он способен. А если так – каждую минуту можно ждать нового преступления. Продолжаем совещание. Прошу проникнуться сознанием лежащей на нас ответственности. И – без общих фраз. Давайте конкретные предложения.
– Чтобы их вырабатывать, нужна конкретная информация. А где она? Есть, конечно... Вроде показаний тех доярок с фермы: да, видели в пятом часу утра, как вдалеке по пригорку проходил человек. Ну и что? Кто это был – преступник, случайный мужичок? Насчет опознания, в случае чего, – речи быть не может, слишком далеко находился. Тоже холостой выстрел...
Тут встал заместитель Васильева, Зосима Иванович Будилов:
– Если говорить о конкретном – надо, я думаю, продолжать работу с прутом. Ведь это вещь, улика. Вдруг кто-нибудь видел человека с таким предметом? Ведь его размер и форма позволяют предполагать, что им пользовались в качестве обыкновенной трости. А такое бросается в глаза. Давайте пойдем в люди, в коллективы, будем его показывать. Второе: костыльная лапа. На месте происшествия мы ее не обнаружили – а между тем без нее костыль из шпалы не выдернешь. Значит, она была у преступника или у преступной группы и унесена с собой. Все лапы на железной дороге считаются инструментом строгого учета. Надо провести по околотку их проверку и инвентаризацию.
И работники УКГБ пошли с прутом по конторам, бригадам, участкам Всесвятской, Половинки, Скального, других окрестных селений. Зашли и во Всесвятскую начальную школу, в надежде: ребятишки народ любопытный, вездесущий, вдруг кто-нибудь что-нибудь видел? И вот в третьем классе девчушка Таня Токарева крикнула из-за парты:
– Да у нас дома таких железяк навалом лежит!
– Прямо навалом?
– Ага, полно!
– Ну-ну... Где, говоришь, ты живешь-то?
По указанному адресу жили братья Токаревы, известные в поселке пьяницы и дебоширы. Они уже фигурировали в материалах дела как личности дерзкие, недовольные порядками. Оба Токаревы, Петр и Николай, работали в леспромхозе, были судимы за хулиганство. Но конкретных материалов, свидетельствующих о том, что они причастны к крушению, не было. А теперь? Из школы оперативные работники, разговаривавшие с Таней, отправились к следователю. Павел Иванович выслушал их, подумал и сказал:
– Надо идти к этим Токаревым, разбираться. Вопрос серьезный. Я думаю, у нас даже есть основания на производство обыска. Ведь по данным дела, Токаревы в ту ночь не ночевали дома. Сами они говорят, что были на рыбалке, – а подтвердить, что они были именно там, никто больше не может. Надо идти...
Дверь токаревского дома открыла угрюмоватая старуха – судя по всему, их мать,
– Здравствуйте. Вы ведь Анна Михайловна, верно? А я майор Розанов, следователь госбезопасности. Сыновья ваши дома?
– Нету, на работе оба... Вы по какому делу-то?
– Вот посмотрите на этот прут. Ваша внучка Таня сказала, что видела такие в доме. Что вы можете сказать по этому поводу?
– Ну-ко дайте, огляжу. Нет... вроде не встречалось таких... Не знаю, не знаю.
– А сама Таня где?
– Шут знает, прибежала из школы да опять усвистала куда-то.
– Значит, не видели... Ну что ж, в таком случае, Анна Михайловна, мы обязаны будем осмотреть ваш дом. Вот постановление на обыск, ознакомьтесь.
– Ищите, мне-то что... Я ведь все не знаю. Может, где-нибудь и валяются.
Но, сколько ни искали следователь с оперативными работниками, – так и не нашли чего-нибудь похожего на то, что в документах значилось теперь как «веретено от початочной машины». Зато обнаружили стальной, обоюдоострый, кинжального типа нож, самодельного изготовления.
– Разве ваши сыновья не знают, – спросил Павел Иванович, заполняя протокол, – что за изготовление и хранение холодного оружия предусмотрена уголовная ответственность? Плохо вы за ними смотрите, Анна Михайловна.
– Усмотришь за имя, за варнаками! Четвертый десяток обоим, а хоть кол на башках теши, что одному, что другому, одно озорство на уме! Ох, эко дело, вот беда-то где! Ну, вот и Танька явилась. Иди давай сюда, сказывай, где ты экую штуку у нас видела?
– А в ограде, – девочка выбежала и через мгновение явилась с пучком велосипедных спиц. – Я про них говорила.
– С ума сошла! – зашипела бабка. – Да ведь они нисколь даже не похожи. Ох, что же ты наделала, неслух поганой! Болтушка! Нашто дяденькам неправду сказала?
– А я их, бауш, обмануть хотела!
– У, воробьиный твой ум!..
– Ну что, – сказал Розанов товарищам. – Наша работа тут кончена, пускай с этим ножом милиция разбирается.
6
После этого Павел Иванович занялся инвентаризацией костыльных лап в путевом хозяйстве. И тут не было пропаж – все лапы оказывались на местах, при деле.
А пока он метался по околотку, во Всесвятской происходили такие события.
Через несколько дней после обыска к вагону опергруппы пришла мать братьев Токаревых и попросила вызвать ей какого-нибудь начальника. Вышел оперативный работник – из тех, кто присутствовал при обыске.
– А, Анна Михайловна! Здравствуйте. Вы к нам? По какому делу?
– Здрастуешь, голубок. Дак вахламонов-то моих забрали! Уж третьи сутки нонче пойдут, как сидят. Ну-ко скажи мне, чего они натворили? Неуж за нож тот проклятой?
– Конечно. Мы же сказали вам, что это противозаконное действие.
– Ты мне-ка не ври! – старуха затрясла кулаком. – Оне, Колька-то с Петькой, хоть и варнаки, а сыны мне, я их люблю. Дак вот что: вы зачем тогда в наш дом приходили? Зачем все перешуродили? Не нож ведь искали, верно?
– Верно. Мы же сказали тогда: ищем железный прут.
– А зачем искали? От меня ничего не скроешь, у нас здесь всё знают! Вы тут пытаете, кто летось поезд с рельсов свел?
– Ну, допустим.
– И на моих ребят подумали. Оне у меня, правда, пьяницы, драчуны, матькуны – но чтобы уж такое-то душегубство затеять – это не подумайте. Я ведь их знаю. Иди-ко сюды! – Токарева махнула рукой, подзывая. Наклонилась к уху офицера:
– С экой-то железякой мой племянник, слышь, ходил. Он в те времена, как поезду-то нарушиться, на станции появлялся. И ко мне заходил, посидел немного. Днем, ребята на работе были. «Ты что, – спрашиваю, – Сано, с подпоркой ходишь?» – «Да, тета Аня, ногу подвернул». Он к Кате Волковой тогда заходил, к Токаревой Шуре. Я ее сейчас в магазине видела, Шуру-то. «Эко дело, – говорю, – обыск у нас делали, ребят забрали, бадог какой-то железный ищут». – «Я слышала. Дак не тот ли, Аня, бадог-от, с каким Сано ходил?» Тут я и вспомнила про него.
– Как, говорите, фамилия у него, у племянника-то?
– А Штейников. Сано Штейников.
7
Но – продолжим рассказ о нашем герое, Павле Ивановиче Розанове. Родился он в далекой деревушке на Вологодчине, в крестьянской семье, окончил в райцентре школу-десятилетку. Выпускной бал пришелся как раз на 22 июня 1941 года, после – война, служба в саперных частях, в органах госбезопасности. В 1949 году его направили из Белоруссии в Москву, в школу следственных работников, а после нее в центральный аппарат КГБ СССР. Но работа там не устраивала Розанова, хотелось большей самостоятельности, и он запросился на периферию. Добился перевода в Пермь. Здесь к нему приглядывались какое-то время, однако оценив его знания, подготовку, дотошность и добросовестность, утвердили в должности следователя управления.
В то время на территории области осело изрядное количество бежавших из мест, где они совершали преступления, и осевших по дальним городкам, глухим лесным поселкам, на шахтах и нефтепромыслах бывших полицаев, иных немецких пособников, карателей, власовцев. Следствие по делам этих лиц вели органы госбезопасности областей, где вершились некогда их злодеяния, и роль Розанова в этих делах была сравнительно невелика: предварительные допросы задержанных, иные первоначальные следственные действия. И самостоятельных дел поначалу было немного – больше помощь другим, более опытным работникам. Свои дела пошли потом, когда появились умение, квалификация, когда он уже крепко встал на ноги как знаток и практик следственного дела. Приходилось расследовать и аварии в шахтах, и железнодорожные происшествия – много, много разных случаев, входящих, что называется, «в орбиту» следователя госбезопасности.
8
Когда в опергруппе всплыла вдруг и начала «раскручиваться» личность Штейникова, сам Штейников Александр Иванович, 34 лет, образование 6 классов, без определенного места жительства и работы, отбывал уже срок наказания за кражу личного имущества. Это была у него третья судимость, и получил он по ней пять лет.
Из показаний Петра Токарева:
«Штейников – мой двоюродный брат, его теперь третий раз посадили за кражу. А еще когда он первый раз освободился из заключения, то приехал к нам, мы его встретили по-родственному, купили вина. Когда он выпил, то стал говорить на блатном языке, называть себя «уркой», вроде как хвастался, что он теперь «в законе», и предлагал мне стать у него «шестеркой», то есть прислуживать ему и помогать в воровских делах. А я никогда в жизни не воровал, только задиристый по характеру, и, возмутившись таким предложением, стал его тут же бить, и после он подобных разговоров не заводил.
Второй раз он осужден был тоже за кражу, наказание отбывал неподалеку, но заходил ли к нам после освобождения, не знаю, так как сам в это время отбывал срок за драку. Перед крушением поезда я его не встречал, мы тогда с братом исключительно занимались рыбалкой и пьянством...»








