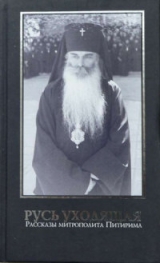
Текст книги "Русь уходящая: Рассказы митрополита Питирима"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
3. Об иконе
Лекции Владыки об иконописи и церковном пении также перемежались личными воспоминаниями…
Образность всегда сопутствует человеческому знанию. Поэтому с древнейших времен человек воплощал свои идеи, мысли, чувства в конкретных образах. Это такой же язык, как язык словесный. Совершенство достигалось постепенно – от древних начертаний на камне до высокой степени развития искусства. Мы изображаем или фотографируем предмет не для того, чтобы заменить реальность картинкой, а чтобы напомнить себе о том, что мы пережили. Помимо реалистического изображения действительности существуют и символы. Это видимые знаки, предназначенные для того, чтобы возбудить в душе новое переживание. Конечно, высокое духовное сознание, к примеру, египетских подвижников, которые рядом с собой ничего не имели кроме пещеры и полуистлевшего рубища на теле, не нуждалось в видимых образах. Но мы украшаем свое жилище и портретами близких людей, и изображениями пейзажей, потому что они поддерживают в нас то или иное чувство. Постепенно это чувство переносится на предмет. Только самый отъявленный, бессовестный человек может порвать портрет своей матери. Локон любимой девушки рыцари, да и просто солдаты уносили с собой на войну. Предмет, который нам дорог, мы окружаем почитанием, благоговением. Точно так же и с иконами. Икона – это не объект поклонения, это только видимый знак присутствия Бога и святых, «контактный» предмет. Кумир, в отличие от иконы, – это то, что подменяет сам объект поклонения.
Что такое икона? Это видимый образ, который одаренной рукой живописца перенесен на сырую штукатурку, <367> камень, дерево, полотно или бумагу. У поэта Надсона есть такие строки:
Но кто поймет, что не пустые звуки
Звучат в стихе неопытном моем,
Но каждый стих – дитя душевной муки,
Рожденное в раздумье роковом.
Икона – это тоже дитя душевных переживаний; художник вкладывает их в черты и линии. Икона скупа в изобразительных средствах. Ее тона – близкие, сочетающиеся по цвету. Пестрая икона – свидетельство некоей духовной деградации. В фильме Тарковского «Андрей Рублев» [156]156
Помню, когда этот фильм только появился, меня пригласили на просмотр, а я тогда лежал больной и не мог подняться, поэтому билет свой отдал сестре Ольге Владимировне. Она вернулась с просмотра в ужасе от количества в фильме жестоких, кровавых сцен, а я полного варианта так и не видел.
[Закрыть] есть очень точные слова, которые какой–то монах говорит, глядя на икону Феофана Грека: «Красота без пестроты». Кстати, моя личная выдумка, за которую кто–то, быть может, меня осудит, что наиболее близкий к иконописи вид изображения – это кинематограф. Действительно, кинематограф дает общий план, потом высвечивает лицо артиста или какую–то отдельную деталь. Иконопись применяла этот прием с незапамятных времен: чем важнее событие, тем крупнее изображение.
Помимо всего прочего, для верующего человека икона приобретает значение потому, что вокруг нее сосредоточивается его собственная душа. Существовали иконы мерные: когда рождался ребенок в семье, заказывалась икона его святого ровно в рост младенца. Я знаю людей совсем даже не религиозных, которые говорят: «А мы сохраняем икону нашей бабушки!»; «А мне досталась икона, с которой прадед был на войне!» В храме Илии Обыденного у Пречистенских <368> ворот есть икона, которую носил на груди генерал Бенигсен во время Бородинского сражения. Икона как бы вбирает в себя молитвы и чувства людей.
В домовой церкви Патриарха хранилась икона Спасителя, очень интересного письма: размытые краски и только очень объемно и глубоко выписаны глаза. Я, будучи юношей, заинтересовался и спросил о ней у Патриарха (это была его личная икона). Он, улыбнувшись, сказал: «Это особая икона». Оказалось, ранее она принадлежала преподобному Серафиму Вырицкому. Он одно время жил на окраине Ленинграда, и к нему с другого конца города приходил его друг, старичок–священник, преодолевая трудности передвижения в довоенном или даже военном Ленинграде. Этот старичок приезжал к своему другу, и они молча сидели перед этой иконой. А потом гость благодарил за приятную беседу и уходил пешком или добирался, каким мог, транспортом, к себе на другую окраину.
Я помню, жена генерала Игнатьева, женщина оригинальная, говорила: «Вот поэтому деревянных икон чудотворных гораздо больше, чем каменных: потому что дерево – пористое, наши молитвы в него проникают и так аккумулируются». Она не была богословом, но выразила это явление образно. Действительно, в иконе собирается информация. Сила Божия может, конечно, передаваться через разные каналы, можно просто сосредоточиться и получить от Бога знак «контакта», но все–таки больше этот контакт осуществляется в церкви. Перед иконой мы входим в себя, сосредоточиваемся, – она нам помогает, – если хотите, как хромому – костыли, или корсет – человеку с поврежденным позвоночником.
В икону, как говорят люди веры, нужно «ходить». Настоящую икону можно рассматривать часами. Не так давно побывал я в Ярославле. Там была экспозиция нескольких десятков икон Страшного Суда. Художники разных времен – до XVII в., и разных областей: ярославские, тверские, архангелогородские. Посмотрев эти иконы, я подумал: только ради того, чтобы взглянуть на несколько этих шедевров, можно пересечь океан!
<369> Постепенно уходя в содержание иконы, человек начинает и на свою жизнь смотреть глазами тех, кто изображен на ней. Не только мы смотрим на икону, но и икона смотрит на нас. Эта мысль была ключевой в замечательной работе академика Бориса Викторовича Раушенбаха [157]157
Раушенбах был очень интересный человек: по происхождению прибалтийский немец, по вероисповеданию родителей – лютеранин, по личному признанию, пожалуй, более склонный к кальвинизму, он, тем не менее, был истовым прихожанином Николо–Кузнецкой церкви, где его и отпевали. Это был великолепный математик–богослов. Он рассчитывал траектории движения тел вне пределов земного притяжения, первым рассчитал траекторию спутника Земли, был ближайшим сотрудником Королева. При этом жизнь его была совсем не мед. Его признали только в последние двадцать лет его жизни. Жил он в Москве, поступил на физтех, но потом, когда началась война и немцы были интернированы, его как немца по происхождению выслали в ссылку, а потом он попал в трудармию. По существу, это был тот же концлагерь с режимом, за полярным кругом, на лесозаготовках. Он страдал от цинги и прочих лагерных заболеваний, но круг людей, которые там оказались, был очень интересный – это были ученые, мыслители. Они и между лесоповалом находили досуг поговорить о глубоком и сокровенном. Безвременная кончина Раушенбаха была, конечно, страшной потерей для наших мыслящих церковных и светских кругов.
[Закрыть] об иконе и обратной перспективе. Она была высказана уже тысячу лет назад, но он сформулировал законы того, как это происходит. В другой работе он приблизил пониманию современного человека догмат Троицы.
Какая мысль, какая идея заложена в икону? Икона – это окно в неземной мир, ведущий безмолвный разговор с человеческой душой, которая сосредоточена в молитве. Но это еще и разговор человека со своей совестью, которая у него веками воспитывалась на основе религиозного чувства и чувства собственной ответственности.
<370> Древняя византийская икона сурова и лаконична. У нашего преподобного Андрея Рублева мы тоже видим лаконичные рисунок и композицию, строгий, но вместе с тем мягкий взгляд с иконы, очень скупой декор. У Дионисия уже начинает срабатывать наша русская мягкость, появляются живые мимика и позы. Затем постепенно мельчает, дробится восприятие человеком духовного мира, дробное украшательство проникает и в живопись. Симон Ушаков насыщает иконы орнаментикой, красками. Это тоже высокое мастерство, но лаконичность, серьезность образа начинает понемногу размываться. В конце концов икона попадает под влияние искусства западного и мы имеем иконы, носящие в себе черты портрета.
Когда перед вами очень красивая икона – ею можно любоваться. А древнее правило гласит: на икону не засматривайся. Стой перед ней, но взглядом и мыслью не блуждай. В то же время преподобный Серафим говорил – если, конечно, собеседник был подготовленный: «Не смотрите на икону. Сосредоточьтесь, можете смотреть на свечу, а еще лучше – в пол».
Иконопись – это сложный процесс, включающий в себя не только работу художника. Прежде всего, надо выбрать дерево. На Востоке пишут на кипарисе. Кипарис по твердости приближается к камню, – очень тяжелое, вечное дерево. Мы пишем на липе – это дерево мягкое, теплое, хорошо поддающееся обработке. Не всегда можно найти доску нужной ширины, поэтому их склеивают и скрепляют шпонками. По шпонкам можно судить, какая икона какого времени, шпонка может быть рисунчатая или гладкая. На самой доске «выбирается» ковчег, то есть маленькое углубление. Когда дерево обработано, – а его долго выдерживают, сушат без доступа солнечных лучей, сквозняков, чтобы не было никаких трещин, – тогда на него рыбьим клеем наклеивают паволоку, то есть грубое льняное рядно, и по этой паволоке кладут левкас: истолченный мелко–мелко, до пыли, как зубной порошок или того мельче, мел, смешанный с разными составами, в основе которых лежит тот же рыбий клей. Этот <371> левкас наносится, долго высыхает, а потом его полируют костью. И поверхность получается, как кость – гладкая, белая, чуть желтоватая. Рисунок наносится сначала на лист бумаги, прокалывается иголкой, а потом лист накладывается на левкас и сверху присыпается толченым древесным углем. Потом уголь сдувают, лист снимают и остается тонкий–тонкий рисунок точками – так называемый припорох. Иногда по нему сразу пишут красками, чаще накладывают золотое покрытие. Золото может быть чистым, гладким, а может быть чеканенным, т. е. по нему идет чеканный рисунок. Пишут икону особыми красками. Иконописные краски – это растертые до состояния мелкой пыли минералы, полудрагоценные камни, которые замешиваются на яичном желтке. А потом икону поливают оливковым маслом, определенно сваренным, – олифой, и оставляют на месяц, на два, чтобы олифа «стала» и больше не прилипала к пальцам. Когда получится идеально–гладкая поверхность, икона поступает к заказчику.
По «спецзаказу» делают оклады и ризы. Ризы закрывают всю икону, оставляя только лик и руки. В XIX веке пошла манера рыночного производства икон. Делали шикарный оклад, а под него кое–как прописывали фигуру, а тщательно выписывали только лик и руки. А иной раз бывало и так: чиста доска, на которой только лик и руки, а сверху прихлопнуто богато украшенной ризой. Оклад в отличие от ризы, не закрывает икону, а только обрамляет ее.
Ювелирное искусство украшения окладов и риз – это такая сказка, которой можно только удивляться. Был в Москве такой Федор Яковлевич Мишуков – знаменитый художник–ювелир и реставратор. Мы с ним были друзья – если можно так сказать, поскольку он был лет на пятьдесят старше меня. Оказавшись впервые у него дома, я увидел икону в окладе удивительной работы. На нем были незабудки в натуральную величину, с пестиками. Сами цветки из серебра, покрытого голубой эмалью, а пестики из золота. «Как же можно сделать такой оклад?» – спросил я. – «Это можно сделать только раз в жизни и только для себя», – ответил он. В Историческом музее у него был отдельный <372> стенд с инструментами. Когда мы с ним приходили в музей, старейшие хранители сбегались, чтобы просто поклониться ему издали. Он преподавал в Строгановском училище ювелирное дело, у него были ученики. Внешне это был очень скромный, маленький, сухонький старичок, похожий на Николая Угодника. Помню великолепный эпизод. В Оружейной палате делали выставку посуды XVIII в. Пригласили и его, как знатока. «Ну как, Федор Яковлевич?» – «Хорошо, хорошо, очень хорошо! Только странно как–то: сосуд XVIII века, а автор–то жив!» – «Как так?!» – «А вот так!» Вызывают коменданта, снимают пломбу, открывают витрину. Федор Яковлевич берет сосуд в руки: «Да, это я делал. К 300–летию дома Романовых», – и показывает клеймо. Смотрят – действительно: ФЯМ.
И сейчас есть мастера, следующие старой традиции. Помню, еще давно пришел ко мне на Погодинку молодой человек, художник–ювелир, показал несколько своих работ и сказал, что хочет делать вещи для Церкви. Я его раскритиковал в пух и прах. Он ушел и больше не появлялся. А несколько лет спустя дарит мне митрополит Филарет Минский панагию с изображением нашей чудотворной иконы «Взыскание погибших». Если не догадываться, что вещь заказана недавно – никогда не скажешь, что современная работа. Спрашиваю, откуда. А он называет фамилию того самого художника. Видно, прислушался к тому, что я ему говорил, урок пошел впрок.
История русской иконописи – это беспрерывный процесс творчества и уничтожения. Наша национальная трагедия в том, что Россия была деревянной страной. В огне пожарищ гибли терема и храмы, гибли в них и бесценные иконы.
Есть замечательные стихи нашего почти современного поэта Максимилиана Волошина – о Владимирской иконе Божией Матери:
Не на троне – на Ее руке,
Левой ручкой обнимая шею,
<373> Взор во взор, щекой припав к щеке,
Неотступно требует… Немею Нет ни сил ни слов на языке…
А Она в тревоге и печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где закат пожарами повит…
Ряд преступлений над русской культурой совершила императрица Екатерина, – например, когда иконостас Владимирского собора заменила на модный в то время барочный. Живопись Андрея Рублева была почти уничтожена, кроме небольших кусочков в простенках. Так что уничтожение икон в революцию, это, к сожалению, не первый и не единственный случай в нашей культуре.
Мне приходилось встречать пожилых людей – высоких нравственных качеств! – которые с раскаянием вспоминали: «Что же мы делали тогда – в 20–е – 30–е гг.?! Что же мы делали?!! Мы отнимали у старушек иконы, рубили их топором и сжигали!» Это был какой–то страшный надлом души, безумие, охватившее тогда наш народ. Когда мы начинали нашу церковную работу, мы постоянно встречались с таким явлением, когда, к примеру, в деревне замечали дверь несколько необычной конструкции, и оказывалось, что это древняя икона, повернутая изображением внутрь, а шпонками – наружу. Древняя икона, может быть, XVII века! Или из храма выносили большую икону. По–хозяйски подходили: ну, куда ее? – А вот, на скотный двор, ворота сделать. Две большие иконы – как раз хорошие ворота, корова пройдет. Сам я видел: благочестивая женщина, очень хорошая, прикрывает крынки с молоком дощечкой. Очень удобно: плоская дощечка, чистенькая такая. «А что это?» – «Икона».
И это было общепринятое в массе явление! Во многих домах, правда, икону хранили где–нибудь в шкафу: на переднем плане – хрусталь, бутылки с вином, тут же – бутылки со святой водой, и где–нибудь на заднем плане – икона. Или в закрытом шкафу. Откроют, помолятся и закрывают снова.
<374> Конечно, в нашей церковной и научной среде икону ценили всегда. Но настоящий поворот начался, когда после войны в Германии вышла книга Конрада Онаша «Иконы». А потом и наш Солоухин появился. И тогда спохватились! Оказывается, икона – это величайшая ценность! С одной стороны отправлялись экспедиции московских, петербургских и других музейщиков спасать иконы из полуразрушенных домов в заброшенных деревнях. С другой стороны это явление перешло и в область криминала – начался грабеж, ажиотаж вокруг иконы. Малопрофессиональные охотники шарили в старых домах, где доживали свой век русские старообрядцы, оттуда мешками выносили иконы. Сейчас в любой лавчонке на Западе вы увидите русскую икону – она прямо–таки заполонила западный мир. Когда стал иссякать запас оригиналов, пустили в ход подделки.
Современные иконы, будучи в основном копиями, редко передают глубину оригинала. Конечно, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Сколько певцов подражало Шаляпину, а повторить его все равно никто не мог. Однако я знаю две великолепных, исключительно точных копии: Владимирскую Богоматерь из Новодевичьего монастыря и Троицу Рублева из иконостаса Троицкого собора лавры, выполненные одним из Чуриковых. Это была знаменитая династия художников–реставраторов. А вот Корин был представителем совсем иного направления: он был прежде всего оригинальный художник, а не копиист.
К сожалению, иконы, и вообще священные предметы, нередко воспринимаются только как материальная ценность. Приходит ко мне однажды – еще в советское время – человек, развязный такой, раскрепощенный. И предлагает мне серебряный потир. Я говорю: «Торговать–то такими вещами не полагается!» – «А, ничего! – говорит он. – Но как хотите. Я вот думаю: может, мне ее себе оставить, для интерьера. Пепельница из нее хорошая получится!» – Тут у меня уже, что называется, взыграло: «Знаешь, бери деньги и уходи!» Через некоторое время пришел ко мне следователь, стал выяснять, кто чашу продал, кто купил. « А ведь это не полагается!» – говорит. «Знаю. Но делал так, – говорю, – и <375> буду делать!» – «Дайте нам ее!» – «Не дам. Чаша церковная, я ее немытыми руками не беру». Ну, как быть? Прислали мне фотографа, сфотографировали ее во всех проекциях, но, Слава Богу, не отобрали. Когда иконы и церковную утварь приобретают «для интерьера» – это находится где–то между невежеством и кощунством.
4. О церковном пении
Музыка, как в свое время говорили – это родная сестра религии. Русская культура с древних времен отличалась некоей особой солидностью, основательностью. Русским людям импонировала сила. Не случайно России любимым героем был Илья Муромец, который кого угодно – Соловья–разбойника или Змея Горыныча – мог привести к послушанию. Эта особенность отразилась и в церковной архитектуре, и в музыке. Очень интересна наша национальная черта: до революции в Успенском соборе Кремля разрешалось служить только духовенству, обладающему басом. В хоре были и басы, причем ужасные, глубокие, profondo, и тенора, и дисканты (хор был только мужской, дискантом пели мальчики) – но дьякон или священник мог быть только с басом. Почему? Потому что с Господом Богом нужно говорить солидно. Существовала даже такое шутливое определение, что такое семинарист: «Семинарист – это существо, поющее басом». На Западе – напротив, преобладающий голос в церковном пении – тенор.
Был в Москве замечательный протодьякон Андрей Шеховцов. Я был знаком с его сыном, Виктором Андреевичем. В его время была даже присказка такая, что в Москве три чуда: царь–колокол, царь–пушка и протодьякон Андрюшка. У него был настолько могучий бас, что когда он говорил, рядом гасли лампады и могли даже лопнуть стекла от вибрации. Рассказывают, что одна из британских принцесс решила послушать его голос, а когда он вышел и произнес свой <376> первый возглас, упала в обморок. Это действительно был богатырь.
Целую школу последователей оставил архидьякон Розов. Патриарх рассказывал, как он зашел однажды к Розову – я не знаю, были ли они в дружеских отношениях, но, значит, зайти к нему запросто Патриарх мог. Так вот, он зашел – а тот читает Евангелие к службе следующего дня. Патриарх удивился: «Неужели вы с листа прочитать не можете?» – «Могу, конечно, – ответил Розов, – но это получится, как все читают», – и продемонстрировал, как. А потом сказал: «А вот как надо!» – и прочитал по–своему.
Записи, конечно, практически не могут передать всех особенностей его служения. Несовершенная техника скрадывала нюансы, а кроме того, не позволяла записать большой хор. Но можно представить, какое впечатление он производил в Успенском соборе или Храме Христа Спасителя: огромная фигура, копна роскошных, пышных волос и – наполняющий огромное помещение мощнейший голос…
Был спор, следует ли петь тихо или громко. Николай Васильевич Матвеев, регент церкви Всех скорбящих радости, говорил, что надо петь громко, как душа поет, «белым звуком», без обертонов. Но такое пение может быть доведено до абсурда. Пример тому – хор Пятницкого. [158]158
О нем по Москве ходил анекдот: некий старичок, интеллигентный, утонченный, в беседе с подобными себе эстетами вдруг говорит: «А я, знаете, очень люблю хор Пятницкого!» Все удивились: «Ну что вы, как можно!» – «Да–да, очень люблю! Как только его начинают передавать, все соседи выключают радио». – Это было время, когда у всех в домах стояли «тарелки», которые были постоянно включены на полную мощность и орали целыми днями.
[Закрыть]
Интерес к древнерусской музыке пробудился еще в конце XIX века. Первым был протоиерей Металлов, написавший работу по исследованию знаков нотации. Ведь пятилинейный нотный стан – это явление очень молодое, до этого по <377> тексту писали отдельные значки, которые имели очень интересные эмоциональные названия и показывали, как пропеть слог – торжественно или скромно, медленно или быстро, с акцентом или скользящим глиссандо. Наименование знаков говорит не столько о высоте звука, сколько о его характере: голубчик борзый, голубчик с заковыкой, стрела громозрачная, стрела громосветлая. Древняя нотация указывала направление голосоведения, а формой его был речитатив с протяжным произнесением гласных звуков. В нем передавалось внутреннее состояние переживаний человека: от высокого вдохновения и духовного веселья, до скорбных мотивов покаяния, но никогда не отчаяния. Плач о грехах выступает как одна из высоких степеней внутреннего духовного совершенства: это всегда печаль светлая, печаль, исполненная надежды. Древние напевы, как и текст, подготавливают человека к выходу в иную область бытия. Культура пения в России была высокой, потому что хоры, прежде всего, передавали текст – современные хоры его очень «мнут».
Церковная музыка пришла к нам из древней Финикии. Особый гармонический строй – диатонический лад был украшен в Византии мелодикой европейской и пришел к нам. Отличительная особенность древнерусского пения – спокойствие, самоуглубленность и преобладание акцентов на тексте. С конца XVII в. и особенно в XVIII в. к нам вторглось западное, возрожденческое, ренессансное пение. Наши замечательные композиторы и музыканты – такие как Бортнянский, Кастальский, Рахманинов усвоили его и сумели придать ему национальные черты. Сейчас в наших храмах преобладает полифония. Мы уже отвыкли от древнерусских напевов, хотя сейчас интерес к ним растет, и это радует: они создают внутреннюю гармонию души, – там, где музыка построена на авторских эмоциональных всплесках, на молитвенный лад настроиться очень трудно. Мы все находимся под постоянным воздействием внешней среды и нашего внутреннего дисгармонического состояния, которое рождается из несоответствия возможности и желания. Значение церковной музыки <378> определяется тем, насколько она соответствует чувству сосредоточенности, ответственности, внутреннего собирания человека.








