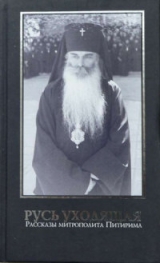
Текст книги "Русь уходящая: Рассказы митрополита Питирима"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
2. Увлечение фотографией
С искусством фотографии я впервые познакомился в 1935 году и «заболел» им на всю жизнь. Случилось это, когда брат, уезжая в командировку, заехал к нам на дачу и привез с собой фотоаппарат «Лейку». Я пришел в восторг. Первый мой кадр, однако, трудно было назвать удачей. Я тайком подкрался к сестре Надежде Владимировне, которая лежала с книжкой на коврике под деревом, и, не зная законов перспективы, сфотографировал ее со стороны ног. После этого снимать себя она мне запретила навсегда. Тайком я, правда, иногда это делал, но «официального» разрешения так и не получил. Как сейчас помню тот снимок: на переднем плане огромные ноги в сандалиях и где–то далеко маленькая головка.
Увлечение мое воспринималось многими людьми неодобрительно. Как–то в Одессе выходим мы, чтобы сфотографироваться с какими–то иностранными гостями. Мимо проходят два офицера и один из них, увидев у меня на плече фотоаппарат, говорит: «Отец! И не стыдно тебе заниматься таким грешным делом?»
Даниил Андреевич Остапов к фотографии относился крайне неодобрительно, называя ее «восьмым таинством» и ворчал на нас, молодых, что мы этим занимаемся. Да и мама моя, Ольга Васильевна, тоже этого интереса не поощряла, зная мою увлекающуюся натуру.
Когда только перешли на восьмимиллиметровую съемку, я купил себе великолепную по тем временам чешскую камеру, называвшуюся «Адмира», и с ней иногда снимал на службах. Пытался заснять служение одного старца. А тот проходит мимо меня после службы и говорит: «Владыка всуе труждашеся». И ничего у меня из этих съемок не вышло, хотя камера была исправна и все, что снимал до и после, прекрасно получалось. [89]89
Был еще один подобный случай – только без фототехники. Как–то я решил подсмотреть, как молится один старец. Мы с ним были в алтаре вдвоем и, казалось, ничто этому не препятствовало. Но как только началась служба, мне нестерпимо захотелось спать. Я и так–то всегда спать хочу, но это было что–то из ряда вон выходящее. Выйду я из алтаря, сделаю несколько «гимнастических упражнений» – поклонов, возвращаюсь – ничего, полегче. но только взгляну на него – и опять. Так за всю службу ничего и не увидел.
[Закрыть]
<190> В Индии я бродил по одному из древних памятников, естественно, с фотоаппаратом. И вижу: сидит в уголочке некий отшельник, одетый в красную ткань, около него сосуд с водой – сушеная тыква; и сидит он в сосредоточенной позе. Мне захотелось его сфотографировать, но он взглянул на меня настолько выразительно, что у меня всякая охота отпала. Это был взгляд не ненависти, не злобы. Просто я понял, что появлением своей нелепой фигуры с фотоаппаратом нарушил его внутреннее состояние.
Там же в Индии я однажды из–за своей страсти к фотографии чуть не погиб – и совсем бестолково. Это было в Джайпуре, в начале шестидесятых. Нас повели смотреть дворец Магараджи. Показали все внутри, потом вывели на галерею. Там вся стена была выложена драгоценными камнями: мозаика изображала цветы. В основном были использованы полудрагоценные камни – такие как яшма, сердолик, халцедон, но серединки цветов были сделаны из настоящих рубинов, изумрудов, чуть не алмазов, и, если приглядеться, сквозь перегородки можно было увидеть всю мозаику «в профиль». Я полюбовался с близкого расстояния, а потом вытащил фотоаппарат и сделал несколько шагов назад, чтобы сфотографировать. Что было дальше, я даже сейчас вспоминаю с неким ужасом и, как сейчас, чувствую внезапный холодок в коленях. Видимо, сработало подсознание, я наклонился вперед и вернулся к стене. Потом уже немного придя в себя, оглянулся. Галерею окружал только низкий – ниже колен, – бордюр, а донизу расстояние было метров двадцать…
<191> Среди моих старых знакомых есть мастер по ремонту фотоаппаратов Володя Шашкин. Сейчас ему около 60 лет, но его все по–прежнему зовут Володей. Это наследник особого рода искусства, что–то вроде Страдивари в своей области – исходил почти весь мир с фотоаппаратом, разве что в Люксембурге не был. Зато в Стамбуле, например, был раз десять и рассказывал о том, сколько там православных святынь.
3. Последние годы Патриарха
На рубеже 1950–х – 60–х гг. начался сложный и трудный для Церкви период. Большинство запомнило его как знаменитую «хрущевскую оттепель». Нас же больше коснулась ее обратная сторона – новый этап гонений на Церковь. По мановению «премьера», Никиты Сергеевича Хрущева, Церковь понесла огромный урон. Были закрыты пять семинарий, почти все монастыри – только на Украине некоторые сохранились, были закрыты две трети храмов, уцелевших после революции или открытых после войны. Шло разрушение церковной структуры, церковного устава. В самом начале этого периода, 15–16 февраля 1960 года, Патриарх на большом собрании, конференции советской общественности за разоружение, выступил с речью: «Досточтимое собрание! Моими устами говорит Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных христиан, граждан нашего государства. Примите ее приветствие и благословение! Как свидетельствует история, это есть та самая Церковь, которая на заре русской государственности содействовала строению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга, и своим законодательством нередко восполняла пробелы государственного закона. Это та самая Церковь, которая создала замечательные <192> памятники, обогатившие русскую культуру и доныне являющиеся национальной гордостью нашего народа. Это та самая Церковь, которая в период удельного раздробления русской земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и гражданского средоточия Русской земли. Это та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений. Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство национального достоинства и нравственной бодрости. Это она служила опорой русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы Смутного времени и в Отечественную войну 1812 года и она же оставалась вместе с народом во время последней мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе и утверждению мира. Словом, это та самая Православная Церковь, которая на протяжении веков служила, прежде всего, нравственному становлению нашего народа, а в прошлом и его государственному устройству… Правда, несмотря на все это, Церковь Христова, полагающая своей целью благо людей, от людей же и испытывает нападки и порицания. И тем не менее, она выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви. Кроме того, в таком положении Церкви есть много утешительного для верных ее членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата адовы не одолеют Церкви Его. Мы, христиане, знаем, как должны мы жить для служения людям и наша любовь к людям не может умалиться ни при каких обстоятельствах… На основании всего многовекового опыта наша Церковь может сказать: если все мы будем вносить в общую жизнь мира здравые мысли, чистые чувства, благие стремления и правые дела, то мы сделаем все, что необходимо для утверждения мира среди людей и народов».
<193> Эта речь Патриарха была как бомба. Беспокойство началось на всех кругах партийной и советской общественности. И хотя все это цензуровалось, заранее согласовывалось и проверялось, Патриарху сделали, как говорится в дипломатии, «реприман», то есть пожурили: не надо, дескать, Сергей Владимирович, такие слова говорить, мы все–таки в атеистическом государстве живем.
Патриарх был очень спокоен внутренне, несмотря на все обстоятельства, и когда возникали какие–то вопросы, он продолжал хранить то же спокойствие, глубокий взгляд. Надо сказать, он всегда просматривал в готовом виде любой свой текст, предназначенный для отправки куда бы то ни было – хотя бы даже личную телеграмму. И меня, еще юношу, приучил к тому же. Посмотрит, бывало, скажет: «Вот здесь была запятая!» – «Ваше Святейшество, по нашей орфографии здесь запятая не нужна». – «Ну да, да–да–да… Но я – поставил!» У него было обострено филигранное чувство языка, и если он ставил запятую, то значит акцент был на каком–то особом смысле фразы. Или иногда скажешь ему: «Ваше Святейшество, а вот надо бы…» – он отвечал: «Да, знаю. Но я уже написал». Поэтому, когда на него обрушился поток критики и недовольства, что «не надо так говорить», он ответил: «Да… Но я – сказал!»
Правда, после этого все равно продолжалось массовое закрытие церквей, две трети их были разрушены, взорваны, но самое главное то, что не терял внутреннего спокойствия и в таких обстоятельствах. Когда мы, молодые и горячие, начинали активно возмущаться, он только качал головой и с печальной улыбкой говорил: «Ну, что вы! Все именно так, как должно быть. Именно этим проверяется наша верность своему долгу».
Для меня это было пережито лично. Я уезжал в командировку, приехал, – а мой заместитель ушел из Церкви. Перед этим он мне еще говорил: «Что будем делать? Что будем делать?! Ну, вот я тракторист, но Вы–то что будете делать?!» – «Ну, а я архимандритом останусь. Ну что же делать? Проживем как–нибудь!»
<194> Тогда же, в самом начале хрущевских гонений, у Патриарха как–то раз зашел разговор о том, как вести себя в новой обстановке. На почти риторический вопрос: «Что же теперь делать?» о. Владимир Елховский, настоятель Брюсовского храма, бывший военный, бодро ответил: «Ваше Святейшество! Наступать нельзя, но в окопах сидеть – можно!»
По собственному опыту скажу, что самые трудные годы для Церкви были с 1963 по 1967. Тогда было объявлено, что в 1981 году «последнего попа покажут по телевидению». Это сказал председатель Совета министров и генсек коммунистической партии. Однако в 1981 г. в центре Москвы – за Моссоветом и на Пироговке, были поставлены два первых церковных дома, где «попы» создали свой Издательский Отдел, получивший международную известность, и центр, куда пришли военные, чтобы помянуть своих родителей.
Незадолго до своей смерти – 25 марта 1970 г., Патриарх распорядился о том, чтобы мне присвоили профессорское звание. Сообщил он это через Леню Остапова, и распоряжение было выполнено. А в последний день, – буквально минут за двадцать до смерти, – беседуя с митрополитом Никодимом, сказал: «Питирима надо возвести в архиепископы. И Пимена (Хмелевского)». Разговор закончился, Никодим уехал. Едва он доехал до Серебряного Бора [90]90
В Серебряном Бору находилась резиденция ОВЦС. – Концевая сноска 26 на с. 385.
[Закрыть], как ему сообщили о смерти Патриарха.
Сам я тоже бывал у Патриарха в Переделкине во время его последней болезни, – но еще в феврале, когда он еще ходил (я приезжал подписывать кое–какие бумаги). Последняя его служба была всенощная под Сретенье в Елоховском. Он прочитал «Ныне отпущаеши», а потом сказал, что завтра утром в соборе будем служить митрополит Пимен и я, а он сам хочет отдохнуть в Переделкине, и что там литургию отслужит о. Алексий. А вечером с ним случился инфаркт. Он терпеть не мог около себя никакой прислуги; вечером монахиня подавала ему таз и кувшин, и он шел в ванную. Видимо, он не удержал тяжелый кувшин, упал на левый бок, ударившись о раковину. То ли болевой шок стал причиной инфаркта, то ли наоборот – стало плохо с сердцем, <195> оттого он и упал – теперь уже не узнать. Однако так и вышло: «Ныне отпущаеши…».
С тех пор я его уже не видел. 17–го апреля вечером я вернулся из Лавры, собирался мыть голову, уже зашел в ванную, когда позвонил Буевский и сказал, что Патриарх скончался.
Умер он в Лазареву субботу. Этот день он очень чтил и всегда отмечал службой. Называл эту субботу «благословенной» в отличие от «Великой преблагословенной» – перед Пасхой. Незадолго до смерти его осматривали врачи, и он сказал им, что в Лазареву субботу непременно будет в церкви. А в ответ на возражения: «Ваше Святейшество, вам еще рано, вы еще не совсем поправились!» (он, в принципе, шел на поправку) – ответил: «Вы не понимаете, какой это день!»
4. Церковные деятели 60–х – 80–х гг.
Церковных деятелей второй половины XX века Ыладыка вспоминал уже как равных…
Митрополит Никодим (Ротов)Митрополит Никодим – личность незаурядная. Отец его был партийный работник, страшный человек, но мать, учительница, была человеком внутренне религиозным. Первым, кто его заметил, был замечательный архиерей, архиепископ Димитрий (Градусов). Сохранилась кинохроника Собора 1945 г., где он со своим ярославским выговором медленно, торжественно, с большими паузами произносит: «Я выбираю Патриархом митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия». Он и пригрел этого семнадцатилетнего Борьку, и постриг его в монахи.
Никодим, безусловно, был человек очень способный: знания впитывал как губка. Конечно, это была конъюнктура, <196> но «ставить» на него было выгодно: у него все получалось. Человек он был с размахом, по–русски широкая натура, умел и любить, и ненавидеть. Нельзя отрицать и того, что работал он на износ, и в конце концов «сгорел» на работе. Любимым его занятием было писать службы. Рассказывает, бывало: «Начал писать – и никак не шло. А вчера сижу на Центральном комитете – и вдруг как нашло вдохновение!»
При этом он нанес серьезный удар нашему традиционному благочестию. В поездках, например, он требовал, чтобы вся делегация непременно причащалась за каждой службой. А ведь ездили мы работать, работали днями и ночами, и нам было не до подготовки к причастию. Бывало, что и кофе пили за полночь…
В 1962 г. мы с Никодимом ездили на Афон. Это был всего лишь второй визит туда представителей нашей Церкви. Был май, уже стояла жара. Часть пути мы ехали на осликах, часть – шли пешком. С ослами тогда была целая история. Путешествовали мы втроем: Никодим – 120 килограммов, я – 70, еще с нами был сопровождающий переводчик – обычной комплекции. Ослики ведут себя очень интересно. Дорогу знают прекрасно: где ветка – наклонятся, где обрыв – прижмутся к скале, вверх идут бойко, а вниз осторожно, как кошки. Я со своим легко нашел общий язык: гладил его, хвалил: «Ах, ты, какой красивый! Да какие у тебя уши длинные!» – при случае совал ему какую–нибудь ветку. А Никодим все на своего ворчал: «А ну, куда пошел?! Да, куда ты меня, сейчас свалишь!» Потом была ночевка. На следующее утро мой ослик пошел ко мне легко, переводчик тоже оседлал своего без каких бы то ни было сложностей. А Никодима – никак не подпускает: брыкается, лягается, близко не подойдешь. Я говорю: «Вечером, видно, у них профсоюзное собрание было по технике безопасности и гигиене труда, постановили: тяжелых не сажать». Сбежались монахи – ослик и им не дается. Еле–еле общими усилиями водрузили на него митрополита и пустились в путь…
<197> Был с ним однажды случай, когда он упал с кафедры. Это произошло на моих глазах, и было невообразимо ужасно. Видимо, сиденье подвинули слишком близко к краю. Я с тех пор, находясь на кафедре, всегда рукой проверяю, твердо ли стоит стул, а если кафедра маленькая, то прошу, чтобы его совсем не ставили.
Смерть митрополита Никодима, наверное, не случайна: куда всю жизнь стремился, там ее и окончил. Хотя, конечно, никаким тайным католиком он не был. Чего же больше сделал для Церкви, хорошего или плохого – Господь будет судить.
Архиепископ Василий (Кривошеин)В опубликованных воспоминаниях архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия приводятся слова митрополита Никодима о патриархе: «Патриарх Алексий – робкий и равнодушный человек. Он аристократ, барин. На церковь смотрит как на свою вотчину». лучше бы он, конечно, не Никодима цитировал, а написал свои впечатления. Никодим Патриарха ненавидел лютой ненавистью и совершенно не понимал. В этом отчасти сказывалась вечная трагедия отцов и детей. Безусловно, патриарх не был ни холодным, ни равнодушным. Но его слабость была в том, что он был очень деликатный человек. В этом смысле патриарху Сергию с его характером было легче. Кроме того, он был страшно одинок. Единственным его близким другом был митрополит Григорий (Чуков), а после его смерти он остался совсем один. Как–то он даже мне жаловался: «Мне очень трудно, Костя. Мне не с кем поговорить». Патриарх Пимен тоже был одинок. Много позже и он говорил мне – чуть–чуть иначе: «Мне очень трудно, владыка. Мне не с кем посоветоваться».
Что касается самого архиепископа Василия, то человек он был сложный. Страшно самолюбивый. Хотя редактируемый им «Вестник Западного экзархата» был <198> изданием довольно серым, да и его работа о Симеоне Новом Богослове ничего особенно нового не содержит – ну, только то, что он знал греческий и выверил кое–какие переводы. А самомнение было куда какое! Все: «Я – я – я! А вот здесь так, а вот здесь не так, а вот здесь запятая не в ту сторону!»
Однажды собрались сфотографироваться все вместе, а его нет. Ждали, ждали. У Патриарха, смотрю, уже складки на щеках собираются. Наконец, появляется Василий со своим «Я – я – я!». Патриарх, увидев его, процедил сквозь зубы: «У, капуста брюссельская!»
Не хочу примешивать своего раздражения, но меня он однажды зверски обидел. В швеции насели на меня журналисты, стали спрашивать – тогда же, когда спрашивали и о Дудко, – чтó я думаю о преподавании Закона Божия в школах. Я сказал, что мой отец был законоучителем, и говорил, что, когда Закон Божий стоит в обязательной программе, он нивелируется в ряду других предметов. Воспитание, прежде всего, должно быть в семье, – школа же должна воспитывать не столько уроками Закона Божия, сколько общим духом. А Василий после этого разразился статьей: что, вот мол, такой сякой архиепископ Питирим считает, что учить вере не нужно.
Митрополит Мануил (Лемешевский) и митрополит Иоанн (Снычев)Митрополит Мануил, безусловно, был подвижник, но в нем было сильно развито то, что в аскетике называется «самоцен». Это перешло и к Иоанну. Был такой случай. умер, кажется, архиепископ Гурий и начались перемещения по архиерейским кафедрам. Митрополит Мануил был тогда в Саратове и послал телеграмму на имя Патриарха: «видел в сонном видении, что меня назначают на Ленинградскую кафедру». А в тот же день ему уже была отправлена телеграмма, извещавшая о назначении его в Чебоксары, так что, <199> можно сказать, эти две телеграммы встретились в дороге. В Патриархии потом шутили: «Безумне! Не веси, яко в сию же нощь будеши в Чебоксарах!»
У меня отношения с ним были хорошие, но в последний год своей жизни он устроил мне небольшой «скандал». «Что вы – говорит, – меня в календаре таким страшным напечатали?». А он и вправду был страшный: аскет, но уж очень изможденный. Я отговариваюсь: «Простите уж: фотографию такую прислали!» – а он не отступает. Хотелось мне ему сказать «неча на зеркало пенять..», но промолчал – и, слава Богу, правильно сделал. Так что, насчет моих с ним отношений душа моя спокойна.
Снычева же в Патриархии просто не воспринимали всерьез. В семинарии у него было прозвище «Ванька–хлыст», данное ему за его экзальтированность. Такой же был наш Дмитрий Дудко. Но нельзя отрицать, что оба они – и Мануил, и Иоанн – были люди искренние.
Что касается позднейшей деятельности митрополита Иоанна, у меня она вызывает некоторое чувство настороженности, т. к. за ней мне видится чья–то опытная рука, толкающая на необдуманные поступки простодушных верующих людей.
.
Архиепископ Киприан (Зернов)Архиепископ Киприан был человек очень одаренный, блестящий проповедник. Слушать его собирались со всей Москвы. Он даже немного бравировал своей способностью говорить на любую тему. Как–то раз зашел я к нему в храм помолиться. «Не знаю, о чем говорить, – сказал он мне, – Хоть вы дайте мне тему». Мне стало несколько досадно на его браваду, и я, чтобы отвязаться, небрежно бросил: «Откуда мне знать? Вон: за окном снег идет». А потом, когда я уже собрался уходить, слышу, он с амвона вещает: «Подобно тому, как снег белоснежным покровом покрывает землю…» – и далее о спасении души.
<200>
Митрополит Антоний СурожскийС митрополитом Антонием мы в хорошей близкой дружбе уже около пятидесяти лет. Это человек духовно очень одаренный, прекрасно знающий смысл внутренней жизни. Он сын племянницы композитора Скрябина и русского дипломата, родился в Иране. Отец его был чрезвычайно интересным человеком, с высокой духовной напряженностью. Мать, опасаясь влияния отца на мальчика, ушла от мужа и поселилась с сыном во Франции. Но избегая одного мистического влияния, она, в силу своих семейных традиций, невольно подвергла его другому (ведь Скрябин тоже был человеком с мистическими «вывихами»). Таким образом, Андрей рос в безрелигиозной среде, и более того, считал себя убежденным атеистом. Кода ему было одиннадцать лет, он где–то услышал разговор о христианстве, о Евангелии, и вмешавшись, заявил, что, по его мнению, религия и Церковь – это все чепуха. Кто–то из взрослых сказал ему: «Слушай, ты все это отрицаешь, но ты сам–то хоть что–нибудь знаешь?» – «Нет, не знаю и знать не хочу!» – «Это неправильно, – ответили ему. – Если ты что–то отрицаешь, ты хотя бы должен знать, чтó именно ты отрицаешь». Ему стало досадно, а надо сказать, что он всегда был очень самолюбив – до сих пор. Тогда он решил: «Пусть я это и не признаю, но вот, возьму и назло всем прочитаю Евангелие!» Придя домой, нашел на полке Библию, стал смотреть. Все книги показались ему слишком длинными, он выбрал самое коротенькое Евангелие – от Марка, – а взявшись читать, прочитал залпом и, закрыв книгу, подумал: «Какие же эти христиане сволочи, – это я говорю с его слов – что, имеют такую книгу, а живут не так, как в ней написано!» Так он впервые задумался над текстом Евангелия.
Потом он окончил школу, Лицей, Сорбонну. Это были 1939–1940 годы, начало Второй мировой войны. Молодой врач, он уходит в Сопротивление, во время одной из операций повреждает позвоночник – долгое время ходит в корсете (ему и сейчас трудно двигаться). Потом слушает лекции в Православном Богословском институте, становится священником. <201>Приезжает в Россию, встречается с Патриархом. Тогда мы с ним и познакомились, и вскоре подружились, перешли на «ты» (он первый это предложил в знак доверительных отношений). Помню, он был такой забавный и, если взять два его портрета – той поры и нынешней, – трудно поверить, что это один и тот же человек.
Потом его посылают в Англию, чтобы наладить там церковную жизнь. Там было много русских, но шел распад общины, которая таяла. Владыка Антоний ни слова не знал по–английски, хотя прекрасно, как родным языком, владел французским и немецким. Чтобы изучить язык, а заодно подготовиться к своей будущей работе, он стал читать по–английски Библию короля Георга. И вот, приехав в Англию, выйдя в Лондоне из поезда, обратился к первому встречному с вопросом: «Как мне пройти на Гарден–стрит, дом 15?» Прохожий в ужасе шарахнулся в другую сторону – вопрос на устаревшем английском звучал приблизительно как если бы у нас кто–то спросил: «Рцы ми, человече, камо гряду». Так, «на библейской основе», началась его работа. Вскоре его общине отдали маленькую, очень красивую англиканскую церковь, которая была преобразована в православную. Лет двенадцать тому назад они, накопив денег, выкупили ее. Владыка Антоний сначала жил в чуланчике при алтаре, сейчас, конечно, уже выстроен дом, в подчинении у митрополита Антония три епископа, один из них – выпускник Загорской семинарии, епископ Анатолий; большая, великолепно организованная епархия.
У многих наших иерархов, привыкших к традиционной, ритуальной манере, митрополит Антоний вызывал удивление неординарностью своего поведения. Он мог, например, выйти на улицу в подряснике, подпоясанном пояском, пойти на Трафальгар–сквер, сесть рядом с хиппи и беседовать с ними. Помню, однажды был я у него. Вечером он вдруг стал куда–то собираться. «Куда это ты, на ночь глядя?» – спросил я. – «На Трафальгар–сквер, хиппи кормить. Пойдешь с нами?» И мы пошли туда, где сидят эти хиппи – мохнатые, раскрашенные, с зелеными хохолками. Это были 60–е годы и состояние нравов в Англии было несколько лучше, чем <201> сейчас: во всяком случае, никаких наркоманов среди них не было. Владыка Антоний сам подходил к молодым людям, заговаривал с ними, угощал булками, говорил о жизни – английским языком он уже владел великолепно. Я тоже пробовал, робко, но у меня, конечно, не получалось так, как у него.
Сейчас он, правда, сам в такие походы уже не ходит, у него есть ассистенты. Но, как бы то ни было, в Лондоне митрополит Антоний – авторитет непререкаемый для всех, начиная от королевы и кончая хиппи.








