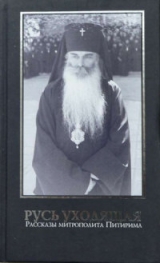
Текст книги "Русь уходящая: Рассказы митрополита Питирима"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
<266> Был еще замечательный эпизод в Нью–Йорке. С нами был представитель Армянской Церкви. Звали его Паркев. По душе он человек был очень хороший, но его типично–армянская внешность в сочетании с акцентом и манерой говорить всегда вызвала улыбку. Тогда как раз глушили «Голос Америки». И вот на пресс–конференции с дальних рядов поднимается какой–то щупленький корреспондент и говорит – через микрофон, но еле–еле слышно: «Почему в Советском Союзе глушат «Голос Америки»»? А Паркев ему отвечает: «Я твой–то голос еле слышу». Зал грохнул от смеха, корреспондент был сконфужен.
Международные контакты приучили нас к определенной дисциплине мысли и выражения. В начале мы гордо заявляли – так, как привыкли у себя: «Православная Церковь считает…» Но после того, как одному из наших докладчиков был задан вопрос: «Простите, господин, а Вас Ваш Собор уполномочил говорить от лица Вашей Церкви?» – стали осторожнее и предпочитали выражаться иначе: «Моя точка зрения, соответствующая точке зрения Православной Церкви…»
Международный регламент выступлений – три минуты. Помню свой первый в жизни доклад в большом международном собрании. Микрофон включался на три минуты. Потом давалось еще 20 секунд и он просто выключался. Случалось так, что человек входил в воодушевление, что–то говорил, но его никто не слышал, кроме соседа.
Конечно, первые наши выступления носили характер трагикомический. Мы явились к инославным в полном нашем православном великолепии. Вспоминаю наш дебют в Нью–Дели. Когда мы выезжали из Загорска, стоял страшный холод. Я был в своей толстой ватной рясе, в сапогах, меховой шапке. Приехав в аэропорт Внуково, мы оставили свои шубы (потому что в Индии нас ожидала жарища), и остались в легких рясах, но рейс оказался довольно сложным, в Дели нас не принимали, вернули из Ташкента в Свердловск. Ну мы–то ладно, – мы были люди привычные, – но как индианки в легких сари прыгали по снегу, прежде чем <267> добежали до здания аэропорта! Две ночи ночевали мы там. Долетали до Ташкента – и обратно. Наконец, прилетели в Дели. Тогда мы, естественно, светского костюма не надевали и куда бы ни шли: в гостиницу, в зал заседаний, на экскурсию в Тадж–Махал, – всюду являлись во всем величии: в клобуках, в мантиях, в рясах. К моему номеру по утрам было «паломничество» – слышно было, как шлепают по полу босые ноги. В чем дело? Оказывается, в том, что я выставлял чистить свои сапоги – настоящие русские, поповские, с голенищами до колена, – а они решили, что этот ужасный бородатый человек еще и носит гвардейские королевские сапоги. Все наши «экуменические братья» ходили в легких рубашках с коротким рукавом, а мы изнемогали, но «блюли православие». Потом мы несколько смягчили свою строгость. [123]123
Помню, я стыдил своих студентов: «Как вы можете выходить на улицу с непокрытой головой и без галстука? Это же неприлично!» – а потом и сам – без галстука я, конечно, не ходил, но с непокрытой головой иногда за границей появлялся на улице. Как–то идем мы с переводчиком, а нам вслед кричат: мне – «Хомейни», а ему – «Брежнев».
[Закрыть]
Однажды на первой неделе поста выехали мы – делегация в тридцать человек – в Соединенные Штаты Америки. Сели за стол, а там все мясное – бифштексы всякие и прочее. Ну, поклевали мы гарнир – день, два. В конце концов чувствуем – ноги не держат. Выбирать гарнир из мясных блюд было, конечно, очень трудно – подливка–то все равно мясная! Обходились в основном хлебом и кофе, которого выпили колоссальное количество. По соседству с нами жил старообрядческий епископ – вот ему так до конца и носили в номер огурцы и помидоры. А мы… Пострадали? Да, конечно, пострадали. Приехав в Москву, пошли на покаяние, возместили свое вынужденное «отступление» картошкой без масла. Поэтому, конечно, экуменизм оказал на нас влияние, но не настолько, чтобы – упаси Бог! – в чем–то отступить от своей православной веры.
<268>
Отголоски войныС Германией я работаю более 50 лет. Мой первый контакт был в 1952 году с пастором Нимëллером, который приехал тогда в Москву. Много лет спустя, в 1980 году состоялся мой первый приезд в Германию и с тех пор я не могу сосчитать, сколько раз я там был. Моя задача как епископа Волоколамского всегда состояла в том, чтобы заботиться о могилах как русских, так и немецких солдат и служить примирению несмотря ни на что.
В Волоколамске есть четырехэтажный дом, куда в 1941 году во время боев сносили тяжело раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно. Когда город был сдан и установился «новый порядок», комендант распорядился сжечь этот дом вместе с ранеными. Это было «практичное» решение: не нужно этих раненых кормить, не нужно за ними ухаживать, менять бинты. Жители города, конечно, были потрясены. Они сбежались, окружили этот пылающий дом и просили, чтобы им отдали хотя бы кого–нибудь, кто горел там. Но спокойные немецкие солдаты стояли вокруг дома и стреляли в толпу, если кто–то слишком приближался. Каждый раз, проезжая мимо этого дома, я на несколько минут останавливаюсь. Я не видел этого, но картина так и стоит у меня перед глазами.
Отличие русской доблести в том, что она в любых условиях сохраняла человечность. Свидетельством тому является, в частности, отношение к русским воинам за границей. Несколько раз я был в Альпах, на Суворовском перевале. Сейчас там стоит русская часовня. Швейцарцы почитают Суворова, пожалуй, больше, чем мы, русские. Показывают: «А вот стол, за которым сидел Суворов, а вот кровать, на которой он спал, а вот дом, мимо которого он проезжал». А в Болгарии за каждой службой поминают нашего русского Царя–Освободителя – Александра Николаевича.
Над городом Эрфуртом, где творил свою музыку Бах, возвышается высокая, почти конической формы гора, наверху которой стоит замок с очень интересной историей. <269> Именно там скрывался в свое время Лютер от гнева Папы и Императора. Когда–то за этот замок боролись два феодала. Один был хозяином фактическим и юридическим, и курфюрст его поддерживал, но другому очень хотелось занять этот замок. Никак они не могли решить этот вопрос. В Германии действовал закон: чья земля, того и собственность на земле. И тогда лазутчики соперника на осле привезли мешок земли с юридической справкой, что земля взята там–то, и высыпали под стену замка. Против этого возразить было нечего и все перешло в руки этого второго феодала.
Замок украшен большим вызолоченным металлическим крестом. Жители Эрфурта, указывая на него, говорили мне с гордостью: «Это советский крест». А было так. В 1945 году, когда Германия была поделена между советскими и союзническими войсками на зоны военного контроля, советское командование обменяло западную часть Берлина на Верхнюю Саксонию, которая поначалу досталась американцам. Янки – мужики хозяйственные: увидели блестящий крест на горе, не поленились туда забраться, спилить его и увезти. Когда пришла Советская армия, местные жители пожаловались генералу Чуйкову, что крест стащили. Он сказал: «Нехорошо», – и отдал приказ: восстановить. И наши восстановили его. Тоже деталь, которая может иметь некоторое значение.
Бывают поразительные вещи. Мне не раз приходилось встречаться с солдатами вермахта. С некоторыми устанавливались дружеские отношения, и никто из них не испытывал враждебности к русским. Те, кто побывал в русском плену, вынесли самые теплые впечатления о нашем народе, – например, как русская женщина, встречая в разоренном селе конвой пленных немецких солдат, давала им горячую картошку, чтобы они не только поели, но и согрели обмороженные руки.
Помню, в Италии, в маленьком городке, где меня, конечно, знают, зашли мы в магазин купить в дорогу сыру. Продавец отрезал кусок пармезана, и, когда я протянул ему <270> деньги, замотал головой: «Нет–нет–нет! Вы – русский, Вы – епископ! Вы знаете – мой дед был у вас в плену».
В Германии есть у меня друг, пастор. Он говорит: «Знаете, русская женщина спасла мне жизнь! Нас гнали в бой – она меня перекрестила в дорогу. Весь взвод выбили – я остался жив». Он был студентом–богословом, а потом стал священником.
Или: сидит напротив меня епископ. «Ну, а вы как, воевали?» – «Да, воевали под Волоколамском». «Ах, вот как? А я – епископ Волоколамский». – «Нет–нет, мы только мимо проходили!» Но, когда они узнали, что в Волоколамске есть епископ, приехала делегация и вручила мне большой напрестольный крест. Немец, солдат, при отступлении из Волоколамского района забежал в горящую церковь, увидел крест на престоле и сунул его себе в рюкзак. После войны поступил в семинарию, стал священнослужителем и вот, – вернул мне этот крест. Вот такие парадоксы истории.
Другой мой знакомый пастор Хаммерли, в Штутгардте, неплохо говорил по–русски – с акцентом, конечно, но довольно свободно. Русский он учил, находясь в плену. В качестве «практики» у него было общение с конвоем, а вместо тетради и ручки – доски на лесоповале и мел или кирпич, которыми он писал на этих досках русские слова. Потом дома, в Германии, он в своей Евангелической Церкви стал одним из консультантов по делам Русской Православной Церкви. Его жена – полная, очень добродушная немка – вдруг потеряла зрение, – это было уже давно, вскоре после войны. Муж сказал ей: «Знаешь, Эльза, русские молятся Николаю Чудотворцу. Давай, молись и ты, чтобы он тебе вернул зрение. А ты пообещай делать что–нибудь хорошее». А она как раз вязала ему теплые носки – вязать научилась еще с войны. «Хорошо, – сказала она, – я буду вязать носки всю жизнь, и буду раздавать их бедным». И действительно, глаза у нее поправились без всякой медицинской помощи. Я неоднократно бывал у них – это очень милая семья, – и несколько связанных ею пар носков лежит у меня в шкафу.
<271>
УниатыВ 1946 году один из виднейших униатских священников, отец Гавриил Костельник, глубокий патриот, очень остро переживавший национальную трагедию своего народа – Львовской, Тернопольской, Холмской областей – поднял духовенство и некоторую часть народа на возвращение к Православной Церкви. Я еще застал тех пожилых и даже старых людей, которые пережили гонения на Православие в Галиции в начале XX века (матушка Параскева, Курилович, сын которого потом был епископом). Они мне рассказывали, как венгерские жандармы заставляли их отказаться от Православной Церкви и принимать унию. Напомню, что нацисты в Германии получили благословение и поддержку папы Пия XII, и поэтому, когда наши войска отступали с территорий, уже захваченных немцами, то православное население попало в очень тяжелое положение. И Московская патриархия, сама пережившая тяжелые годы преследования, зная, к чему приведет, если униатские приходы будут под властью римского престола, приняла этих людей, эти приходы под свое покровительство, в свою юрисдикцию.
Однако разница традиций все же сказывалась. Когда происходило воссоединение, киевский митрополит хотел пригласить с собой знаменитого дьякона, у которого был чудовищный, могучий бас. Но священники, переходившие из унии, возразили: «Нам быкив не треба. Бо ангелы тенором спевают». Непривычен для униатов и русский обычай стоять на богослужении. Вскоре после воссоединения кто–то из бывших униатов говорил после долгой службы: «У вас, у русских, ноги чугунные». Кто–то из наших нашелся: «А у вас, простите, что чугунное, когда вы в исповедальне целый день сидите?» Католический священник, исповедуя, сидит в закрытом «ящике», скрючившись, на маленькой скамеечке, не видя тех, у кого принимает исповедь. Там три окошка, так что он может исповедывать сразу троих, но это тяжело и так бывает редко, зато двоих – дело обычное. То, что священник не видит исповедуемого вызвано, видимо, тем, что в отличие от нашей, католическая исповедь <272> представляет собой прямо–таки допрос. Если человек назвал какой–то грех, то далее у него подробно выпытывают по вопроснику: когда это произошло, при каких обстоятельствах, были ли свидетели, повредило ли это кому–то кроме самого согрешившего и т. д. А потом священник должен, в соответствии с услышанным, назначить епитимью. Строго ли это соблюдается, я не знаю, спросить было неловко, – да и, конечно, они бы ответили «соблюдается». А мы – «только свидетели», все сразу переадресовываем.
Довелось мне принимать первого кардинала, приехавшего в Советский Союз – это был венгерский кардинал Лекаи. Среди впечатлений было и неожиданное: служба в одиннадцать утра, в девять подъем, а в десять он угощает кофе. У них можно есть не менее, чем за двадцать минут до службы. Когда к нам в 1947 году приходили униаты, они, бывало, выходили перед службой курить. Наши удивлялись, а те говорили: «Так це не ижа!» – «Не еда» – значит. [124]124
Некоторые мои знакомые пасторы перед Пасхой несколько дней не курят.
[Закрыть]
До 1991–1992 года существовали и отдельные маленькие униатские приходы, и основная масса приходов, перешедших в юрисдикцию Московской патриархии. Но когда «Незалежная Украина» провозгласила свою независимость, когда националистические круги – РУХ и другие силы – потребовали отделения и Церкви от Москвы, тогда во Львове осталась всего только одна маленькая православная церковь, а раньше там было несколько десятков церквей и монастырей. Сейчас идет очень сложный церковно–политический процесс, направленный на создание равновесия в западных областях Украины между римско–католической, униатской, православной, а теперь уже и раскольничьей церковными общинами для того, чтобы оставить людям спокойную атмосферу вероисповедания. Но, как я уже говорил, коварство римского престола в этом отношении <273>очень осложняет все попытки, все возможные способы действия для умиротворения положения.
8. Русская эмиграция
Русская культура широка и всеобъемлюща не только по своему содержанию, но и по живым ее носителям. Почти 50 миллионов человек русской культуры, русскоязычной литературы, находятся за пределами России. Это не только послереволюционная эмиграция, но и старообрядцы, переселившиеся еще до Первой мировой войны в Канаду, в Соединенные Штаты, в Бразилию, которые говорят на чрезвычайно забавном языке. Существует много смешных фраз, в которых славянский соединяется с английским. «Мамо, закрой виндóву, а то чилдренята засикенеют» – это, конечно, выдуманная. Но есть и подлинные: «Взял кару и поехал до шопу» – такое можно услышать в Канаде.
Эмиграцию «первой волны», которая была выплеснута в 1917 г., я знаю не из учебников, не с чужих слов, а из живого общения. Должен сказать, что русская эмиграция – самая несчастная. Русский человек за границей никогда не чувствует себя дома. Мне приходилось встречать многих – были и те, кто внешне переделался, но все же до конца адаптировавшихся внутренне я не знал. [125]125
Другое дело евреи или армяне. Те легко себя чувствуют за границей. Армянин, например, приезжая куда–нибудь на Запад, первым делом открывает телефонный справочник, находит фамилию, оканчивающуюся на–ян, и через пару часов у него в номере уже толпа родственников.
У грузин не совсем так. Были мы в США с одним грузинским иерархом. Тот решил поступить подобным образом: нашел одну фамилию на –дзе, позвонил. Оказалось – член дашнакской партии. Так что никакой радости он с этого знакомства не получил.
[Закрыть] Мне часто доводилось бывать среди русских людей, живущих за рубежом, со <274>многими я был и остаюсь в дружбе. Нередко меня просили привезти щепотку русской земли.
В Париже древний старичок–офицер мне говорил: «Нет, я до сих пор еще в состоянии войны с Германией! Я Брестского договора не подписывал!» А у самого зубов нет, так что звучало трогательно. В мое время на Западе появилось очень много монахов из военных: [126]126
В принципе это старая традиция. Монастыри на Руси всегда были и крепостями, были и монахи–воины. Были и монахи с высшим военным образованием, – например, святой епископ Игнатий (Брянчанинов) имел высшее артиллеристское образование.
[Закрыть] в частности, русский архиепископ Парижа был одним из летчиков–истребителей в годы Первой мировой войны – архиепископ Георгий, очень милый, мягкий человек, но вот ведь – летал на этих первых «бумажных» машинах!
Когда враг вторгся в Россию, русская эмиграция поднялась – неоднородно, но основная масса поднялась на защиту отечества. Достаточно вспомнить мать Марию, княгиню Оболенскую, семью Левандовских, – Любовь Георгиевна Левандовская и по сей день живет в Париже, – и других, которые в рядах Сопротивления в тылу врага вели борьбу с нацизмом, погибая в газовых камерах и поднимая русскую душу на защиту Отечества.
Миссия нашей эмиграции была нести русскую культуру западному миру, и эту миссию она выполнила. Так, в идеях II Ватиканского собора, которые произвели почти что революцию на Западе, отразилось влияние русской богословской мысли, после революции развивавшейся в Париже. В Свято–Сергиевском институте в настоящее время работают в основном французы, они не всегда знают русский язык, но память о русских истоках остается. Сейчас мы нередко знаем чужие имена лучше, чем свои. Например, многим известно имя французского богослова и антрополога Тейяра де Шардена. А между тем задолго до него, еще в XIX веке, <275>наш профессор Казанской Духовной Академии Несмелов написал двухтомную работу «Наука о человеке». Тейяр де Шарден тоже формировался под влиянием русского богословия.
После 1917 года на Западе появились ответвления русских монастырей, которые пытаются сохранить нашу духовную школу. Так, когда в результате зимней кампании 1939–1940 гг. Валаам отошел к Советскому Союзу, валаамские иноки перешли в Финляндию. От Нового Валаама появились маленькие общины в Германии и Соединенных Штатах Америки, – так что некоторым образом эта традиция все же продолжилась.
Страна наша велика и обильна, и парадоксально, что память Преподобного Сергия, который для нас, москвичей, является центральной фигурой нашей духовной истории, в Сибири, пожалуй, не везде и празднуется. Точно так же Иов Почаевский стал духовным лидером для целого края, но за пределами его известен гораздо меньше. А вот преподобный Серафим через нашу эмиграцию стал всемирно признанным святым. Мы видим его изображения с чертами японского лица или даже африканского, и имя Серафим очень популярно в эмиграции.
Русская культура развивается на перекрестке исторических путей, поэтому веротерпимость нам прирождена. У нас никогда не было религиозных войн. Наше русское самосознание интегрально само по себе. Русским может быть любой: и таджик, и татарин, и грузин, и еврей – лишь бы он был носителем русской культуры. Среди моих друзей в Швеции был потомок протоиерея Турчанинова, нашего знаменитого церковного композитора. Его жена – тоже дочь священника. Ее отец был карелом, мать – гречанка, а она – русская.
Был у нас в Париже замечательный настоятель Трехсвятительского подворья о. Александр Тýринцев. Он из старой дворянской семьи, учился в университете, по окончании курса их «забрили» в офицеры, он, как офицер царской армии, оказался по ту сторону фронта, <276>потом эмиграция, богословское образование, – наконец, он стал священником. Мы с ним дружили. Если я был в Париже, то до утра сидели у него, если он бывал в Москве (а он приезжал каждый год), то у меня, он также часто посещал друзей, которые у него здесь оставались. Помню, как–то в очередной раз, – тогда еще живы были мои сестры, они приготовили вкусный ужин, угощали его. «О. Александр, кушайте пожалуйста, смотрите: вот это!» «Ну, что вы меня кормите? Я говорить хочу!» – Он уставал от французской речи, хотя в Париже было много русских. Правда, в советском быту он тоже чувствовал себя не совсем комфортно. В один из его приездов был с ним такой случай. Сидит он в ресторане гостиницы «Советская» – это лучший ресторан и лучшая гостиница была в Москве. Сидит он, а рядом – грохот оркестра, немыслимые децибелы. Он спрашивает официанта: «Простите, а нельзя, чтобы потише?» – «У нас так принято». – «Ну, позовите, пожалуйста, метрдотеля». Приходит метрдотель – галстук–бабочка, все как положено. О. Александр говорит: «Уважаемый! – «товарищем» он назвать, конечно, не мог, в силу своего воспитания, а «господин» тогда еще не было принято, это было в 70–е годы. – Уж очень громко, – даже есть невозможно под такую музыку!» А рядом народ танцует. Метрдотель говорит: «Вы, гражданин, ошибаетесь: у нас трудящиеся отдыхают». Тогда о. Александр говорит: «А можно директора попросить?» – Тот видит: уважаемый человек, с бородкой, держит себя очень деликатно, – позвал. Пришел директор ресторана, уже насупившийся. «Чем вы недовольны?» – пробасил он. «Да вот, видите ли, уж очень громкая музыка. Ну хорошо, я один сижу, а то вот люди за соседним столиком – они ведь не слышат друг друга!» – «У нас трудящиеся отдыхают, у нас так принято!» – «Уважаемый! Ведь отдыхать–то лучше в тишине, ведь созерцать нужно!» Тот в ответ что–то рявкнул и о. Александр «накрылся» со своими пожеланиями. Правда, он сказал фразу, которую я повторять не хочу. Фраза была очень корректная, но мне это не присуще.
<277> На Пушкинской площади, если стоять к памятнику Пушкина лицом, справа – большие доходные дома. До революции они принадлежали семье светлейшего князя фон Ливен. Потомок аристократического рода Андрей фон Ливен стал впоследствии священником. Скончался он в Болгарии, в эмиграции. Был очень заметный человек – огромного роста, более двух метров, – все на него обращали внимание.
Я был знаком с его дочерью, Еленой Андреевной, которая жила в Англии и преподавала английский язык. Елена Андреевна говорила своим студентам–англичанам: «Вот вы гордитесь Британией, могуществом Британии, но вы же совершенно не знаете английского языка. Почитайте словарь: какое богатство слов и форм! А вы говорите на языке матросов и портовых рабочих». Также как и мы сейчас говорим на языке прессы, часто даже неправильно употребляя слова. Из других детей о. Андрея старшая дочь, Ольга, была настоятельницей монастыря в Болгарии, сын Павел работал на Би–Би–Си.
Елена Андреевна рассказывала, что о. Андрей в юности, будучи студентом университета, принадлежал к «золотой молодежи», более усердно посещал театры, чем лекции и был весьма изобретателен на шалости. Однажды после студенческой вечеринки, закончившейся среди ночи, он позвонил профессору астрономии. Звонить по телефону тогда надо было через «барышню». «Барышня» соединила и он задал профессору вопрос: «Скажите, профессор, чем вы кормите Большую Медведицу?» – Тот долго молчал, а потом мрачным сонным голосом ответил: «Млечным путем!» – и повесил трубку.
Тем не менее о. Андрея все вспоминали как человека, одаренного необыкновенными душевными качествами. Он писал стихи – в классической традиции, в духе Майкова и Фета. Елена Андреевна даже завещала мне право издания его произведений.
В Греции у меня есть друг, архимандрит. Родился он в Воронеже, в 1937 г., говорит по–русски в совершенстве. Его <278>отец был инженер, работал по контракту, до 1937 г., конечно. Вовремя уехал. Это великолепный монах, очень образованный, организатор прекрасный, вырастил его старый афонский монах. Он в окрестностях Афин организовал монастырь, а мой знакомый, о. Тимофей, в молодости (теперь он уже седой) был священником в «Русском доме». Там доживали век русские эмигранты, я там часто бывал. В очередной мой визит он мне говорит: «Мы с такой радостью увидели, что русские спортсмены православные!» Я в ответ: «Да, да…», – а сам думаю, что же это он увидел? Оказывается, были какие–то международные соревнования, и все спортсмены не могли взять то ли верхнюю планку, то ли дистанцию на прыжке в длину, а когда пришел советский спортсмен, он перекрестился, прыгнул – и поставил рекорд. Я про себя подумал: может, это потому, что в советское время была такая манера – в шутку креститься? Это был фильм такой, где герой во время канонады крестится и что–то такое шепчет. Может, это было в шутку? Но на его круг людей – православных греков и русских эмигрантов – это произвело колоссальное впечатление как самый важный аргумент в пользу того, что вера в России жива.
Зарубежная Православная Церковь имеет как бы несколько уровней. На том уровне иерархии, на котором приходилось контактировать мне, отношения очень благожелательные; нам всегда охотно показывали святыни – как, например, гробницу святителя Иоанна в Сан–Франциско. Противодействия я никогда не встречал. Но шок бывал. Подходили, бывало, под благословение, а потом спрашивали: «А вы откуда, батюшка?» Отвечаешь: «Из Москвы», – а в ответ тут же отдергиваются как ошпаренные. Но поздно – благословение принято.
Помню, на книжной выставке во Франкфурте, пришлось мне познакомиться с протоиереем, графом Игнатьевым. Во время первой встречи – то и дело искры проскакивали. Он, чопорный такой, сказал мне с форсом: «Владыка, я не могу принять ваше благословение!» – «И не надо! Я вам его и не предлагаю». Вижу: человек с амбицией, но <279>поговорил с ним – благожелательно, снисходительно. Скажет он что–нибудь – а я как будто не слышу. Расстались дружелюбно. Прошел год–другой – и мало помалу зачастил он в Москву, и стал очень хорошо чувствовать себя в нашей Церкви, и благословение прекрасно принимает. Совсем другой человек по сравнению с тем, что было в первый раз.
Бывает, что их священники приезжают к нам. Служить они не могут, но в крестном ходе участвуют. Молодежь и подавно не чувствует этого разделения. Этот уровень дает надежду, что Русская Церковь хранит внутреннее единство, а внешние перегородки когда–нибудь падут.
Но есть и другой уровень, завязанный политически. Церковь, к сожалению, всегда употреблялась как орудие человеческих страстей. Есть «Церковь в себе» – как вещь в себе – по Канту, а есть «Церковь для них». Вот «для них» она всегда была средством и это создавало и создает сложности. Одни, связанные какими–то политическими путами, другие – материальными, третьи – в силу личного характера – сохраняют враждебное отношение. С этими трудно. Вот, например, семья Граббе. Епископ – уже и в преклонном возрасте, до последних дней находился во враждебной позе. Сын его даже получил запрещение за нарушение канонов в своей же собственной юрисдикции. Поэтому можно сказать, что и отношение неоднозначное, и контингент неоднородный, пестрый, – и только подвиг усердной молитвы и с той и с другой стороны поможет нам когда–нибудь преодолеть это греховное разделение.








