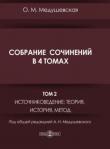Текст книги "Гуманитарное знание и вызовы времени"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Светлана Левит
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
Б. Л. Губман. Философский универсализм и вызов многообразия культурных миров
Перед лицом мозаичного мира современной культуры философия более не может сохранить свой классический образ и функции. Она вовлекается в диалог между наукой и иными формами культуры, между различными несхожими культурными мирами, присутствующими в коммуникационном пространстве глобального мира. Критическая миссия философии появилась в качестве одной из основных ее функций вместе с разрушением классической метафизики и подъемом утверждения влияния постметафизического мышления. Ю. Хабермас верно отмечал, что постметафизическое мышление в значительной мере отличается от классической метафизики Античности и Средневековья, равно как и от метафизики сознания Нового времени, предлагая новую перспективу философствования на коммуникативной основе. Принимая во внимание этот новый статус философии, она становится вовлеченной в ткань культурной среды, критикуя ее различные порождения и объединяя их в общем пространстве[363]363
Habermas Ju. Postmetaphysical Thinking. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1994. – P. 50.
[Закрыть]. В этой своей новой роли философия должна способствовать диалогу между несхожими культурными мирами, делая таким образом возможными постоянные переговоры между ними. Тем не менее, принимая во внимание значимость ее критической роли, философия все же сохраняет свою функцию универсального суда разума, унаследованную от европейского Просвещения. Это означает, что реальность культурного плюрализма, выявленная философским разумом в его критической ипостаси, должна найти примирение с его универсалистским потенциалом, принимаемым даже современной постмодернистской мыслью. Оставаясь верной своей миссии, современная философия должна сохранить в модифицированной форме обе способности, выстраивая одновременно универсалистские и критико-теоретические образы мира.
Классическая метафизика Античности и Средневековья базировалась на посылке, что философский разум в альянсе с рассудком способен подняться над эмпирически данной реальностью и обнаружить онтологические основания универсума. Жесткое понимание теоретического мышления как способного обнаружить сущностные основания реальности вело к построению метафизических конструкций, раскрывающих иерархию бытия и положение человека в мире. Невзирая на присутствие значительных различий между классической философией Античности и средневековой религиозной метафизикой, они в одинаковой степени были нечувствительны к культурной реальности, созидаемой людьми. В философской мысли этого периода человеческая культура не рассматривалась как противоположная природному миропорядку и представала как его продолжение.
Приход модерности ознаменовался стремлением философского разума рефлексивно обнаружить собственные основания, рождая метафизику сознания. Суверенность мысли становится базовой предпосылкой мысли нового философского созвездия от Р. Декарта до И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. «Рассматривается ли разум теперь в духе обосновывающего мышления как субъективность, которая делает возможным мир как целое, или же он понимается диалектически как дух обретающий себя, реализуясь в природе и истории, в любом случае разум активен как одновременно тотализирующая и самореферентная рефлексия»[364]364
Habermas Ju. Postmetaphysical Thinking. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1994. – P. 32.
[Закрыть]. В понимании внутреннего механизма человеческого сознания обретается ключ к постижению универсума. Таким образом, продолжая линию классической метафизики, философия претерпевает радикальное измерение: она приходит к рефлексивной интерпретации собственной миссии как самообосновывающей активности мысли. Любое последовательное мировоззрение отныне должно создаваться как результат рефлексивного постижения имманентной активности сознания. В этой перспективе философское понимание жизни сознания должно обеспечить надежный путь создания человеческих теоретических и практических стратегий пребывания в мире. Вера в способность философского разума стать финальной точкой обоснования рациональной активности человека предстает одновременно универсалистской и критической по своему характеру. Она опирается на предпосылку, что философская теория обладает сильным потенциалом, позволяющим справиться с этой чрезвычайно сложной задачей.
Современное постметафизическое мышление – итог развития постклассической западной философии перед лицом осознания необходимости пересмотреть задачи и лимиты философствования, принимая во внимание культурную реальность. Х. Арендт справедливо отмечала в «Жизни духа», что наше понимание приоритета разума по отношению к операциям рассудка, сопряженного с постижением эмпирически данного, должно сопровождаться новым видением его вовлеченности в среду языка. Пересматривая наследие Канта, она приходит к аргументированному заключению, что «рассудок (Verstand) желает постигнуть то, что дано чувствам, но разум (Vernunft) хочет понять значение этого»[365]365
Arendt H. The Life of the Mind. One volume edition. – San Diego; New York; London: Harcourt Brace & Company. – P. 57.
[Закрыть]. Таким образом, философский разум, теряя собственную «чистоту» и оценивая свои глубокие связи с особой индивидуальной и культурной ситуацией, необходимо становится герменевтическим. С тем чтобы продуцировать универсально приемлемый взгляд, он должен обращаться к критическим переговорам с существующими культурными традициями. Сама по себе возможность подобного диалога – один из главных сюжетов обсуждения современной постметафизической мысли.
Под влиянием различных культурных традиций современная философия должна с необходимостью быть внимательной к их смысловому содержанию и вступать с ними в критические переговоры. В то же время философия постметафизической эпохи должна выработать новую формулу философского универсализма. В противном случае существует опасность того, что философия, предавая собственную миссию, не сможет выжить после финала классической метафизики. Она может, как предсказывал Кант, превратиться в некий тип нарративной практики, описывая и интерпретируя несхожие культурные традиции. Для сохранения верности своему универсалистски-космополитическому предназначению философия должна быть одновременно критической и универсальной. Герменевтический разум должен критически изучать содержание культурных традиций и обнаруживать универсальные философские стратегии, которые адекватны мозаичной панораме современного стремительно объединяющегося мира. На фоне этой ситуации у ведущих теоретиков постметафизической мысли возникают существенные противоречия относительно возможности сохранения философского универсализма в критическом варианте.
Пожалуй, наиболее радикальное отрицание возможности выживания любой формы философского универсализма было сформулировано Р. Рорти, который открыто заговорил в границах собственного неопрагматистского учения о необходимости преодоления мыслительной традиции платоновско-аристотелевского онтологического конструирования реальности, равно как и картезианско-кантовской философии сознания. Он рассматривал Ницше как философа, который приступил к эффективному разрушению крепости универсализма классической метафизики и проложил путь к постмодерному типу мышления. «Постницшеанские философы, подобно Витгенштейну и Хайдеггеру, пишут философию, с тем чтобы продемонстрировать универсальность и необходимость индивидуального и случайного. Оба философа были вовлечены в ссору между философией и поэзией, начатую Платоном, и оба пришли к итогу, предполагавшему обнаружение почетных условий, на которых философия могла бы сдаться поэзии»[366]366
Rorty R. Contingency, Irony, and Solidarity. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – P. 26.
[Закрыть]. Собственная атака Рорти на универсалистскую метафизику прошлого была вдохновлена не только Витгенштейном и Хайдеггером, но также Ж.-П. Сартром, Х.-Г. Гадамером, М. Фуко, Ж. Деррида и другими представителями европейской мысли, равно как и такими американскими авторами, как У. Джеймс, Д. Дьюи, Т. Кун, У. Куайн, Х. Патнэм и Д. Дэвидсон.
Пытаясь найти почетные условия сдачи философии на милость поэзии, Рорти уверен, что язык – единственная реальность, которая постижима для нас в ее уникальности и случайности. Несмотря на витгенштейновское понимание правил языковых игр как способа перевода опыта и репрезентации реальности, Рорти полагает, что эта проблема не обладает философской значимостью после обезбоживания мира и становления взгляда на него как существующего в оформлении языковых систем. Он также игнорирует факт, что Витгенштейн довольно критически относился к экстремальной форме номинализма, неправомерно «интерпретирующей все слова как имена», и полагал, что правила языковых игр сохраняют определенные общие аспекты словоупотребления, выполняя важную функцию в конкретном коммуникативном пространстве[367]367
Wittgenstein L. Philosophical Investigation. – New York: The MacMillan Company, 1964. – P. 118.
[Закрыть].
Рортианский критицизм философского универсализма базируется на его обращении к радикальному номинализму и историзму. Его либерально-ироническая стратегия философской рефлексии укоренена в традиции романтизма и находится в прямой оппозиции рационализму Просвещения. Уникальность языковых словарей, специфичных для каждой культуры, делает непрозрачными их границы. Таким образом, случайность языка и особенность каждой исторической ситуации становятся аргументом против философского универсализма. Этот тип подхода решительно делегитимизирует создание метаязыковых дискурсов, несмотря на реальность их умножения в культурном контексте. Рорти прав, когда он утверждает, что совершенный метадискурс, раскрывающий научные и ненаучные проблемы, является утопией, но метадискурсивная практика – легитимная и неуничтожимая часть культуры.
Право философии на существование после крушения классической метафизики должно быть доказано на базе необходимости получения новой формулы философии критического универсализма, релевантного проблемам современного мира. Обращаясь к этой теме, А. Бадью предложил собственную версию математической онтологии, которая должна быть транскрибирована в логики различных миров. Ю. Хабермас и Ж. Деррида создали два наиболее популярных варианта самооправдания философии в критическом диалоге с культурой. В то время как Хабермас полагает, что универсалистские по звучанию философские взгляды обретаются в критической коммуникации рациональных субъектов и затем применимы к несхожим жизненным мирам, Деррида рассматривает их как итог переговоров с различными культурами. Оба сценария самооправдания философии применимы к существующей сегодня ситуации.
Проект философской онтологии Бадью базируется на посылке необходимости преодоления культурного релятивизма и важности обнаружения рационально убедительного универсального порядка бытия, который был бы одновременно совместимым с приходом радикально нового и непредсказуемого события. Поэтому универсальность и открытость обновлению составляют две основополагающие и взаимно дополнительные черты его философской мысли. Бадью солидаризируется с М. Хайдеггером относительно того, что «философия как таковая может быть воссоздана лишь на базе онтологического вопроса»[368]368
Badiou A. Being and Event. – London; New York: Continuum, 2010. – P. 2.
[Закрыть]. В то же время он уверен, что аналитическая традиция справедливо акцентировала ценность математико-логической революции Г. Фреге – Г. Кантора, открывающей новые горизонты для онтологии. И наконец, этот тип философской онтологии непредставим без посткартезианской теории субъекта, трактуемой в ключе идей К. Маркса, З. Фрейда, Э. Гуссерля, Ж.-П. Сартра и Ж. Лакана как «пустой, раздвоенный, несубстанциальный и нерефлексивный». Таким образом, современные условия построения философии включают для Бадью историю западной мысли, постканторовскую математику, психоанализ, современное искусство и политику. Отвечая на проблемы, поставленные в постмодерной французской мысли, Бадью предлагает оригинальный рациональный сценарий их интерпретации в новом ключе. Он ориентирован на развитие универсалистской стратегии философствования, адекватной мозаичному многообразию несхожих культурных миров. Однако его теоретическая мысль не в состоянии полностью устранить разрыв между математической онтологией и их многообразием.
В отличие от Рорти, Хабермас является жестким оппонентом философского постмодернизма и теоретиком, верящим в возможности коммуникативной рациональности как базиса нового критико-универсалистского типа философствования. В собственной версии неомарксизма он предложил глубокий анализ кризиса классической метафизики и пришел к заключению, что условием выживания философии является освоение уроков Просвещения и их переосмысление, с тем чтобы создать новый тип критического универсализма. Именно идя по этому пути, она будет в состоянии применить свои универсально дескриптивные и нормативные потенции к определенному культурному контексту. В этом отношении современный критический универсализм отличается, с его точки зрения, от высокооцениваемого им теоретического наследия Канта и Гегеля, подвергнутого справедливой и жесткой критике представителями лингвистической философии, структурализма, постструктурализма, неомарксизма и неопрагматизма[369]369
Habermas Ju. Postmetaphysical Thinking. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1994. – P. 37–38.
[Закрыть].
Хабермас решительно не согласен не только с рортианским опровержением философского универсализма, но и с предложенной Витгенштейном интерпретацией призвания философии лишь в «терапевтическом» ключе. Это терапевтическое понимание философии, по его мнению, означает «прощание с философией», некритически оставляя мир в его наличном состоянии. Философия при ее «терапевтическом» истолковании по определению не способна изменить мир. «Полевые исследования в культурной антропологии кажутся наиболее сильным кандидатом на замену философии после ее разрушения. Наверняка история философии будет с этого времени интепретироваться как неразумные деяния некоего диковинного племени, которое сегодня, к счастью, вымерло»[370]370
Habermas Ju. Moral Consciousness and Communicative Action. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995. – P. 11.
[Закрыть]. С тем чтобы избежать этого трагического финала, Хабермас предлагает свою собственную стратегию философского критического универсализма, необходимого радикально меняющемуся миру.
В ответ на критику Рорти Хабермас утверждает, что универсальность и рациональность как плоды теоретического и практического разума рождаются независимо от контекста определенных жизненных миров. Тем не менее лишь конкретный жизненный мир должен осуществить перевод, например, универсальных утверждений морали в конкретные действия и доказать их валидность. «В горизонте жизненного мира практические суждения черпают как свою конкретику, так и свою силу мотивации действия из их внутренней связи с несомненными принятыми идеями благой жизни, коротко говоря, в их связи с этической жизнью и ее институтами»[371]371
Ibid. – P. 108–109.
[Закрыть]. Обладающая универсальным статусом рационально обоснованная мораль может найти конкретное применение лишь в контексте отдельных жизненных миров с присущим им набором этических ценностей. Хабермас создает, таким образом, платформу примирения между противоположными по содержанию подходами к этой проблеме Канта и Гегеля, создавая тем самым основания собственной стратегии либерального республиканизма, которая объединяет публичную и приватную сферы. Философский универсализм, сообразно с подобной стратегией, должен обрести критическое примирение с многообразием культур, особых жизненных миров, доказывая таким образом собственную действенность.
Постструктуралистский вариант защиты философского универсализма, предложенный Ж. Деррида, является прямым ответом Канту и развитием кантовского понимания в условиях постмодерного состояния. Несмотря на очевидные расхождения с кантовской версией трансцендентального идеализма, Деррида признавался, что его деконструктивистская доктрина глубоко укоренена в идее мощи критической философской рефлексии, которая родилась в контексте мысли европейского Просвещения и была наиболее ясно сформулирована Кантом[372]372
Derrida J. Learning to Live Finally. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2007. – P. 44–45.
[Закрыть]. Новый философский универсализм, сообразно с Деррида, может возникнуть как результат критико-деконструктивных переговоров с культурно-исторической традицией в разнообразных формах ее существования. С этой точки зрения ни кантовская телеология истории, ни его жесткий европоцентризм не могут быть приняты, по Деррида, как основание его собственного понимания универсализма. Реагируя на часто звучащие обвинения в том, что деконструктивистская стратегия нечувствительна к пульсу истории, Деррида отмечал, что он всегда был заинтересован «определенной историчностью» в трансцендентальной версии, предложенной Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером[373]373
Derrida J. Negotiations. – Stanford: Stanford University Press, 2002. – P. 157.
[Закрыть]. Оппозиция метафизическому конструированию истории отнюдь не означает для него отрицания реальности как таковой. Подлинно универсалистская философия, по мысли Деррида, должна отвергнуть метафизическую телеологию истории и вступить в переговорный процесс с различными культурными традициями, осваивая их мыслительное содержание.
В стремительно глобализирующемся мире современная философия должна выработать стратегию, соединяющую универсализм и критический подход к мозаичной культурной реальности. После кончины классической метафизики философия более не способна видеть культуру в перспективе ее идеального образа восхождения по телеологическому пути самосовершенствования. Тем не менее несмотря на ее новый образ свидетеля и посредницы, преодолевающей пропасть между различными культурными формами, философия не должна утерять своей способности самообосновывающего мышления. В противном случае, она может быть сведена к некоторому виду критики отдельных явлений и может отказаться от производства универсальных смысловых конструкций, питающих культуры. Герменевтический разум находится на пути движения к новому типу критического универсализма, вступая в плодотворный диалог с различными культурами, осваивая их содержание и производя общие смысловые интерпретации проблем человеческого мира, направленные против любых форм властного диктата и насилия в общественной среде. Как рациональное самообосновывающее и интерпретативное критическое мышление философия разоблачает механизм производства отчуждения и зла в их различных ипостасях, демонстрируя таким образом свою значимость для мирового сообщества.
Человек и культура: факторы самосохранения
В. К. Кантор. Любовь к двойнику, или Самокастрация русской культуры
Миф в контексте человеческого бытия как историософская проблемаКрушение Российской империи заставило изгнанных за рубеж мыслителей заново продумать те мифы, которые двигали общественную жизнь страны до революции. Почему я говорю о мифах как двигателе социума? Дело в том, что разумом во все века живут единицы, способные к рациональному взгляду на мир, к интеллектуальному усилию свободы. Появление мифа означает выход человечества из животного состояния. Миф возникал как попытка человека противостоять хаосу мира. Первобытный человек подчиняется природе, но и подчиняет ее себе, отчасти реально (в охоте, рыболовстве), отчасти в воображении. Миф – это тщательно разработанная система нейтрализации оппозиции «культура – природа». Для раннего человечества характерно преобладание коллективного над индивидуальным. Я бы сказал, что миф как явление культуры это (попробую дать рабочую дефиницию) воображаемое представление о реальности, которое воспринимается как реальность. Мифология, конечно, как всякое явление человеческого духа, амбивалентна. Во-первых, миф является первым укрощением хаоса мира. Об этом писал Пауль Тиллих: «Величие Вселенной состоит в ее силе сопротивляться постоянно грозящему хаосу, ясное осознание которого заключено в мифах (включая и библейские повествования)»[374]374
Тиллих П. Систематическая теология. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – Т. 3. – С. 84.
[Закрыть]. Во-вторых, есть мифы, структурирующие цивилизационный, строительный пафос человеческой культуры. Это, конечно, христианство и древнегреческие мифы. В них появляется культурный герой, активно противостоящий хаосу, возникает личность. Но внутри мифа человек оставался подчиненным стае. Ведь противостоять чему-то безличному и страшному легче всего в стае, которая столь же безлична и страшна, но близка человеку животно.
Как не раз отмечалось исследователями, проблемы мифа, миф, если он только в самом деле есть, – не обман и не игра. Миф по-настоящему существует только тогда, когда к нему относятся как к реальности. Мы могли не принимать идеи советского социализма, это было воображаемое представление о реальности, которое все жители страны были обязаны воспринимать, а многие и воспринимали, как самую что ни на есть реальность. Мы жили вне истории, ибо миф не знает истории, его время – вечность, он цикличен. Но еще стоит отметить одну важную особенность мифа, понятную жившим в советском обществе, о которой написал М. К. Мамардашвили: «Миф, ритуал и т. д. отличаются от философии и науки тем, что мир мифа и ритуала есть такой мир, в котором нет непонятного, нет проблем. А когда появляются проблемы и непонятное – появляются философия и наука»[375]375
Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию. – М.: Лабиринт, 1996. – С. 13.
[Закрыть]. «Клячу истории загоним», – писал Маяковский, думая, что страна попала волевым усилием Октября из «царства необходимости» в «царство свободы». На самом деле, историю и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что казалось: уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс. Те деспотии, которые вернулись к мифологическому сознанию, выпали из исторического поля. Соответственно начинаются даже структурные изменения личности. Как и гитлеровская Германия, большевистская Россия отгородилась от истории.
Не случайно Томас Манн пытался отвоевать идею мифа у нацистов, искал его гуманистическую составляющую («Иосиф и его братья»). Но и тут он обратился к библейскому мифу, который даже в своей мистической основе имел сильную рационалистическую струю. Началось это изменение именно в те тысячелетия, когда создавалась Библия. Именно тогда, в осевое время, о котором писал Ясперс, появляется нечто иное. Вот его слова: «Все эти изменения в человеческом бытии можно назвать одухотворением: твердые изначальные устои жизни начинают колебаться, покой полярностей сменяется беспокойством противоречий и антиномий. Человек уже не замкнут в себе. <…> Впервые появились философы. Человек в качестве отдельного индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе»[376]376
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 34.
[Закрыть]. Началась борьба рациональности и рационально проверенного опыта против мифа (логоса против мифа), затем борьба за трансцендентного Бога и борьба против ложных образов Бога. В ходе этого изменения шло преобразование мифов, постижение их на большой глубине и их преодоление. Мамардашвили остроумно отделил философию от мифологии: «Философия в отличие от мифа уже датируется, она индивидуальна и датируема»[377]377
Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию. – М.: Лабиринт, 1996. – С. 12.
[Закрыть]. Древний мифический мир отступал, сохраняя, однако, благодаря фактической вере в него народных масс свое значение в качестве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы в обширных сферах сознания.
В XX в. это было очевидно. Ведь возврат в доличностные структуры сознания возможен на самом разном цивилизационном уровне. Надо сказать, что этот исторический (или, если угодно, антиисторический) поворот фиксировали очень отчетливо мыслители Запада, прежде всего Австро-Венгерской империи, рухнувшей в XX в., как и Российская. Судьба этих европейских империй в чем-то схожа. Не случайно в Вене Зигмунд Фрейд пытается в своей теории психоанализа противопоставить рацио бессознательному, искать миф в подсознании, с тем чтобы преодолеть его. Элиас Канетти начинает в эти годы задумываться над книгой «Масса и власть», где рассуждает о победе масс над историей. Именно в Австрии появляется великий мыслитель Эрнст Мах. По словам современного отечественного историка культуры, «в австрийской культуре формулой “разрушения личности” стал, как известно, афоризм Эрнста Маха: “Я нельзя спасти” (Das Ich ist unrettbar)»[378]378
Жеребин А. И. Вертикальная линия. Философская проза Австрии в русской перспективе. – СПб.: Миръ, ИД СПбГу, 2004. – С. 227.
[Закрыть]. Исследователь полагает: из философии Маха очевидно, что мир (комплекс ощущений) есть либо иллюзия, либо реальность, которую наше сознание принимает за реальность. Это ощущение начала XX в. В такой атмосфере мифы не могут не создаваться.
Заметив, что коллективные массовые движения всегда вдохновляются мифологией, Бердяев про эпоху XX в. написал: «В сущности, сейчас происходит возврат человеческих масс к древнему коллективизму, с которого началась человеческая история, к состоянию, предшествующему образованию личности, но этот древний коллективизм принимает цивилизованные формы, пользуется техническими орудиями цивилизации»[379]379
Бердяев Н. А. Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи // Бердяев Н. А. Дух и реальность. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2006. – С. 171.
[Закрыть]. XX век – век торжества мифологического сознания. Самые разительные примеры такого господства – нацистский и коммунистический мифы. М. К. Мамардашвили называл это господством «алхимической идеи»[380]380
Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). – М.: Ad Marginem, 1995. – С. 113.
[Закрыть]. Но начиналось оно не в идеологических документах партийных вождей, а в построениях свободных мыслителей, в которых действовал дух времени, времени, оказавшегося под ударом выступивших на историческую арену масс, не вошедших в личностную европейскую культуру.
Разумеется, работало коллективное бессознательное, управлявшее даже яркими личностями вроде Герцена, которые будили варварскую доличностную стихию. Ведь чтобы вернуться в доисторическое прошлое, тоже нужны усилия и свои маяки и вожаки. И они нашлись. Не только эмигрант Герцен, но, казалось бы, далекие от революции мыслители, звавшие в мифологическое прошлое. Как писал великий интеллектуал и интеллектуальный провокатор Вячеслав Иванов, символизм «соборного единомыслия» был «проникновением к душе народной, к древней исконной стихии вещего “сонного сознания”, заглушенный шумом просветительских эпох. Дионис варварского возрождения вернул нам – миф»[381]381
Иванов Вяч. О веселом ремесле и умном веселии // Иванов В. И. Родное и вселенское. – М.: Республика, 1994. – С. 70.
[Закрыть]. Правда, когда в России восторжествовала соборность после большевистской революции, Иванов сумел уехать в католическую Италию, где Дионис был обуздан и даже в период господства Муссолини не очень-то бушевал. Но мифы, разбуженные интеллектуалами, стали в Европе господствующими. Стоит внимательно отнестись к несправедливому на первый взгляд высказыванию Бердяева: «Хотя это и может показаться парадоксальным и шокирует адептов стареющих форм демократии, но можно даже утверждать, что фашизм есть один из результатов учения Ж. Ж. Руссо о суверенитете народа. Учение о суверенитете народа, что и соответствует наименованию демократии, само по себе не дает никаких гарантий свобод для человеческой личности. Руссо верил, что общая воля суверенного народа безгрешна и свята, в этом был созданный им миф, аналогичный мифу Маркса о святости и безгрешности воли пролетариата»[382]382
Бердяев Н. А. Судьба человека в современном мире. – С. 189.
[Закрыть]. Но мифы, определявшие жизнь больших масс, создавались интеллектуалами, которые гениально угадывали движение подземных стихий, думали, что осуществляют прорыв к свободе, ведя мир к чудовищному закрепощению. Недаром Руссо оказался предшественником кровавой Французской революции. Миф XX в. (а может и всякий миф?) требовал некоего принуждения. Скажем, в своей итоговой книге об этом пишет Федор Степун: «Чтобы поддержать свой миф о революции “рабочих и крестьян”, партия запретила любые высказывания о противоположности интересов рабочих и крестьян»[383]383
Степун Ф. А. Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма: Пер. с нем. – СПб.: Владимир Даль, 2012. – С. 191.
[Закрыть].
Личность создается собственными усилиями, человек для выхода из стада должен создать себя сам. Оставаясь частью социума с внешними правилами, он каким-то образом одухотворяет себя сам. Вспомним Достоевского, который искал «человека в человеке», то есть нечто, что не определялось ни природными, ни даже социальными обстоятельствами. Но «человек в человеке» находится с трудом, слишком много овнешняющего закрывает путь ему и путь к нему. И тут-то и возникает в культуре проблема, которая обсуждается в данном тексте. Проблема двойника. Человек, выходящий, но не вышедший из безличной мифологической структуры, остающийся еще внутри мифологического сознания, не в состоянии найти свою определенность, устойчивость бытия. На этой неустойчивости и паразитирует двойник. Двойник прорывается к сути человека, пытается подменить ее, а порой и подменяет. Он существует, строго говоря, в волнах мифологического бытия. Именно такое балансирование на грани мифа и рацио вводит в личностную культуру Нового времени тему двойника, актуализирует ее.
Надо сказать, более того, надо подчеркнуть, что двойничество – это не феномен, рожденный в Новое время. Двойники были в язычестве. Кстати, в славянском язычестве двойник, как сообщается в энциклопедии славянской мифологии, во всем похож на человека, но своего лица не имеет, и по безличью носит маску того, кем хочет показаться. Испокон веков существовало поверье, что явление двойника – проделки дьявола, который назло Богу создает точную копию Его творения. Двойник по-немецки – Doppelganger. По немецким поверьям, встреча с двойником ведет героя к гибели. В России это поверье исполнилось. Ведь главным мифом советской истории был миф о враждебности интеллигенции народу. Был термин «враги народа». Как же интеллигенция, славившаяся своим народолюбием, жертвенностью, могла обратиться в своего собственного двойника? Забегая вперед, напомним: как-то Владимир Вейдле написал, что Россия стала нацией, не включив в нацию народ. Это раздвоение культуры и привело к появлению русского двойника, которому приписывали всяческие добродетели, но который ненавидел героев. Можно сказать, опираясь на образы Достоевского, что место Ивана Карамазова занял Смердяков, ворвавшийся во власть, прикрываясь идеями интеллектуала Ивана. Здесь же добавим важную характеристику ситуации: в результате своих действий двойник доводит героя до безумия, так что он начинает чувствовать вину за не совершенные им проступки. Вокруг борьбы с этим врагом, т. е. с интеллигенцией, строилось единство советского общества. Самое дикое, что и вышедшие из народа сильные мужики были слишком интеллектуальны для власти Смердяковых, были практически теми же интеллигентами и так же уничтожались. На этом фоне легко было уничтожать и сам народ. Но об этом чуть позже.