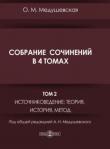Текст книги "Гуманитарное знание и вызовы времени"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Светлана Левит
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 37 страниц)
Михаил Эпштейн. Пластичность философского текста: почему одни авторы более читаемы, чем другие
Философская критика занимается прочтением и толкованием текстов, но остаются неясными условия их читаемости. Почему один текст читается легче, чем другой? Почему он влечет за собой читателя, втягивает в себя, не позволяет оторваться? А другой текст, вроде бы глубокий и содержательный, – отталкивает, вызывает почти физическую неприязнь.
Движение мысли родственно движению вообще, т. е. нуждается в направленности, последовательности. Текст – это смысловой ландшафт. Корни слов, этимоны, первообразы должны соединяться в некий пластический жест, очерчивать траекторию смысла. Чтение – это продвижение по тексту, который, следовательно, должен быть увлекательной дорогой, задающей направление и открывающей перспективу. Текст с трудом проходим, если корни слов торчат в разные стороны, первообразы выворочены, пространство расколото вдребезги – это как босиком ходить по мелким острым камешкам или продираться через спутанные заросли.
У Михаила Бахтина, например, слова прекрасно ориентированы в пространстве, слагаются в жест и влекут за собой читателя, побуждают двигаться вместе с текстом, как хорошая картина не позволяет отвести взгляда. Вот короткая фраза из книги о Рабле:
«Смех не дает серьезности застыть и оторваться от незавершимой целостности бытия»[334]334
Бахтин М.M. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Возрождения. – М.: Худ. лит., 1965. – С. 134.
[Закрыть].
Застыть и оторваться от целостности – это пластически связное движение внутрисловесных образов. Так капля смолы может застыть и оторваться от древесной коры. Кроме того, у Бахтина работает звукопись и внутренняя рифма. «Не дает… застыть… оторваться от бытия» – здесь перекликаются разнообразные сочетания гласных с «т»: «дает», «стыть», «от…вать», «от», «быт». Бытие может застыть, но смех не дает.
Вот более развернутый пример: описываются сложные взаимоотношения между сознаниями автора и героя у Достоевского, но они также представлены пластически, через последовательность дополняющих и усиливающих друг друга жестов, и все вместе создает целостную картину взаимодействия идей. Я выделю курсивом эти слова, решающие для пластически наглядного и убедительного движения понятий.
«Не только действительность самого героя, но и окружающий его внешний мир и быт вовлекаются в процесс самосознания, переводятся из авторского кругозора в кругозор героя. <…> Рядом с самосознанием героя, вобравшим в себя весь предметный мир, в той же плоскости может быть лишь другое сознание, рядом с его кругозором – другой кругозор, рядом с его точкой зрения на мир – другая точка зрения на мир. Всепоглощающему сознанию героя автор может противопоставить лишь один объективный мир – мир других равноправных с ним сознаний (Проблемы поэтики Достоевского, гл. 2).
Внешнее вовлекается, переводится из одного кругозора в другой. Самосознание вбирает предметный мир. Всепоглощающему сознанию противопоставляется мир равноправных сознаний. Все четко, наглядно, графично.
Как правило, очень выразительна пластика текста у С. Аверинцева, который вносит образную мотивацию даже в самые обобщенные суждения:
«Вообще выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело – не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые “потаенности недр”; это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано изнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого “нутра”. <…> Вспомним, что ближневосточные ваятели первых веков нашей эры, нащупавшие в пределах античного искусства скульптуры новые, неантичные возможности экспрессии, начали просверливать буравом зрачки своих изваяний, глубокие и открытые, как рана: если резец лелеет выпукло-пластичную поверхность камня, то бурав ранит и взрывает эту поверхность, чтобы разверзнуть путь в глубину»[335]335
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – M.: Coda, 1997. – С. 64, 66.
[Закрыть].
Вряд ли здесь нужен комментарий: каждое слово говорит само за себя и прозрачно раскрывает свою связь с другими словами.
Обратимся к противоположным примерам. Трудно читаемые, образно запутанные фразы встречаются у философа Густава Шпета. Занимая видное место в истории русской мысли, он, однако, не отличался стилевым изяществом, что не так уж характерно для больших русских мыслителей. Они часто выходили из рядов писателей или, во всяком случае, относились к своему труду как одновременно философскому и литературному. Вот предложение, которым начинается один из «Эстетических фрагментов» Шпета:
«Термин “слово” в нижеследующем берется как комплекс чувственных дат (данных. – М. Э.), не только воспринимаемых, но и претендующих на то, чтобы быть понятыми, т. е. связанных со смыслом и значением»[336]336
Шпет Г. Г. Сочинения. – М.: Правда, 1989. – С. 380.
[Закрыть].
Это как раз тот случай, когда корни слов, как и грамматические окончания, торчат в разные стороны, затрудняя пластическое движение читателя по тексту – вместо плавной дороги ряд ухабов и рытвин. Движение, каким «берется» термин, и движение, которым «воспринимаются» даты, сходны по жесту, но в данной фразе относятся к разным объектам, так что пластической связи между ними не возникает, а сходство мешает чувственно ухватить их различие. Одиноко торчит слово «нижеследующем», указывая совершенно другое направление, чем «браться». «Не только воспринимаемых, но и претендующих… т. е. связанных» – в этих трех пространственно наполненных словах не прослеживается никакой пластической связи, логики словесного жеста. Почему «претендующих» – это «связанных»? На абстрактно-логическом уровне это можно обосновать, но увидеть это внутренним зрением нельзя, т. е. читатель не вовлекается телесно и пространственно в процесс чтения на уровне чисто образных перцепций и моторных побуждений. Длинные окончания разнопадежных и разносуффиксных причастий (действительных и страдательных, настоящего и прошедшего времени), тоже торчат в разные стороны и не соотнесены в едином пространственном рисунке. Особенно сбивает «…понятыми, т. е. связанных…», которые стоят в разных падежах и относятся к разным слоям предметности, но поставлены в позицию однородных членов. Такой образно расшатанный, раздерганный текст может оказаться интеллектуально значимым, но не создает условий для читательского вхождения и продвижения в своей пространственной среде.
Дальше у Шпета («Эстетические фрагменты», гл. «Своевременные напоминания») я выделяю те слова, которые сбивают с толку, мешая взгляду сосредоточиться и двигаться целенаправленно:
«Слово как сущая данность не есть само по себе предмет эстетический. Нужно анализировать формы его данности, чтобы найти в его данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации. Эти моменты составят эстетическую предметность слова. Психологи не раз пробовали начертать такую схему слова, в которой были бы выделены члены его структуры… Но они преследовали цели раскрытия участвующих в понимании и понятии психофизических процессов, игнорируя предметную основу последних. Вследствие этого вне их внимания оставались те моменты, на которых фундируются, между прочим, и эстетические переживания. Если психологи и наталкивались на эстетические “осложнения” занимавших их процессов, этот эстетический “чувственный тон” прицеплялся к интеллектуальным актам как загадочный привесок, рассмотрение которого отсылалось “ниже”».
Я читаю – и не понимаю, потому что ничего не вижу. Текст противится восприятию, побуждая внутренний зрачок читателя двигаться произвольно, хаотично. При повторных чтениях понимание постепенно приходит, но вопреки устроению текста, а не благодаря ему. Очертания предметов не фокусируются в словах, а размываются, как в плохо подобранных линзах. Сущая данность (чем она отличается от просто данности?) не есть предмет (хотя для зрения данность предметна, а предмет дан). Анализировать формы данности, чтобы найти моменты, поддающиеся… (как данность соотносится с однокоренным поддаваться?) Преследовали цель раскрытия участвующих процессов. Переживания фундируются на моментах. Наталкивались на то, что прицеплялось как привесок, рассмотрение которого отсылалось ниже… В последнем предложении три глагола движения – и все они не согласуются друг с другом, создавая образную толчею. Наталкиваются обычно на нечто твердое, устойчивое – а тут оно само прицеплялось как привесок (наталкиваться на привесок?); и непонятно, отсылалось ли его рассмотрение к тому же предмету, на который психологи наталкивались и к которому нечто прицеплялось, и как соотносятся векторы этих трех движений.
Сходными изъянами страдал стиль Мераба Мамардашвили, который сам неоднократно жаловался на свое невладение письменной речью, хотя устный слог его выступлений был великолепен. Привожу отрывок из начала его книги «Классический и неклассический идеалы рациональности», чуть ли не единственной, которую он сам опубликовал при жизни (остальные книги опубликованы посмертно по значительно отредактированным аудиозаписям). «…Став основным в теоретико-познавательной структуре физики, как и, естественным образом, в структуре лингвистики, феноменологии, этиологии, психологии, социальной теории, понятие наблюдения не только поставило формулировку нашего знания физических явлений в зависимость от результатов исследования сознательного ряда явлений, которые всегда сопровождали и сопровождают исследование первых, но и требует теперь от психологии или от какой-то Х-науки, занимающейся теорией сознания, определенных идеализации и абстракций, способных бросить свет на явление наблюдения в той его части, в какой оно, сам его феномен, уходит корнями вообще в положение чувствующих и сознающих существ в системе природы»[337]337
Мамардашвили M.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. – M.: Лабиринт, 1994 (второй абзац). – Режим доступа: http://philosophy.ru/library/mmk/knir/mam_rat1.html
[Закрыть].
Можно было бы долго комментировать лексико-грамматические особенности этого предложения, которые скорее мешают, чем помогают движению мысли. Остановимся на четырех пунктах.
1. Грамматическая монотонность: в одном предложении двадцать (!) существительных в родительном падеже без предлога, в том числе такие цепочки как «результатов исследования сознательного ряда явлений». Каждый падеж означает некий поворот, «угол падения» в смысловом пространстве, поэтому нагромождение однопадежных слов производит впечатление недостаточной расчлененности их грамматических значений.
2. Слова, грамматически взаимосвязанные, далеко отстоят друг от друга, тем самым разрывая свою логическую и пластическую связь. Например, деепричастие «став» (в начале предложения) далеко оторвано от существительного «понятие», к которому оно прямо относится: между ними восемнадцать слов.
3. Разнонаправленность и разносмысленность одного и того же лексического элемента, например, предлога и приставки «в» («во») в конце предложения: «в той его части», «в какой оно», «вообще», «в положение существ», «в системе природы». «В» обладает своей семантикой, пространственным вектором, и его частое повторение в данном контексте не мотивируется никакой логикой движения мысли, напротив, создает чувство двигательной сумятицы на узком пятачке текста. Точно так же не связаны смыслом в общем контексте однокоренные слова: «став… понятие… поставило».
4. Повторение одних и тех же слов, относящихся к разноуровневым понятиям: «…в зависимость от результатов исследования сознательного ряда явлений, которые всегда сопровождали и сопровождают исследование первых», т. е. исследование явлений, которые сопровождают исследование. Нечто исследуется, это исследование сопровождается явлениями, которые в свою очередь исследуются. Поскольку это различие уровней не прописывается, не мотивируется в самом тексте, идентичность слова «исследование» сбивает с толку.
5. Столкновение идиом, мешающее установить образную связь между ними: «…бросить свет на явление наблюдения в той его части, в какой оно, сам его феномен, уходит корнями вообще в положение чувствующих и сознающих существ в системе природы». Вряд ли можно «бросить свет» на то, что «уходит корнями», т. е. скрывается от света в глубине почвы, причем именно «в той его части», которая уходит.
В рамках данной статьи мы обсуждаем не философскую ценность идей М. Мамардашвили (она несомненна), а степень их выраженности в пластике текста и, следовательно, степень его читаемости.
Г. В. Ф. Гегель, один из самых абстрактных мыслителей в истории философии, настаивал на том, что философское понятие по мере развития освобождается от всего чувственного и осязаемого. «Для того чтобы представление по крайней мере понимало, в чем дело, следует отбросить мнение, будто истина есть нечто осязаемое»[338]338
Гегель Г. В.Ф. Наука логики. Т. 1. – М.: Мысль, 1970. – С. 103.
[Закрыть]. Но вопреки содержанию гегелевского суждения, отрицающего осязаемость истины, само оно строится из вполне осязаемых представлений, лепит некий пространственный образ бытия (что легко усмотреть и в немецком оригинале, и в русском переводе). «Пред-ставление» – то, что поставлено перед чем-то. «По крайней мере» – на краю, на пределе чего-то. «По-нимало» – вбирало в себя. «Следует» – след, оставляемый чем-то, следующий после чего-то. «Отбросить» – здесь осязаемость пространственного жеста говорит сама за себя… Гегелевская фраза жестикулирует, очерчивает четкую фигуру в пространстве. И только поэтому мы способны ее ясно воспринять, что не всегда легко дается при чтении Гегеля. Философия есть искусство умозрения: ум имеет собственный зрительный навык. Здесь важна не только умственность, но и зрительность, само их сочетание.
Как мышление связано с языком? По свидетельству Альберта Эйнштейна, даже в наиболее строгом, научном мышлении эта связь опосредуется визуальными и двигательными элементами:
«Слова языка, в той форме, в которой они пишутся или произносятся, не играют, мне кажется, никакой роли в механизме моего мышления. Психические сущности, которые, по-видимому, служат элементами мысли, являются некими знаками или более или менее явными образами, которые могут “произвольно” воспроизводиться или комбинироваться… Эта комбинаторная игра занимает, по-видимому, существенное место в продуктивном мышлении – прежде чем возникает какая-то связь с логической конструкцией, выраженной в словах или каких-то других знаках, которые могут быть переданы людям. Упомянутые выше элементы существуют для меня в визуальной, а некоторые в двигательной форме. Конвенциональные слова или иные знаки тщательно подыскиваются уже на второй стадии…»[339]339
Хрестоматия по языкознанию / Сост. А. С. Мамонтов, П. В. Морослин. – М., 2005. – 370 с.
[Закрыть]
Итак, языковые знаки возникают на второй стадии, а им предшествует комбинаторная игра с элементами, которые существуют в визуальной или двигательной форме. Мышление совершается в некоем континууме, куда на роль первичных элементов могут приглашаться самые разные объекты.
Говоря о пластичности мысли, следует иметь в виду не только ее зрительные и осязательные, но и силовые и двигательные свойства. Кинестезия (от греч. «kinesis», движение, и «esthesia», чувство, восприятие) – чувство, производимое напряжением и растяжением мышц: ощущения тяжести, легкости, твердости, мягкости, давления, напряжения, сжатости, упругости… Когда мы воспринимаем в тексте его кинестезические свойства, он представляется нам упругим или дряблым, гибким или жестким, собранным или разболтанным, плавным или порывистым. Мышление – это мускульная работа с элементами бытия, отвлеченными от вещественности и тем не менее сохраняющими пластичность, т. е. расположенными в пространстве и передвигающимся по таким траекториям, которые определяются в терминах «ближе», «дальше», «выше», «глубже» и т. д.
Как показывают лингвист-когнитолог Дж. Лакофф и философ М. Джонсон (Философия во плоти, 1999)[340]340
Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. – New York: Basic Books, 1999.
[Закрыть], любое философское понятие, даже самое отвлеченное, включает в себя метафору, основанную на телесных или пространственных представлениях. Мысль выстраивает некое новое пространство, со своей метрикой. Каждое понятие куда-то ведет, подводит, заводит; строит, надстраивает, пристраивает… Чтение, как и письмо, – это моторика мышления, которое телесно нащупывает себе путь в пространстве, размечая его первообразами, этимонами слов. Даже самые абстрактные термины имеют пространственную основу: «абстрактный» – отвлекающий, оттягивающий; «умозаключать» – как бы запирать, замыкать на замок ума; «представлять» – ставить перед. Такие философские термины, как «развитие», «снятие», «предположение», «утверждение», «связанный», «отвлеченный», содержат пространственный жест, который требует пластической четкости и завершенности. Хороший авторский стиль передает целенаправленное движение смыслов-тел в мыслительном пространстве, образы которого они несут в своем лексическом составе и грамматическом строе. Мы читаем не только умом, но и телом, точнее, наш ум телесен, поскольку формируется навыками движения и самовыражения в пространстве. Чтение философских текстов – это не только логическое понимание, но и бессознательное психомоторное участие в движении понятий, которые либо вовлекают читателя в свою стройную процессию, либо беспорядочной толпой проносятся мимо.
Т. Н. Красавченко. Ученый и вызовы времени. Валерий Земсков: от Латинской Америки к культурно-цивилизационному пограничью
Валерий Земсков (1940–2012) до сих пор остается автором пока единственной в России книги о творчестве нобелевского лауреата колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса, изданной в 1986 г., в 1991 г. переведенной на немецкий, и скоро в дополненном виде она вновь появится на русском. Он вспоминал, как принес издательскому чиновнику фотографию Маркеса для своей книги: Маркес на ней откровенно, заразительно смеялся. «Над кем это он смеется?» – подозрительно спросил чиновник. И Земскову стало ясно: в тот момент Маркес смеялся над этим чиновником, а заодно над чиновниками всех рангов, пытающимися регламентировать нашу жизнь и перекрыть кислород[341]341
Земсков В. Б. Искусство века Великой Метаморфозы (актуальные заметки о нас самих и Г. Гарсиа Маркесе) // Иностранная литература. – М., 1988. – № 3. – С. 211.
[Закрыть].
Земсков написал книгу о Гарсиа Маркесе, в частности, именно потому, что был крайне чуток к смеховой природе жизни и литературы. И, как и его герой Гарсиа Маркес, посмеялся бы над тем, что творят ныне с Академией наук – а он был ярким представителем нашей гуманитарной академической науки, – посмеялся бы потому, что смех – это наиболее здоровая, смелая, очистительная форма сопротивления всему негативному и неправедному, посмеялся, но и еще бы объяснил, что на нас надвигается «новый дивный мир» (воспользуюсь понятием Олдоса Хаксли), новый антропный тип, новый тип человека, для которого традиционные понятия культуры, науки, нравственности лишены смысла.
* * *
С именем Валерия Земскова связано многое в современном гуманитарном знании. Начинал он как латиноамериканист. Для создания школы в науке необходим мощный ученый (как, скажем, в свое время Ю. М. Лотман), способный стать источником идей, разработать общую концептуальную платформу, проявить организаторский талант и объединить вокруг себя усилия отдельных исследователей. Именно в этом качестве и выступил Земсков в российской латиноамериканистике.
До него в этой области работали замечательные литературоведы – Г. В. Степанов, Л. С. Осповат, В. Н. Кутейщикова, И. А. Тертерян, но общего, проблемно-дискуссионного поля не было, как не было магистральных идей, концепций. Их-то и создал Валерий Земсков.
Уже в 1970–1980-е годы он осознал острую необходимость выработки новой гуманитарной исследовательской идеологии, неизбежность культурологической направленности литературоведческих работ по Латинской Америке, ибо речь шла об открытии общекультурного пространства «Латинская Америка». Для этого надо было преодолеть первичную информативность, описательность культуроведения в латиноамериканистике, создать навыки культурологического мышления о литературе и разработать концепцию латиноамериканского цивилизационного варианта.
В советское время латиноамериканистика развивалась в отрыве от иберийской, источниковой традиции. Причина – эстетико-идеологические ограничения в изучении европейских культур и конъюнктурность в отношении к Латинской Америке. Но, как заметил В. Земсков, «нет худа без добра», латиноамериканисты «сумели использовать этот отрыв во благо: казалось бы, неплодотворная инверсия (сначала Латинская Америка, потом Иберия) освободила латиноамериканские исследования от тормозящей инерции европоцентризма, помогла понять принципиально важное: Латинская Америка – это иная… цивилизационная модель, с иными механизмами культурообразования»[342]342
Земсков В. Б. Ибероамерика в мировом культуроцивилизационном процессе // Iberica Americans. Латиноамериканская культура в дискуссиях конца XX – начала XXI века. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – С. 8–9.
[Закрыть].
Будучи с конца 1980-х годов зампредседателя, потом сопредседателем Комиссии по изучению культуры народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки в Совете по истории мировой культуры РАН и членом редсовета журнала «Латинская Америка», он провел (с 1988 г.) ряд междисциплинарных конференций и круглых столов с участием латиноамериканистов из ИМЛИ, Института Латинской Америки, Института искусствознания, из других городов – он обладал особым даром находить и привлекать к участию талантливых ученых. И в результате издал пять коллективных сборников серии «Iberica Americans»: «Культуры Нового и Старого Света в их взаимодействии. XVI–XVIII вв.» (1991); «Механизмы культурообразования в Латинской Америке» (1994), «Типы творческой личности в латиноамериканской культуре» (1997), «Праздник в ибероамериканской культуре» (2002), «Латиноамериканская культура в дискуссиях конца XX – начала XXI века» (2009). Уже после выхода третьего выпуска «Иберики» заговорили о появлении «серьезной научной школы» отечественной гуманитарно-междисциплинарной латиноамериканистики, а выпуски «Иберики» расценили как значительное явление в российской культурологии в целом[343]343
Шестопал А. В., Прохорова Э. В. Ибероамерика: Альтернативы культуры и диалектика исторического творчества // Латинская Америка. – М., 1999. – № 2–3. – С. 70.
[Закрыть].
Разработанная В. Земсковым теоретико-методологическая основа стала фундаментом первой в мире пятитомной «Истории литератур Латинской Америки» (1985–2005); по масштабу и научным принципам она не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом. В ней представлена литература и, шире, культура 28 стран континента за 500 лет, созданная на испанском, португальском, а также английском и французском языках. Для осуществления этого проекта он собрал группу талантливых ярких ученых (А. Кофман, Ю. Гирин, М. Надъярных, И. Оржицкий и др.) и сам внес решающий вклад в осуществление этого проекта как ответственный редактор четырех томов из пяти (1985, 1994, 4-й в 2 кн. – 2004, 5-й – 2005), как автор четырех теоретических введений и трех десятков глав. Таким образом, он вывел исследование такого сложного феномена как литературы Латинской Америки на новый общекультурный цивилизационный теоретический уровень. И это был настоящий прорыв – не только в отечественной, но и мировой науке.
* * *
С чего начал Валерий Земсков? С переосмысления проблемы культурогенеза в Латинской Америке, с ключевого периода драматического межцивилизационного взаимодействия на землях Нового Света индейских, автохтонных и испаноевропейской цивилизаций, с открытия – конкисты – колонизации – христианизации, с отказа как от «черной», так и от «розовой» легенд[344]344
См.: Земсков В. Б. Введение к изданию: История литератур Латинской Америки. – М.: ИМЛИ РАН, 2004. – Кн. 1. – С. 11–13; Земсков В. Б. О некоторых методологических вопросах изучения историко-культурных отношений иберийских стран и Нового Света (к определению понятий «открытие» и «конкиста») // Iberica. Культура народов Пиренейского полуострова в XX веке. – Л.: Наука, 1989. – С. 25–35; Земсков В. Б. Введение к изданию: Некоторые актуальные вопросы межкультурного взаимодействия Нового и Старого Света // Iberica Americans. Культуры Нового и Старого Света в XVI–XVIII вв. в их взаимодействии. – СПб.: Наука, 1991. – С. 5–10.
[Закрыть]. Нужен был переход от господствовавшего в советской науке историко-социального одномерного понимания к культурфилософской оптике, показывавшей этот процесс как жестокую, но креативную драму истории, в которой действовали и деструктивные, и культуропорождающие силы. Культурно-социальные, этнические взаимоотношения, христианизация, сложно взаимодействовавшая с «доосевыми» мифологическими традициями, отношения «побежденные – победители», появление метисного населения, креольской культуры и идеологии со своим специфическим кодом – все это были факторы формирования нового культурно-психологического, ментального поля, новых культурных архетипов и комплексов. Без этого процесса не была бы возможной идеология войны за независимость от Испании, а в дальнейшем – возникновение первых вариантов основ национальных культур и образов национального мира, первого варианта латиноамериканской цивилизационной философии, которую сформулировал на рубеже XIX–XX вв. испаноамериканский модернизм в лице Хосе Марти, Хосе Энрике Родо, Рубена Дарио и др.
* * *
Наиболее острую проблему культурологической латиноамериканистской мысли (во многом она актуальна и для культурологии в целом) В. Земсков видел в более широких рамках возможности / невозможности межцивилизационного культуропорождающего взаимодействия и, соответственно, его границ, пределов, способов. Особую остроту она приобрела в европейской мысли в связи с открытием Нового Света, но теоретически была осмыслена, лишь когда экспансия Европы в Новый Свет достигла максимума, т. е. в период борьбы культурфилософских парадигм позитивизма-антипозитивизма, а затем получила развитие на новых философских основаниях (Данилевский, Шпенглер, Тойнби, Ясперс, Вебер, П. Сорокин и др.). Европейские культурологи с разных точек зрения давали крайне ограничивающие или отрицательные ответы на вопрос о возможностях межцивилизационного взаимодействия. Негативизм проявился и в латиноамериканистских исследованиях. Парадокс состоял в том, что весь мир читал латиноамериканский «новый» роман, восхищался великой латиноамериканской живописью, архитектурой, порожденными явно иным «способом бытия», дающими особый образ мира, а теоретически эта культура считалась несуществующей – для признания ее существования надо было признать простой и крайне сложный факт: она родилась в результате межцивилизационного взаимодействия. Своим существованием латиноамериканская культура опровергала «отрицательное» направление культурологической мысли. Так, грузинский философ Мераб Мамардашвили считал невозможным полноценное культуропорождающее взаимодействие «доосевых» и «осевых» цивилизаций и творчески бесплодной встречу рас и цивилизаций в Новом Свете; он определил латиноамериканскую культуру в духе шпенглеровского псевдоморфоза – как «пустоту»[345]345
Мамардашвили М. Другое небо // Три каравеллы на горизонте. – М.: Международные отношения, 1991. – С. 42.
[Закрыть]. Утверждая «пустоту» латиноамериканской культуры (сопоставимую для него с «пустотой» русской культуры), М. Мамардашвили имел в виду не отсутствие конкретных культурных форм, а отсутствие культуры как системы, дающей миру плодотворную цивилизационно-культурную парадигму. Эти идеи нашли поддержку у части латиноамериканистов, считающих латиноамериканскую культуру зависимой от культуры европейской и принадлежащей к ареалу западной цивилизации как ее периферийная зона.
Но внимательное прочтение текста М. Мамардашвили убедило В. Земскова в том, что, отвергая плодотворность межцивилизационного контакта в Латинской Америке, философ в то же время противоречил себе, метафорически утверждая его результативность: «…испанцы подавили автохтонную культуру… уселись на ней… и это проникло в кровь», «испанцы уселись на индейцах, и получился кентавр»[346]346
Там же – С. 50.
[Закрыть]. А ведь «кентавр с иной кровью» – это существо, имеющее свою сердцевину, «иные» связи с «землей» и «небом». Мифологема кентавра – ключевая в латиноамериканской топике и выступает часто именно как знак латиноамериканца, плода межцивилизационного взаимодействия. Естественно, у В. Земскова возник вопрос: не является ли негативное отношение к возможностям межцивилизационного взаимодействия в значительной мере результатом аберрации европоцентристского сознания?
Изучение ученым природы межцивилизационного взаимодействия выдвинуло на первый план ключевое, на его взгляд, понятие «культурного синтеза», указывающее общий вектор и смысл развития, тогда как конкретное взаимодействие и культурогенез осуществляются на разных уровнях культуры и в различных ее видах не через один, а через различные механизмы. С этой точки зрения, конечно же, прямое применение понятия культурного синтеза для интерпретации и характеристики механизмов культурогенеза неприемлемо. В культурных отношениях невозможно равнодолевое участие исходных компонентов в формировании нового явления. В цивилизационно-культурных отношениях одна из сторон всегда выступает в качестве инициативного суперстрата, а другая – в роли воспринимающего инерционного субстрата, и важнее та сторона, чьи цивилизационные матрицы кладутся в основу. Решающее значение для определения цивилизационно-культурного типа имеет степень инициативности центрового цивилизующего начала, каковыми являются мировые религии или религиозно-мифологические комплексы. И язык культуры тут – фактор более важный, чем язык в лингвистическом смысле.
Масштабный анализ межцивилизационного взаимодействия в Новом Свете в рамках мирового процесса позволил В. Земскову определить суть произошедшего там. Известны, по крайней мере, три крупных периода межцивилизационного / межкультурного взаимодействия: 1) взаимодействие «доосевых» (по Ясперсу) культур древности; 2) период, когда главная цивилизующая сила – «осевые» культуры; 3) выдвижение христианской цивилизации как основной динамической силы мировой истории (с периода Нового времени). В европейском цивилизационном типе ключевым является наложение греко-иудейско-римской матрицы, выступающей в качестве суперстрата, на «языческие», т. е. нехристианские, культурные миры, а разделение христианской матрицы на два вида (западная и восточная) и различие способов их взаимодействия с культурным субстратом порождает внутри единого цивилизационного круга множество вариантов культур. Продолжением этого процесса, захватившего в Европе I – начало II тысячелетий н. э., и стали культурообразующие процессы, начавшиеся с открытием и конкистой Нового Света и кампанией христианизации коренного населения. Хотя разрыв во времени между завершением христианизации окраин Европы (Русь, Скандинавия) и началом христианизации Нового Света с точки зрения исторических масштабов небольшой (пять-шесть столетий), но характер межцивилизационного взаимодействия на заре Нового времени совершенно иной. Перенос европейской культурной традиции в Новый Свет, христианизация Америки происходят уже в кризисный век Ренессанса, в период гуманизации культуры, быстрого роста ее самосознания, что сказалось на сущности того нового культурного типа, который складывается в Латинской Америке.
Другой важнейший фактор – огромный разрыв в историческом возрасте субстратного (автохтонного) и суперстратного материала (европейского). Ученый обнаружил в Новом Свете уникальную культурогенную ситуацию, определившую принципиальное отличие культуропорождающих процессов и максимальное напряжение на полюсах исторического возраста (встреча современности с древностью / юностью), к тому же не имевшую ранее никаких иноцивилизационных связей за пределами своей среды обитания. То есть В. Земсков рассматривает процесс культурообразования в Латинской Америке как открытую для чтения историю межцивилизационного взаимодействия.
* * *
В чем В. Б. Земсков увидел специфику латиноамериканского культуростроительства? Еще в 1977 г. в книге «Аргентинская поэзия гаучо. К проблеме отношений литературы и фольклора в Латинской Америке»[347]347
Земсков В. Б. Аргентинская поэзия гаучо. К проблеме отношений литературы и фольклора в Латинской Америке. – М.: Наука, 1977. – 222 с.
[Закрыть] он выяснил, что испанский фольклор не стал фольклором Нового Света. Сама испанская литература, как известно, выросла на богатейшей фольклорной почве, на древнем метафорическом, лирическом и эпическом арсенале. В Новом Свете этого не было. К середине XVI в. испанский фольклор представлен там фрагментарно, осколками, отдельными цитатами. Привычная, типичная для древних литератур схема: «сначала» фольклор, «потом» литература – заменяется на инверсию «сначала» литература – хроники, «потом» фольклор. И эта причудливая по европейским меркам инверсия – свидетельство особой роли словесности, ибо именно на нее возложено создание основ культуры и цивилизационной «картины мира». В хрониках XVI–XVII вв. Слово обрело жизнетворческий статус поименования «вещей», определения и интерпретации мира – от природы до культуры. Литература, наделенная креативной инновационной функцией, выполняя роль «вторичного» эпоса, создала таким образом новое культурное сознание, которое начало рефлектировать по поводу этого мира и новой цивилизационно-культурной общности. Иными словами, здесь создавалась не просто литература, а другой мир, и литература была важнейшим инструментом его творения. Таким образом, латиноамериканской культуре в период ее формирования (вплоть до XX в.) имманентно присуща радикальная литературоцентричность. Этот феномен известен и другим культурам (например русской). Но латиноамериканский литературоцентризм был более всеохватным – латиноамериканская словесность, как замечает В. Земсков, «от начал» творит новый, свой Логос. «Новый» латиноамериканский роман середины и второй половины XX в. завершает историческую миссию и создает универсально значимую картину мира Латинской Америки, замкнув начала и концы латиноамериканского культурно-исторического континуума от XVI до конца XX в.