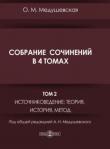Текст книги "Гуманитарное знание и вызовы времени"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Светлана Левит
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
К числу ключевых проблемных областей гуманитарного познания с этих позиций должны быть отнесены: основы социальной и культурной адаптации индивида в условиях быстрых социальных изменений; конструирование информационной картины мира и социальной реальности по таким параметрам как пространство (географические рамки диалога цивилизаций), время (представления о прошлом и настоящем, основанная на них картина будущего); смысл существования (когнитивные основы мотивации поведения). Поставив вопрос о том, что такое человек, О. М. Медушевская определяла его как живую систему, которая способна превращать энергию своего мышления в материю интеллектуального продукта. И не просто способна это делать, но не может существовать иначе. Возникает вопрос о том, как человек познает свою историю, каков макрообъект истории как науки. История – эмпирическая наука и она познаваема путем обращения к целенаправленно создаваемым продуктам человеческой деятельности, выступающим в качестве исторических источников.
В рамках этой теории в трудах О. М. Медушевской завершающего периода творчества проанализированы такие проблемы, как информационный обмен; соотношение динамической и статической информации; психические параметры коммуникативного процесса и его инструментов; отчуждение информационного ресурса; когнитивные механизмы постижения смысла; фиксация информации и формирование картины мира; понимание и объяснение; значение когнитивной теории для научного сообщества и гуманитарного образования. Эти направления исследований представлены на основании широкого междисциплинарного синтеза и опираются на достижения философии, социологии, антропологии, структурной лингвистики, истории, исторической географии, источниковедения, документоведения, архивоведения и всего круга вспомогательных исторических дисциплин.
На основе теории когнитивной истории становится возможным выстраивание методов и критериев доказательности и проверки знания; научное конструирование – построение модели (схематически выраженной ситуации информационного обмена) для создания логически непротиворечивой концепции социального (исторического) процесса и прогнозирование – аналитический вклад, в ходе которого выявляются фазы процессов, прошедших в прошлом, и просчитывается наступление последующих фаз аналогично протекающих процессов. Этот подход вполне реален в науках о природе и применим по отношению к живым системам (наукам о живом). Но он (вопреки известному неокантианскому противопоставлению номотетических и идиографических наук) осуществим и в сфере гуманитарного знания. Познаваемость социального (исторического) процесса определяется тем, что созданные интеллектуальные продукты выступают как неотъемлемая составляющая любой целенаправленной деятельности. Это дает истории стабильный, вещественный, доступный непосредственному изучению реальный объект, а следовательно, открывает перспективы полноценного диалога культур с позиций сравнительно-исторического, структурно-функционального и антропологического подходов в режиме настоящего времени.
В науках о человеке присутствует осознанная человеческая ориентированность на прожитый опыт, обобщенный в научном знании, и стремление избежать его негативных последствий. Человечество – открытая система и здесь возможно лишь «упреждающее прогнозирование». Эту функцию и берет на себя наука о человеке, особенно социология истории и историческая наука в ее широкой трактовке. В этом состоит значение когнитивной истории – теоретического течения современной мысли, направленного на создание стройной и логически непротиворечивой концепции социального познания.
А. П. Люсый. География текстуальной революции: междисциплинарные исследования локальных текстов культуры
Петербургский текст: эксклюзивность и революционностьОдно из самых заметных явлений в гуманитарных науках последних десятилетий – концептуализация локальных текстов культуры (сверхтекстов, супертекстов). Цепная реакция этого процесса характеризуется нами как «текстуальная революция».
Культура в пространстве и времени мыслит «текстами»: сгустками «образов, мотивов, идеологических установок». В географии аналогом такой культурологической единицы можно назвать концептуализированный Б. Б. Родоманом «картоид» и стимулированное этим «картоидное» мышление[291]291
Родоман Б. Б. География, районирование, картоиды: Сб. трудов. – Смоленск: Ойкумена, 2007. – С. 368.
[Закрыть], постигающее «полимасштабность ландшафта»[292]292
Каганский В. Л. Мир культурного ландшафта // Наука о культуре. Итоги и перспективы / РГБ (Информкультура). – М., 1995. – Вып. 3. – С. 41; Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. – М.: Новый хронограф, 2008. – С. 89–100.
[Закрыть]. В отличие от «картоидов», не все тексты культуры имеют локальную привязанность. Текст может быть петербургским, московским (что, впрочем, едва ли не наиболее проблематично), крымским, но также аптечным и больничным, евангельским и пушкинским. Но в любом случае человеку культуры свойственно не просто организовывать свое пространство, но делать это символически.
Само российское пространство предопределило этот факт – наиболее проработанными в научном плане являются на данный момент сверхтексты, порожденные топологическими структурами. «Текстуальная революция» в России отличается от региональных исследований на Западе тем, что каждый региональный текст представляет собой не какую-то сугубо региональную точку зрения, а попытку концептуального «выворачивания» всей России через себя. Д. Н. Замятин отмечает, что наиболее значимые в образно-символическом смысле природные или культурные ареалы какой-либо страны могут иногда выступать в качестве образа всей страны, акцентируя внимание на наиболее ярких и существенных чертах. Так, в русской поэзии Урал часто рассматривался как символ мощи Российской державы, а Сибирь – как символ неосвоенности и дикости[293]293
Замятин Д. Н. Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности. – СПб.: Астерион, 2004. – С. 45.
[Закрыть]. О. А. Лавренева обобщает идеи об информационном характере образа места как особой знаковой системе культурного ландшафта, в которой, в зависимости от смыслового содержания, можно выделить символьные, иконические и индексальные знаки-топонимы. «Наиболее значимы в национальной и мировой культуре символьно-индексальные знаки, в которых визуальные, событийные, исторические характеристики оказываются неразрывно связаны с местом и его топонимом»[294]294
Лавренева О. А. Образ места и его значение в культуре провинции // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 417–418.
[Закрыть].
Локальный текст представляет собой культурную реализацию локального мифа, последовательное развитие той или иной темы на основе определенных смысловых и стилистических «ядерных» констант, предусматривающих постоянное «самоцитирование» и даже самозамыкание в «концентрическом круге самоанализа»[295]295
Топоров В. Н. Петербургский текст. – М.: Наука, 2009. – С. 211.
[Закрыть]. Это определение охватывает два явления. «Во-первых, так может быть назван текст о некоторой определенной местности, имеющий общее, не местное значение, как, например, крымский текст. Во-вторых, так может быть назван текст, обслуживающий только определенную местность и практически не актуальный за ее пределами; таков, например, любой текст о каком-нибудь районном городе, пускай даже имевшем славное и общезначимое прошлое, новоторжский текст. Современная практика изучения локального текста дает достаточно четкое ощущение того, что при его исследовании на первый план выходит не только “значимость” культурного пространства (предполагающая определенным образом совершенно естественное обозначение оппозиции “столица – провинция”), а “техника” его описания (интерпретации / толкования), т. е., по сути, мастерство его “толкователя” (и созидателя – если он этого хочет – одновременно). И это достаточно серьезный стимулирующий фактор»[296]296
Юхнович В. И. Еще немного о локальном тексте // Старорусские университетские чтения «Социально-экономические, исторические и культурные аспекты регионального развития»: Сборник материалов II Межрегиональной научно-практической конференции преподавателей и аспирантов, 18 мая 2011 г. – Старая Русса: МУП «Старорусская типография», 2011. – С. 310.
[Закрыть].
Механизм становления локального текста подчинен схеме «вызов – ответ». В каждом из этих текстов возникает внутреннее напряжение между внешним (классическим, «столичным») взглядом и внутренним, «местным» ответом. Пространственная контекстуальность Петербурга стала выражением исторического предопределения. Город возник как «ось времени», относительно которой формируется в качестве «композиционного целого» полутысячелетний период отечественной истории с его проекцией в будущее. Закладка новой столицы происходила «перед лицом всей Европы» и имела форму «исторического ответа». Петербург – артикуляция симметрично-неравноправного «имперского диалога». В «симметрии» Невского проспекта расставлены неслучайные смысловые акценты, притом что приоритеты политического экономического партнерства не могли распространяться на равенство позиций в сфере духовной (кумира на бронзовом коне и местного маргинала Евгения).
Ответом на имперский романтический («туристический», по определению М. А. Волошина) миф Тавриды стал «внутренний» миф Киммерии[297]297
Волошин М. А. Коктебельские берега. – Симферополь: Таврия, 1990. – С. 217.
[Закрыть], который, впрочем, А. А. Ахматовой тоже казался неуместным «вызовом», почему она полемически идентифицировала себя в своем крымском измерении как «последняя херсонидка»[298]298
Найман А. Г. Рассказы об Анне Ахматовой. – М.: Zebra E, 2009. – С. 240.
[Закрыть]. Ответом на поверхностно-идеологическое рассмотрение Сибири представителями русской классической литературы, позволявшей, в частности, Л. Н. Толстому стать «толстовцем», было литературное и общественное движение «областничества». Урал – тоже место поиска общей, но «геологически обоснованной истины»[299]299
Славникова О. А. 2017: Роман. – М.: Вагриус, 2006. – С. 78–79.
[Закрыть]. В конечном счете самой концепцией петербургского текста В. Н. Топоров бросил методологический вызов России[300]300
Топоров В. Н. Петербургский текст. – М.: Наука, 2009. – С. 211.
[Закрыть], и та ответила ему текстуальной революцией гуманитарного знания.
Вызов В. Н. Топорова заключался в заявленной эксклюзивности данной концепции, постулирующей ее «непереносимость» на другие пространства. Ответ – в повсеместном учреждении разнообразных локальных «текстов культуры» разного уровня и масштаба. Внимательное изучение данных наработок позволяет сделать вывод о том, что, как правило, весь уже накопленный здесь материал является не поверхностным подражанием, как это может показаться на первый взгляд, а ответом самого российского пространства, со всеми его особенностями, и всего ранее сформировавшегося комплекса гуманитарного знания на глубинные потребности национального семиозиса. В то же время учреждение локальных текстов культуры нередко обнаруживает (выражение Э. Гуссерля) принципиальную методологическую наивность, которая отличается от обыденной наивности лишь тем, что является «наивностью более высокого ранга»[301]301
Husserl E. Formale und transcendentale Logik. – Halle, 1929. – P. 2; Свасьян К. А. Феноменологическое познание. – Ереван, 1987. – С. 77.
[Закрыть] (что, в частности, проявляется в смешении тематических и текстуальных аспектов в процессе проблематизации предмета исследования). Возникновение каждого нового типа семиозиса и семиосферы представляет собой не что иное, как семиотическую мутацию[302]302
Гриценко В. П. Культура как знаково-семиотическая система: Автореф. дис. … докт. филос. наук. – М., 2000. – С. 11.
[Закрыть]. Сама по себе семиотическая мутация возникает в ситуации, описанной А. Тойнби как механизм «Вызова-и-Ответа»[303]303
Тойнби А. Избери жизнь. Диалог Арнольда Тойнби и Дайсаку Икеды. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 448 с.
[Закрыть]. В общем же механизме поиска, отбора и внедрения семиотической мутации видится аналогия с синергетическим механизмом самоструктурирования социума.
Некоторые филологи держат текстологическую оборону, пытаясь построить разделительную филологическую «решетку», охраняющую наследие ученого («строгую» филологию) от вольной интерпретации («популярной культурологии») и использования применительно к иным пространствам. Между тем сам В. Н. Топоров не только отстаивал уникальность петербургского текста, но и обучал желающих правилам выхода за его пределы, не боясь «сорваться с проспекта прямо в метафизику»[304]304
Топоров В. Н. Петербургский текст. – М.: Наука, 2009. – С. 657.
[Закрыть]. Эта «метафизика» выхода на оперативные просторы новой «русской теории» (как можно закрепить данное, по-разному используемое ранее понятие именно за текстологической концепцией русской культуры в ее локальном измерении) получает мощную концептуальную поддержку в других работах этого ученого.
«Даже в этом неполном виде (т. е. еще не столь семантически насыщенном, как пространство Петербургского текста. – А. Л.) портрет Земли весьма информативен, – пишет он в статье “К реконструкции балто-славянского образа земли-матери”. – Он характеризуется двумя сотнями ключевых слов, которые в сочетании с словом Земля и некоторыми другими словами – как полнозначными, так и служебными – образуют большое количество контекстов… Из этих контекстов легко составляются тексты, чаще всего вполне самодостаточные. Одни из этих текстов довольно близки (или даже просто тождественны) известным и реально засвидетельствованным текстам, другие дают возможность реконструировать “потенциальные” тексты, которые некогда могли существовать, но в русской или славянской традиции не сохранились. Тем более важны такие потенциальные “микротексты”, если они находят подтверждение в родственных культурно-языковых традициях – балтийской, древнеиндийской, древнеиранской, древнегреческой, древнегерманской и других, и в таком случае позволяют приблизить потенциальную реконструкцию неизвестного славянского фрагмента к реальной… Учитывая множество подобных “микротекстов” и целый ряд некоторых более пространных текстов, можно утверждать, что в распоряжении исследователя оказывается и значительная часть морфологического инвентаря и даже ряд синтаксических схем, а иногда и некоторые элементы поэтики соответствующих текстов, что также повышает надежность реконструкции»[305]305
Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. – М.: Языки славянской культуры, 2010. – Т. 4, Кн. 1. – С. 272–273.
[Закрыть]. «Реконструкция» места В. Топорова – типологический ответ на вызов М. Хайдеггера, настаивавшего на том, что наш язык и наши земные пределы – это та открытость, в которую мы выходим по ту сторону нашего собственного «я», наших привычек, истории и мира как такового. «Наше место – в той темной и расплывчатой экстратерриториальности, которая и есть теперь фундамент нашего дома. Таковы исторические координаты земного существования, которое настойчиво вопрошает нас, не предлагая комфорта воспроизводства тех готовых локальных истин, которых мы жаждем, тех “истин”, которые только укрепляют нас в нашем эгоизме и ставят нас в центр мира. Именно эту экстратерриториальность, открытость Хайдеггер называет местом нашего бытия»[306]306
Чемберс Й. Рамки земли: Хайдеггер, гуманизм и «Дом» // НЛО. – М., 2012. – № 114, № 2. – С. 41.
[Закрыть].
Методы считывания В. Н. Топоровым «текстов земли» «сверху» и их практическая концептуализация и полевые исследования Д. Н. Замятиным, О. А. Лавреневой, И. И. Митиным, И. П. Глушковой и др. «снизу» вполне соответствуют расширенному пониманию текстуальности в проекте социологии культуры А. Реквица, который излагается в статье немецкого слависта Д. Бахманн-Медик «Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии. Вызовы, границы, перспективы» (представляющей собой специально подготовленный для российского читателя вариант послесловия к ее книге «Культура как текст»). Проект нацелен на понимание текстов через «теорию практик», именно в этом направлении интерпретируя «культуру как текст» – не под знаком «чистого резервуара значений», а в качестве «смысловых образцов как “моделей, руководящих действиями”, или как “совокупности диспозиций действия”»[307]307
Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии. Вызовы, границы, перспективы // НЛО. – М., 2011. – № 107, № 1. – С. 35.
[Закрыть].
Текстуальная революция имеет свои горизонтальное и вертикальное измерения. Единый текст культуры – это осмысление рефлексий по поводу культуры и в то же время творческая потенция в самореализации культуры. В качестве самых объемных текстуальных оппозиций русской культуры предстают: «горизонтальная», становящаяся все более абстрактной оппозиция Восток – Запад и менее идеологизированная, исторически первичная внутри, культурная «вертикальная» оппозиция Север – Юг (с ее «северным» и «южным» текстами).
«”Парадигма” противостояния России “Западу” как целому, – отмечает Ю. Левада, – оформилась лишь в XIX веке, после наполеоновских войн, и обладает многими характеристиками позднего социального мифа… Образ “Запада” во всех его противостояниях (официально-идеологическом, рафинированно-интеллигентском или простонародном) – это прежде всего некое превратное, перевернутое отображение своего собственного существования (точнее, представления о себе, своем). В чужом, чуждом, запретном или вожделенном видят прежде всего или даже исключительно то, чего недостает или что не допущено у себя. Интерес к “Западу” в этих рамках – напуганный или завистливый, все равно – это интерес к себе, отражение собственных тревог или… надежд»[308]308
Левада Ю. Советский человек и западное общество: Проблема альтернативы // Левада Ю. Статьи по социологии. – М.: Изд. фонда Макартуров, 1993. – С. 180–181.
[Закрыть]. Этот, по выражению Левады, «комплекс зеркала» объясняется многими критическими переломами и перипетиями русской истории и культуры.
Взаимодействие самых общих культурных текстов – северного и южного – осуществляется и в текстах иного уровня. Поморская культура как квинтэссенция северного текста возникла в результате колонизации пришлым русским населением северных территорий. Но это был особый тип колонизации, важнейшей стороной которой была «монастырская колонизация» преимущественно безжизненных и малонаселенных просторов, хотя известны и эпизоды этнических конфликтов.
«Русское население, пришедшее на Север с более южных территорий, не только создает новую систему жизнеобеспечения, более адекватную, чем их традиционная, в новой для него вмещающей среде, но и “строит” во взаимодействии с местным населением свою сакральную среду – среду своей собственной культуры, воспроизводя тем самым воплощенную в совокупности культовых сооружений духовную ее составляющую. Таким образом, природный ландшафт превращается в культурный ландшафт, который включает в себя как профанную, так и сакральную части. Последняя является для пришельцев вещественно реализованной “картиной Мира”, и на ее создание тратится заметная доля общественных энергоресурсов»[309]309
Культура русских поморов / Базарова Э. Л., Бицадзе Н. В., Окороков А. В., Селезнева Е. В., Черносвитов П. Ю. – М.: Научный мир, 2005. – С. 153.
[Закрыть]. В целом процесс освоения Севера порождался не «материальными» (в широком смысле слова) интересами или нуждами человека, а преимущественно духовными. На Север изначально шли не столько колонисты, сколько люди, руководствующиеся православной идеей поиска Града Небесного, Царства Божия на Земле. Материальные интересы играли тут второстепенную роль.
Южный вектор имел в русской культуре более прагматичную направленность.
«Море – наше поле», – берет на историософское вооружение поговорку архангельских поморов писатель XX в. Борис Шергин. «Не по земле ходим, но по глубине морской». Отчасти это напоминает «геософию» «южанина» Максимилиана Волошина. «Материк был для него стихией текущей и зыбкой – руслом великого океана, по которому из глубины Азии в Европу текли ледники и лавины человеческих рас и народов. Море было стихией устойчивой, с постоянной и ровной пульсацией приливов и отливов средиземноморской культуры.
“Дикое Поле” и “Маре Интернум” определяли историю Крыма.
Для Дикого Поля он был глухой заводью».
Но в отличие от «земного» Волошина для Шергина именно море – изначальная стихия русской души как таковой, ее «твердый фундамент», материк, а также «души… строитель». Причем не какое-то «внутреннее» и по-нутряному теплое Средиземное море, а распахнутое «великое море Студенец-окиан».
У Пушкина из места «вывернутой» полночно-полуденной (северо-южной) ссылки (крайний юг Южного полушария, вблизи которого находится пустынный остров Святой Елены – зеркальный аналог Овидиевого «севера») выводится обнадеживающая для полунощной страны весть.
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Еще далее продвинулся Пушкин в этом направлении в повести «Капитанская дочка». Пугачёв здесь при первом своем появлении как будто бы сгустился из снежной бури: «Я ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели… Вдруг увидел я что-то черное… Ямщик стал всматриваться: “А бог знает, барин… Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек”». То же, кстати, и в «Бесах»: «Что там в поле, пень иль волк?»
Таким образом, пугачёвщина предстает полнощной изнанкой российской истории, готовой сокрушить не только искусственно-стройный город, но и искусственно-стройное государство, созданное той же самой историей. Петр в «Медном всаднике» воплощает в себе обе ипостаси России. Во вступлении к поэме он присутствует как исторический человек. В основных частях поэмы – как наводящий ужас истукан. Между прочим, не столько усмиряющий возмущенные волны, сколько провоцирующий и вдохновляющий их буйство своей простертой дланью.
«Основная идея заключается, стало быть, в том, что созидательная сторона истории отождествилась у Пушкина с темой полдня природы, тогда как разрушительная историческая стихия – с полнощной фазой российского природного круга. Обе исторических ипостаси оказались встроены в очертания циклического времени – основной источник гармоничной ясности пушкинского искусства. Иными словами, утверждающееся новое необратимое время осознано как сторона кругового и как бы вобрана в его очертания. В последующие десятилетия историческое время станет у русских художников единственным, о круговом времени уже никто и не вспомнит. Но вместе с ним уйдет и уникальная мера и ясность пушкинского художественного строя»[310]310
Поспелов Г. Полнощный и полуденный края в мироощущении пушкинской эпохи // Искусствознание. – М., 1999. – № 2. – С. 296.
[Закрыть].
Издатель журнала «Телескоп», рискнувший начать публикацию «Философических писем» Чаадаева, Николай Надеждин, в статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (1836) полагал, что русский язык, «запечатленный клеймом Севера», вышедший «из благодатных недр задунайского Юга», «раздающийся… от хребтов Карпат до хребтов Саяна, от моря Белого до моря Черного», является главной объединяющей силой, повлиявшей на развитие литературной истории. «Удаление Московии во глубину Севера и разрыв прежних тесных связей с Югом», по мысли Надеждина, «застудили русскую речь в совершенно полночные формы», но язык укрепился, «изъявил права на самобытное существование», «мало-помалу завладел особым отделом письменности, где достиг наконец значительной степени выразительности и силы»[311]311
Орехова Л. А. Север и Юг в биографии Н. И. Надеждина: Мифологический и архивно-фактографический аспекты // Северный текст в русской культуре: Материалы международной конференции, Северодвинск, 25–27 июля 2003 г. / Отв. ред. Н. И. Николаев. – Архангельск: Поморский университет, 2003. – С. 47.
[Закрыть]. По мнению Надеждина, Ломоносов, «сын холодного Севера, представитель русского бесстрастного здравомыслия», слепил из русского языка мозаику («Российская грамматика»).
Для Гоголя северо-южный инициальный проект в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», по замечанию И. Поплавской, воспроизводит в отдельных деталях структуру волшебной сказки, включая в себя четыре основных момента: уход героя из дома, поиск волшебного помощника, временную смерть, за которой следует воскресение, а затем возвращение на родину[312]312
Поплавская И. А. Мифопоэтика сюжета путешествия в раннем творчестве Н. В. Гоголя («Ганц Кюхельгартен», «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Святоотеческая традиция в русской литературе. – Омск: Тип. ООО Вариант-Омск, 2005. – Ч. 2: Литература как культурный феномен.
[Закрыть]. В контексте ветхозаветной гностической традиции путешествие Вакулы из Диканьки в Петербург осмысляется в пространственном отношении как движение с Юга на Север, где Юг символически соотносится с Западом, а Север – с Востоком. При этом образ Диканьки выступает как своеобразный центр западного мира, который имеет тенденцию к неограниченному расширению как во внешнем, так и во внутреннем плане. Так, упоминание в повести сорочинского заседателя и шинкаря из Нежина, городов Миргорода и Полтавы формирует характерную центробежную пространственную модель повести. Напротив, подробное описание внутреннего убранства диканьской церкви, хат Чуба, Солохи и Пацюка обнажает центростремительные пространственные связи. Эти противоположные тенденции создают целостный и одновременно внутренне противоречивый мир, онтологическая сущность которого определяется через распадение слова и дела, намерения и поступка. Приказание же Оксаны достать ей сапоги, которые царица носит, воспринимается как словесный императив для героя, заставляющий его отправиться в Петербург, который так же, как и Диканька, оказывается целостным и в то же время внутренне поляризованным миром. С одной стороны, Петербург как русский аналог Иерусалима, как средоточие земной Премудрости органично совмещает в себе слово и поступок, становится своего рода символом исполненного слова. Вместе с тем проводником героя в Петербурге выступает черт. Возвращение же затем в Диканьку описывается как и реальное, и метафизическое воскресение. Так через пространственное движение главного героя с Юга на Север и обратно раскрывается своеобразие трактовки писателем гностического. Подчеркивается равнозначность и Диканьки, и Петербурга в плане обретения героем высшего знания. В параллельной христианско-мифологической традиции путешествие героя с Юга на Север соотносится с картинами Страшного суда и ада, находящихся соответственно в правом и левом притворах диканьской церкви. При этом правая сторона воспринимается в повести как аналог Севера и Востока, а левая – Юга и Запада. Пространственная симметрия, объединяющая в повести Север (Петербург) и Юг, Восток и Запад, проецируется на ключевые символы Священной истории.
Бегло отметим и другие примеры организации художественного пространства по указанной вертикали. Афанасий Фет в стихотворении «Снега» так выражает свои гео– и климатопоэтические предпочтения:
Я русский, я люблю молчанье дали мразной,
Под пологом снегов как смерть однообразной…
Однозначно был «вреден север» для Осипа Мандельштама. Петербург превращается у него в Петрополь – прозрачное и призрачное царство умирающей культуры, поглощаемое хаосом географически не локализованного моря. Море с положительными коннотациями – всегда южное. Его образ ассоциируется с мифологической античностью, легко переключаясь в иносказательный план – от «житейского моря» до «свободной стихии».
В статье «Слово и культура» Мандельштам описывает «Траву на петербургских улицах – первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов»[313]313
Мандельштам О. Слово и культура // Собр. соч.: В 4 т. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. – Т. 2: Стихотворения. Проза // Сост. и коммент. П. Нерлера и А. Никитаева. – С. 167.
[Закрыть]. Любопытна перекличка этой эсхатологической картины гибели старой и зарождения новой одухотворенной природы с описанием разоренного, но вполне практического рая в заметке «Ползучий кустарник» (лето 1921 г.) Александра Грина. Здесь тоже описан феномен 20-х годов – нашествие травы на улицы Петербурга – «казалось, произойдет зарастание исторических городских перспектив лютиками, ромашкой и колокольчиками»[314]314
Грин Н. Н. Из записок об А. С. Грине // Воспоминания об Александре Грине. – Л.: Лениздат, 1972. – С. 527.
[Закрыть]. Речь не идет о влиянии или заимствовании. Грин, погруженный в пространственный шум времени и знакомый с разными способами его интерпретации, вполне в духе времени отдает дань и бытовому натурализму, и романтизму, и символизму, дополняя эклектизм эпохи эклектизмом беллетристическим. Однако пространство во всех типах повествования Александра Грина, имея жизнеподобные очертания, подчиняется вполне традиционной оппозиции север – юг. В бытовых рассказах, как отмечено Н. А. Петровой, действие обычно происходит на севере, в фантастических – в южных приморских городах, в фантасмагорических – север и юг смыкаются в едином топосе (север смешался с югом в фантастической и знойной зиме; Юг, смеясь, кивнул Северу)[315]315
Петрова Н. А. Структура пространства в «Фанданго» А. Грина // Алфавит: Строение повествовательного текста. Синтагматика. Парадигматика. – Смоленск: СГУП, 2004. – 416 с.
[Закрыть].