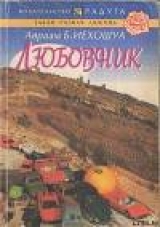
Текст книги "Любовник"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Адам
Но почему же не описать ее со всеми подробностями, ничего не скрывая, предельно точно? Может быть, я боюсь думать обо всем? Однако чего же, в сущности, я от нее хочу, ведь и я тоже изменился, нельзя сохранить юность навеки, да и не этого ищешь. На стенах гаража рабочие вешают фотографии обнаженных девиц, которые они вырывают из журналов. Я ничего им не говорю, это не мое дело, и если так им на работе веселей – чего же лучше? Но Эрлих нервничает, вмешивается, завел свою собственную цензуру, решает, что можно, а чего нельзя, срывает фотографии, которые кажутся ему слишком смелыми, гневно протестует со своим немецким акцентом: «Пожалуйста, только не эту мерзость, без пар. Что-нибудь эстетическое…» А рабочие хохочут, насмехаются над ним, начинают спорить, стараются выхватить у него сорванную фотографию, весь гараж покатывается со смеху, работа прекращается, молодые ребята стоят и смотрят раскрыв рот. Я приближаюсь к собравшимся, не вмешиваюсь, конечно, рабочие улыбаются мне и постепенно возвращаются к работе, я смотрю на фотографии – молодые, гладкие тела, бесконечные вариации на одну и ту же тему. Несколько фотографий висят здесь уже лет десять-пятнадцать. Девушки, которые успели превратиться в толстых женщин, постарели, может быть, и умерли, превратились в прах, а здесь, на покрытых копотью стенах, они вечно молодые, и Эрлих стоит возле меня, покраснел, то ли сердится, то ли улыбается, смотрит на разорванную фотографию в своей руке, старый греховодник, он еще сохранил желания. Подмигивает мне: «Проказники, хотят превратить гараж в дом терпимости».
Но меня это все не трогает, во мне как будто исчезло всякое желание. Уже после рождения Дафи почувствовал я первые признаки, наступило вдруг глубокое разочарование, я пожалел: зачем настоял я на своем, ведь мальчика все равно не вернешь, и почему мы не расстались тогда?
Я замечаю, что Ася вернулась к обычному распорядку жизни, словно позабыла все, и новая, незнакомая страстность проснулась в ней. Она ищет моей близости при каждом удобном случае. Иногда сидит на кровати голая, читает газету и тихо ждет меня, а когда я беру ее, вся загорается, но и быстро успокаивается, как бы сама собой, не обращая на меня внимания.
Я начал вести себя грубо, но это ее не трогает. Намеренно заставляю ее ждать, иногда оставляю ее посредине, жестокость, которой я в себе и не подозревал, захлестывает меня, я опасаюсь, что она будет расти, но Ася все еще тянется ко мне, жестокость не отталкивает ее, может быть, даже наоборот.
Я начинаю отдаляться, изменяю свои привычки, рано ложусь спать, гашу свет, укрываюсь одеялом, притворяюсь спящим, встаю на рассвете и ухожу. Она пытается сблизиться со мной, но боится показаться настырной и в конце концов отстает. В те дни она снова похудела, вся как будто усохла. В ее теле, всегда наклоненном от быстрой походки, которую она выработала у себя, появились первые признаки костлявости.
Она потеряла всякую надежду, входит ночью в спальню и не зажигает свет, чтобы не разбудить меня, но иногда я вдруг встряхиваюсь, прижимаю ее к себе, пытаюсь ласкать ее, на что она шепчет: «Не надо себя насиловать», а я отвечаю: «Я и не насилую», а сам ищу зеркало в комнате, чтобы увидеть то, чего я не чувствую.
Ведуча
Ряды растений, фруктовый сад, плантация цитрусовых, поле пшеницы и посередине что-то большое и старое. Банан? Арбуз? Старый темный баклажан. Низкий куст, сухой и ветвистый, воткнут в кровать, набросили на него пижаму и халат. Под простыней маленькие и кривые корни, как узловатые большие пальцы ног, большой ствол – мягкий влажный шар, и из него торчат две жилистые ветви, на которых застыл тонкий слой смолы. Легкий мох покрывает верхушку из белых листьев.
Думает древнее растение, будет ли оно расти ввысь до потолка или, быть может, пробьется через окно наружу, вырвется на солнце, даст цвет и плод.
Приходят, вливают кашу в упрямое растение, поят желтым чаем. Растение молча впитывает, чувствует лишь, как солнце переходит от окна к окну, пока не исчезнет. Ночь. Растение в темноте. Но дверь открывается, и сквозняк обвевает просыпающееся растение. Ветер пробегает между ветвями, проникает до корней. Дверь закрывается, ветер застрял внутри растения, и оно как будто раскачивается само собой. Кора шелушится, истончается, мох превращается в волосы, смола – в кровь, ствол становится мягче, полый внутри, начинается какой-то свист, идущий изнутри, ветер входит, ветер выходит и снова входит. Растение орошает само себя, выделяя тонкую струю жидкости, растение издает звуки, ветер душит его. Два желудя пробиваются в кроне, становятся прозрачными, застывшее стекло воспринимает свет, нежные, покрытые волосиками листья слышат голоса. Растение чувствует свой запах, ощущает во рту горьковатый вкус разрезанного листа. Голод, жажда, ощущения. Начинает стонать: а-а… а-а-а… о-о… – стон зверя, превратившегося в растение.
Дафи
Всегда там полумрак, потому что квартира – на первом этаже, воткнутом прямо в склон горы, но еще – из-за занавесок, которые застят свет, и слабых лампочек, потому что мама у нее экономная, но вот почему она не проветривает комнаты – ведь воздух ей ничего не стоит… Тяжелый запах духов, духов каких-то нечистых. Когда мы с Оснат приходим туда, у нас портится настроение уже на лестнице, поэтому мы почти не ходим к Тали, только если она больна.
На ней всегда один и тот же старый халат с оторванной пуговицей, отчего полы расходятся, и в прорехе видны ее громадные груди. Большая опустившаяся женщина со светлыми тусклыми волосами, распущенными по плечам. Может быть, когда-то она и была привлекательной, но сейчас такая зануда, ужасно действует на нервы, открывает дверь и смотрит на нас тяжелым взглядом. «А, наконец-то вспомнили, что у вас есть подруга» – даже если Тали заболела только сегодня утром.
Мы заходим к Тали в комнату, она лежит такая красивая, раскрасневшаяся от высокой температуры, садимся возле кровати и ждем, когда ее мама выйдет, и тогда начинаем болтать с ней, рассказывать о том, что случилось в школе, отдаем ей контрольную, которую вернули сегодня, и утешаем ее, что полкласса получило двойки, а Тали, она не очень-то говорлива, только улыбается своей лунатической улыбкой, берет контрольную и кладет под подушку. Но проходит немного времени, и в комнату является ее мама, пододвигает кресло к двери, две его ножки в комнате, а две другие за порогом, садится с книгой на венгерском в руках и с папиросой в зубах, исподтишка бросает на нас недовольные взгляды, короче говоря, присоединяется, как будто бы мы пришли навестить именно ее.
Оснат сказала мне, что кто-то говорил ей, будто мама Тали только наполовину еврейка и совсем не хотела ехать в Израиль, ее заставил отец Тали, а потом сам сбежал. Мы ни словом не обмолвились об этом Тали, может быть, ей и невдомек, что она на одну четверть нееврейка, зато мне многое стало понятно, и в первую очередь – откуда эта ужасная желчность, исходящая от ее матери.
Сидит с нами молча, делает вид, что читает книгу, окружена облаком дыма, надменная такая. Осматривает нас, словно мы какой-то товар, не улыбается, даже когда мы рассказываем анекдоты. Она может вдруг прервать Оснат посреди предложения каким-нибудь странным вопросом:
– Скажи, Оснат, сколько твой папа зарабатывает?
Оснат ошеломлена.
– Я не знаю.
– Приблизительно?
– Не имею представления.
– Три тысячи в месяц?
– Не знаю.
– Четыре тысячи?
– Не знаю! – почти кричит Оснат.
Но маму Тали трудно пронять.
– Так спроси его как-нибудь.
– Для чего?
– Чтобы знать.
– Хорошо.
Наступает тяжелое молчание, потом мы снова пытаемся вернуться к своей болтовне. И вдруг мама опять выступает:
– Так я скажу тебе. Там, в Технионе, каждый месяц дают им надбавку. Он приносит домой по крайней мере четыре тысячи чистыми.
– Чистыми от чего? – спрашивает Оснат со злостью.
– От налогов.
– А…
И снова наступает какое-то неловкое молчание. И какое ей, черт возьми, дело, сколько получает папа Оснат!
– О папе Дафи, – она вдруг обращается ко мне с ехидной улыбкой, удар с фланга, – я не спрашиваю, потому что ты действительно не можешь знать, он и сам не знает. Еще немного, и со своим гаражом будет миллионером, хотя твоя мама и старается это скрыть.
Теперь ошеломлена я, не могу произнести ни звука. Вот ведьма, сидит тут в кресле со своими оголенными ногами, гладкими, как маргарин. Хищные ногти покрыты красным блестящим лаком. Когда я вижу ее в этой позе – сейчас же определяю ее нееврейскую половину, нижнюю половину.
Удивительно, что Тали никогда не прерывает мать, когда та начинает говорить ерунду, не обращает на нее внимания, сидит молча в кровати, уставившись в окно; ее совсем не трогает, что мать ее так действует нам на нервы.
Мы начинаем нащупывать другую тему, что-то рассказываем Тали, и вдруг снова удар из угла:
– Скажите, девочки, вы тоже каждую неделю требуете новую одежду, как Тали?
Мы смотрим на Тали, но ее лицо совершенно спокойно, словно речь идет вовсе не о ней.
– Скажите, скажите… Я получаю только тысячу двести в месяц и за квартиру плачу триста. Скажите ей, чтобы не просила каждую неделю новое платье. Достаточно раз в две недели. Может быть, вы сумеете на нее повлиять?
У нас появляется желание немедленно унести ноги, последовав примеру ее мужа, только жаль бедняжку Тали. Оснат начинает протирать очки, руки ее дрожат, я-то знаю, ей ничего не стоит впасть в нервозность, но она крепится, я тоже молчу. Мы знаем, что на любой ответ последует ехидная реплика. Мы стараемся не обращать на нее внимания, возвращаемся к нашей болтовне, говорим отрывистыми фразами, тихим голосом, украдкой косимся на мать, сидящую на пороге, лицо у нее жесткое, светлые волосы разбросаны по плечам. «А может быть, – думаю я, – нееврейской бывает верхняя половина». Проходит четверть часа, мы почти забываем о ней, и вдруг:
– Как по-вашему, стоит ли держать Тали в школе?
– А почему нет? – вскидываемся мы.
– Но ведь она очень плохо учится.
– Неправда, – протестуем мы и называем ей несколько учеников из нашего класса, которые учатся еще хуже.
Но на нее это не производит никакого впечатления.
– А что, она получит там профессию? Может, лучше отправить ее работать…
Но мы боимся потерять Тали, начинаем объяснять, как важно закончить школу, пригодится для будущего… Она смотрит на нас мрачно, изучающе, но слушает внимательно, хотя и стоит на своем.
– Еще через два-три года Тали может выйти замуж, Тали очень красивая, у нее броская внешность, вам, девочки, до нее далеко… ее отхватят сразу же… так зачем ей оставаться в школе?
Меня это начинает забавлять. Но Оснат бледнеет, встает с места, хочет уйти; каждый раз, когда речь заходит о внешности, она ужасно нервничает.
– Хотя, может быть, ты и права, Оснат, – со своим венгерским акцентом продолжает мама Тали, методично доводя нас до белого каления, – аттестат никогда не помешает, у меня нет никаких аттестатов, и я дорого заплатила за это, думала, что достаточно любви…
И лицо ее искажается, словно ей хочется выругаться или заплакать. Она встает и выходит из комнаты.
Мы смотрим на Тали, чувствуя себя совершенно опустошенными, а ей хоть бы что. Ненормальная, улыбается про себя своей легкой улыбкой, о чем-то думает, теребит кончик одеяла, на все ей наплевать. Оснат уже собирается уходить, но Тали своим нежным голосом говорит: «Погодите минутку, так что же задано?» И мы снова садимся, ведь, собственно, затем мы и пришли. Внезапно опять появляется ее мама, на этот раз с пирожками и кофе, усаживается в свое кресло, курит сигарету за сигаретой, мы ждем следующего удара, но она молчит. В комнате темнеет. В конце концов мы расстаемся с Тали, ее мама провожает нас молча до двери, у порога с силой хватает нас за руки и шепчет со страдальческим выражением лица:
– А что она рассказывает вам? Со мной она ничем не делится… Что говорит?
И пока мы ищем слова, чтобы ответить ей, она крепко обнимает нас.
– Не оставляйте Тали, девочки. И выпускает нас на улицу.
Мы поражены, не можем произнести ни звука, молча идем по улице, останавливаемся у дома Оснат, не находим слов, но не можем расстаться так просто, словно заразились от Тали молчаливостью. Под конец у Оснат вырывается:
– Если бы мои родители разошлись, я бы покончила с собой.
– Я тоже, – сейчас же подхватываю я, а у самой сердце сжимается. Она может позволить себе говорить так, потому что у них там любовь, объятия, и поцелуи, и «май дарлинг» каждый день после обеда. А у меня дома – молчание. Я поднимаю голову и встречаю ее пристальный, словно изучающий взгляд. – Чао, – бросаю я и тороплюсь уйти.
Адам
Может быть, расстаться? Начало лета. Страшная жара. Я просыпаюсь около полуночи весь в поту. Где Ася? Я встаю. В комнате Дафи горит свет, но Дафи спит, на ее лице книга. Я убираю книгу, гашу свет, но в доме есть еще освещенное место, я вхожу в рабочую комнату. Ася, маленькая, щупленькая, сидит за большим столом с еще влажными после душа волосами, закутана в изношенный банный халат (его уже пора выкинуть), ее маленькие босые ноги болтаются в воздухе, в комнате гуляют огромные тени, свет лампы тускло освещает лежащие перед ней бумагу и книжку. Мое внезапное появление ее как будто вспугнуло. Неужели она до сих пор боится меня?
Во время летних каникул она решила поработать над руководством по преподаванию истории Французской революции, собрать новые источники с разъяснениями для учителей. Нанесла из разных библиотек книжек и толстых тяжелых словарей с толкованием старых французских слов.
Я пристраиваюсь рядом с ней на кровать, улыбаюсь ей, она улыбается мне в ответ, смотрит на меня, а потом возвращается к своим книгам. Ей совсем не мешает, что я сижу сбоку и наблюдаю за ней, она так уверена в наших отношениях, что не чувствует необходимости отложить ручку и обменяться со мной парой слов. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто захочет забрать ее у меня?
Уже давно я не прикасался к ней. Она сносит это молча. Я рассматриваю ее, прищурив глаза. Через расстегнутый халат видны бледные груди. Если я сейчас встану и обниму ее, будет ли она сопротивляться? Может быть, обрадуется, но возможно, и она потеряла желание.
– Ты еще видишь сны?
Она откладывает ручку, удивленная.
– Иногда.
Молчание. Пусть бы она рассказала мне свой сон, как в первые годы. Вот уже много лет не рассказывает она мне свои сны. Вид у нее озабоченный, она серьезно и испытующе смотрит на меня, потом снова берется за ручку, читает то, что написала, и зачеркивает.
– Ты не устала?
– Устала, но мне хочется закончить эту страницу.
– Ну как, продвигается?
– С трудом. В этом старом французском сам черт ногу сломит.
– Всегда тебе надо что-нибудь изучать… Она слегка краснеет, в глазах появляется какой-то странный блеск.
– Ты хочешь, чтобы я перестала?
– Нет, почему? Если это важно для тебя…
– Нет… чтобы я сейчас перестала.
– Нет, зачем же? Если ты не устала…
Я растягиваюсь на кровати, сую подушку под голову, отяжелевший и сонный. Я не сказал, что не люблю ее, я еще этого не сказал, я только уверен, что долго так не может продолжаться.
Под скрип ее пера и шелест бумаг я засыпаю, потом слышу, как она шепчет: «Адам, Адам», – в комнате темно, она стоит надо мной и пытается разбудить. Я не шевелюсь, хочу увидеть, дотронется ли она до меня, но нет, просто ждет некоторое время, а потом выходит из комнаты.
Ася
Я в одном из классов, где лежат остатки строительного камня, в углу куча песка. Большинство учеников еще не в классе, хотя звонок уже отзвенел, в ушах теперь звучит что-то вроде эха. Я спрашиваю одного из учеников, где остальные, и он объясняет: «Они на уроке физкультуры, сейчас придут»; но никто больше не приходит, и я нервничаю, давно пора начинать урок, книги и конспекты уже лежат передо мной открытые. Тема – что-то о второй мировой войне, в этой теме я не чувствую себя уверенно, ее всегда трудно объяснять.
Ученик, который говорил со мной, сидит за первой партой. Это новый репатриант из Восточной Европы, с болезненным лицом, у него сильный акцент, сидит закутанный в тяжелое пальто, в такой смешной сибирской шапке, в шарфе, смотрит на меня хитрыми глазками, изучает. В сущности, в классе, кроме него, никого нет, за других учеников я приняла тени, отбрасываемые стульями.
– Что, неужели тебе так уж холодно? – спрашиваю я его, сердясь.
– Немного, – отвечает он.
– Тогда разденься, пожалуйста, нельзя же сидеть так в классе.
Он выпрямляется, начинает стягивать с себя пальто, шапку, сворачивает шарф, снимает перчатки, свитер, расстегивает рубашку, снимает ее, садится и стаскивает ботинки, носки, идет и встает в одном из углов около маленькой кучки песку, спускает брюки, снимает майку, трусы с таким безразличием, даже не краснеет. Теперь он стоит там, в углу, совершенно голый, толстенький, с телом мраморной белизны, даже не прикрывает свой член, который болтается свободно, член взрослеющего юноши. А у меня прерывается дыхание, смесь отвращения и дикого желания, но я ничего не говорю, перелистываю лежащие передо мной записи. Он проходит мимо меня, выходит из комнаты. Идет медленно, плечи его опущены, бедра раскачиваются. Я хочу сказать ему: «Иди сюда», но остаюсь в классе, он сейчас совершенно пуст в свете этих странных сумерек.
3
Ведуча
Но какой это зверь, неизвестно. Кролик лягушка старая птица? Может быть, что-то большое – корова или горилла. Еще не решили. Зверь вообще, зверь зверей печальное чудовище лежит под одеялом согревается в большой кровати трется телом о смятую простыню язык его двигается все время, облизывает нос подушку глаза бегают по сторонам. Непрерывно думает животное о еде и воде, которые оно будет есть и пить, о еде и воде, которые оно ело и пило, и тонко повизгивает. Приходят поднимают одеяло уговаривают зверя встать сажают его на стул моют его кожу тряпочкой подставляют ему горшок приносят тарелку с кашей берут ложку и кормят.
Ночь. Темно. Зверь нюхает мир, гнилой и сладкий запах мяса. Месяц смотрит в окно и воет зверю. Зверь воет ему в ответ – о… о… ой, хочет вспомнить что-то, чего не знает, и что только кажется ему, и что знает, царапает стену, пробует облупившуюся известку. Приходят успокоить зверя, гладят его по голове, произносят тихо – шш… шш… шш… Зверь замолкает, хочет плакать, но не знает как.
Вокруг яркий свет и голоса. Солнце. Коровник, конюшня, птичник… болтают. Напротив лицо какого-то существа. Существа – не зверя. Существо говорит зверю: «Хочешь, чего хочешь? Хочешь, как хочешь? Почему?» Существо, которое было когда-то. Слабая боль просыпается внутри. Глубоко внутри зверя что-то плывет, такой слабый ветер, дыхание без воздуха, без движения, его душа. Душа существует, не исчезла. Всегда была. Человек, знакомый издалека, что-то говорит. Но что он говорит – что-то неясное. Отчаивается, уходит, оставляет. Зверь начинает понимать с удивлением, что и он тоже человек.
Адам
В сущности, это я нашел его и привел в дом, к Асе. Люди иногда отдают себя в мои руки, я уже обратил на это внимание, приносят мне себя, как бы говоря – возьми меня, и я иногда беру.
Начало прошлого лета, тихие месяцы перед войной. Я все больше отхожу от повседневной работы в гараже, заглядываю по утрам, проверяю, все ли начинает идти в нужном темпе, и через два-три часа сажусь в машину и отправляюсь по магазинам за запасными частями, еду в Тель-Авив, кручусь в агентствах по продаже машин, просматриваю каталоги, заезжаю в другие гаражи, чтобы запастись новыми идеями, возвращаюсь в Хайфу боковыми дорогами, поднимающимися на Кармель, кружусь по лесам, тяну время и прибываю в гараж за час до окончания работы, заставляю вернуться под навесы тех, кто думал, что можно к концу дня пофилонить, велю одному из ребят распаковать купленное мною оборудование, получаю отчет от управляющего, заглядываю в один-два мотора, решаю судьбу машины, разбитой при столкновении, и захожу в контору посидеть с Эрлихом над счетами, подписать чеки, взять ключи от сейфа и услышать от него последние объяснения перед тем, как он уйдет из гаража.
Прежняя страсть подсчитывать выручку, поступившую за день, сменилась в последний год другой – вычислять с помощью карандаша и бумаги общий доход, подводить банковский баланс, просматривать отчеты об акциях, делать оценку предполагаемых прибылей, спокойно наблюдать за своей все увеличивающейся и растущей денежной мощью. Всем этим я занимался, когда вокруг воцарялась полная тишина, когда в гараже уже никого не было, рабочие столы прибраны, пол подметен, подъемники свободны, аккумуляторы замолкли. Сижу в немалом своем царстве, в которое сейчас вошел старый сторож со своей смешной собакой, кривоногой коротышкой, в руках позвякивает большая связка ключей, он закрывает боковые ворота, оставляя открытыми лишь главные – для меня. Потом берет ковш, наливает в него воду, чтобы сварить кофе, и все время посматривает в сторону конторы, стараясь поймать мой взгляд через окошко, чтобы подобострастно поприветствовать меня, и в этот момент через главные ворота медленно въезжает маленькая машина, допотопный «моррис» светло-голубого цвета вкатывается медленно в гараж, без шофера, без звука – фантасмагория какая-то.
Я приподнимаюсь со своего места…
Вот тогда я и увидел его впервые, все еще через окно своей конторы – в белой рубашке, в темных очках, на голове каскетка. Он вошел вслед за своей машиной, которую толкал сзади, как толкают детскую коляску.
Сторож, стоявший в углу около крана, не заметил машины, только собака хрипло залаяла и вразвалку побежала в сторону человека, собираясь наброситься на него. Человек последний раз подтолкнул машину, она проехала еще несколько метров и замерла. Сторож отставил ковшик и припустил за собакой, с ходу раскричавшись: «Гараж закрыт, убери отсюда свою машину!»
Я не отрывал взгляда от «морриса». Очень старая модель, начала пятидесятых годов, а может быть, и того старше. Много лет мне уже не доводилось встречать на дорогах эти прямоугольные маленькие ящики с окнами, похожими на амбразуры. «Неужели такие еще существуют?» – подумал я, но из конторы не вышел.
Тем временем собака успокоилась, найдя себе новое развлечение: обнаружив серую странную ступеньку, тянувшуюся вдоль машины, стала вспрыгивать на нее и соскакивать. И только сторож продолжал кричать на человека, хотя тот даже не пытался спорить, а встал перед машиной и покатил ее обратно, но у него не хватило на это сил, и машина застряла в выбоине посреди гаража.
А сторож все не унимается, ведет себя, словно он хозяин гаража, тогда я наконец встал и вышел из конторы. Собака завиляла хвостом, а сторож пустился в объяснения.
– Что случилось? – обратился я прямо к человеку.
– Ничего серьезного, – начал он объяснять, – просто невозможно завести мотор, не хватает какого-то винтика. – И он подошел к машине поднять капот.
В его лице была разлита какая-то бледность, как будто он долгое время был лишен солнечного света, что-то в произнесении слов, в стиле речи, в его вежливости было необычным. На мгновение мне показалось, что он из религиозных, может быть, ученик ешивы, но он уже стоял с непокрытой головой и вертел свою каскетку в руках.
Эта маленькая машина занимала меня, она была еще в хорошем состоянии; невероятно, но она, скорей всего, сохранила свой первоначальный цвет, кузов чистый, без ржавчины, примитивные колеса открыты, диски блестят, с крыльев стекают капли воды, я машинально поглаживаю ее рукой.
– Чего в ней недостает?
– По-моему, только одного винтика…
– Одного винтика? – Меня всегда смешит такая уверенность. – Какого именно?
Он не знает, как этот винтик называется… должен быть в этой части, здесь – и он засунул голову внутрь, чтобы найти это место… всегда там выпадает один винтик…
Я посмотрел на мотор, в отличие от кузова он был в ужасном состоянии, несмазанный и ржавый и – что совсем странно – в паутине.
– Послушай, я не понимаю, когда ты ездил на ней в последний раз?
– Лет двенадцать тому назад.
– Что??? И с тех пор к ней никто не прикасался?
Он улыбнулся мягкой, кроткой улыбкой, нет, на ней ездили, он думает, что на ней ездили, может быть, не часто… но не он… Потому что его не было здесь, то есть в Израиле… он вернулся несколько дней тому назад. Она стояла на складе в одном гараже недалеко отсюда… Он ее помыл немного и прикатил сюда…
– Так что же ты не поискал этот винтик там? Они не хотят заниматься этой машиной… Не умеют… У них нет запасных частей… Они послали его сюда, сказали, что это большой гараж и здесь должны быть запасные части для разных машин…
– Для марки «моррис» тысяча девятьсот пятидесятого года?
– Сорок седьмого… мне кажется, – поправил он меня осторожно.
– Сорок седьмого? Еще лучше… Думаешь, у меня тут музей?
Он смутился сначала, потом засмеялся коротким смешком, снял на секунду темные очки, чтобы получше разглядеть меня. Глаза у него светлые, лицо тонкое, спина узкая и немного сутулая, говорит с легким акцентом, но с каким – не поймешь.
– Так нельзя найти какой-нибудь маленький винтик, чтобы можно было завести ее?
Что он, такой наивный или просто издевается надо мной?
– Тут дело не в винтике, – начал я раздражаться, – этот мотор, не видишь, что ли, совсем изъеден ржавчиной. Ты собираешься продать ее?
– Хотите купить?
– Я? – удивился я его прямому вопросу. – Зачем она мне?.. Двадцать пять лет тому назад у меня была точно такая машина, совсем неплохая, но я по ней не скучаю ни капли. Может быть, найдешь какого-нибудь сумасшедшего, коллекционирующего древности, и он даст тебе за нее что-нибудь…
Я сразу же поймал себя на том, что разговариваю с ним не так, как говорю теперь со своими клиентами, как будто хочу удержать его, не потерять из виду. Что-то пробудилось во мне при виде этого древнего голубого ящика, словно поманило из далекого сна.
– Я все равно не могу продать ее сейчас… Она пока не моя…
– Значит, ты хочешь, чтобы я вернул ее к жизни?
Можно подумать, у меня в гараже недостает работы…
Он размышляет, колеблется.
– Хорошо, только…
Но я прервал его, опасаясь, что он передумает, а у меня в голове вдруг возникла идея – открыть новое отделение по восстановлению старых машин. Теперь, во время экономического расцвета, найдется, конечно, много сумасшедших, которые заведут себе хобби наподобие этого.
– Приходи через три дня – и возьмешь ее, ты еще будешь гонять на ней по дорогам. Оставь ключи в машине и задвинь ее в угол, чтобы она не мешала тут, посредине. Помоги ему, – приказал я удивленному сторожу и пошел обратно в контору, раздумывая, не стоит ли сказать что-либо о стоимости ремонта, но решил обойти этот вопрос, побоявшись, что он передумает.
Я сидел за столом, просматривая последние счета. Через окно видно было, как он и сторож толкают машину в один из углов. Он некоторое время крутился около машины, погруженный в свои мысли, поглядывая в сторону конторы. Потом вышел и исчез.
Через пять минут я закончил свои дела, сунул несколько тысяч лир в бумажник, остальные закрыл в сейфе и собрался ехать домой. Перед тем как сесть в машину, я снова подошел к «моррису», открыл капот, чтобы посмотреть на мотор. И снова поразился при виде густой паутины, опутавшей все внутренности. Открыл крышку бачка для масла – и большущий черный паук медленно выполз из сухого ржавого мотора. «Недостает только одного винтика…» – усмехнулся я про себя. Раздавив паука о стенку мотора, я захлопнул капот, залез в машину, уселся за маленький руль, болтавшийся совершенно свободно, поиграл им немного, как мальчишка, посмотрел на устаревшие счетчики. Внутри было очень чисто, на сиденья надеты цветастые чехлы, сшитые вручную, на заднем сиденье лежала дорожная шляпа, к которой был привязан шарф, – женская старомодная шляпа. Я взглянул в зеркало и увидел, что старик сторож стоит позади машины и удивленно наблюдает за мной.
Я сразу же вылез, улыбнулся ему, сел в свою машину, завел ее и быстро выехал из гаража; метров через сто я увидел его стоящим на автобусной остановке, хотя автобусы в этот час уже не ходят. Весь этот промышленный район пустеет в одно мгновение. Я остановился. Он вначале не узнал меня.
– Здесь тебе придется ждать автобуса до завтра.
Он не расслышал. Повернул ко мне голову в старой зимней каскетке.
– Садись. Я еду в город.
Он снял каскетку и сел рядом со мной, вежливо поблагодарил, попросил разрешения опустить щиток от солнца.
– Это ужасное солнце… Как вы только терпите… Я уже отвык…
– Сколько времени ты не был в стране?
– Двенадцать лет, может, больше, я уже перестал считать…
– Где жил?
– В Париже.
– И вдруг решил вернуться?
– Нет, что вы! Я не вернулся… Приехал, чтобы получить наследство после моей старушки…
– Этот «моррис»… он и есть наследство?
Он покраснел, смутившись.
– Нет, из-за этой рухляди я бы не приехал, но есть еще дом, вернее, квартира в старом арабском доме в Нижнем городе… и немного вещей… старая мебель…
Он говорил откровенно, мне понравилась эта его прямота, без оправдывания, без чувства вины за то, что покинул страну, без увиливаний, – просто признался, что приехал получить наследство и снова исчезнуть.
– Представь себе, но этот твой «моррис» совсем не рухлядь… Это, если хочешь знать, очень прочная машина…
Да, да… он знает, он и старуха ездили на ней в пятидесятые годы, использовали ее на полную катушку.
Продвигаемся мы медленно, стоим в длинной очереди машин у въезда в город. Он сидит подле меня в своих больших темных очках, все время меняет положение щитка, чтобы укрыться от солнца, как будто солнечный свет может ужалить его. Мне неясно, кто же он такой: хотя его иврит совершенно правильный, но он употребляет всякие устаревшие выражения, вроде «моя старушка» или «финансы». Я продолжал нашу ни к чему не обязывающую беседу:
– Твоя старушка… бабушка… ездила в старом «моррисе», кто же ухаживал за машиной все это время?
Он не знает, правду говоря, у него с ней не было особой связи… Он был немного болен… оторван… в течение нескольких лет находился в специальном заведении в Париже.
– Заведении?
– Для душевнобольных… несколько лет тому назад… Но теперь все в порядке… – успокаивает он меня, слегка улыбаясь.
А мне вдруг все становится понятным – и то, как он зашел в гараж, толкая перед собой машину, и поиски винтика, и странность его речи, и эта внезапная откровенность. Сумасшедший, который вдруг вспомнил о старом наследстве.
– Когда она умерла? Эта старушка… твоя бабушка?
Бессмысленная беседа во время нудного, бесконечно медленного продвижения вперед под палящим солнцем.
– Да она не умерла…
– Что??
Он начал объяснять «накладку», которая произошла с ним, с той же торопливой откровенностью. Две недели назад он получил сообщение, что его бабушка умерла, он подсуетился, собрал деньги на билет и несколько дней тому назад приехал сюда, чтобы получить наследство, потому что он единственный наследник, единственный ее внук. Однако выяснилось, что старуха лежит в больнице в бессознательном состоянии, но пока еще жива… А он застрял здесь, ждет ее смерти. Потому и попытался поставить машину на колеса. В ином случае ему не пришло бы в голову заняться ею… Он и сам знает, чего она стоит… Но если придется застрять здесь на несколько дней, то он хотя бы попутешествует по стране… посмотрит новые территории… Иерусалим, прежде чем вернется во Францию…








