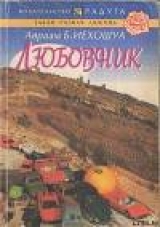
Текст книги "Любовник"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
Она быстро встает, укладывает круассаны в корзиночку. Двери автоматически открываются, и она выходит на платформу, старается ускользнуть от меня. Но вокруг почти никого нет, и я пристраиваюсь рядом, не отстаю от нее, жду, чтобы ко мне вернулся мой французский. Открываю перед ней стеклянные двери, поднимаюсь по лестнице, толкаю вертушки входов, а она улыбается про себя снисходительной старушечьей улыбкой, все время бормочет «мерси, мерси», не понимая, чего я хочу от нее. Мы выходим с ней на улицу, брезжит заря. Рассветный Париж, влажный, туманный, наверно, всю ночь мы проездили в метро.
И невдалеке, на тротуаре, стоит голубой «моррис», как и был – с закрашенными фарами, только израильский номер заменен французским. Бабушка роется в кошельке, ищет ключи. А я стою перед ней, все еще жду, чтобы французский вернулся ко мне, ищу хоть какое-нибудь спасительное слово. Ужасно хочется есть, я прямо исхожу слюной. Она открывает дверцу машины, ставит корзиночку с круассанами около себя, садится за руль, видно, что она хочет отделаться от меня как можно быстрее. Улыбается, как молодая девушка, к которой пристают, снова говорит «мерси» и включает зажигание. А я цепляюсь за уходящую машину, боюсь, что вот опять потеряю ее, засовываю голову внутрь, опираюсь о дверцу с открытым окном, говорю: «Минуточку… минуточку…» – и словно только одна моя голова начинает ехать.
Моя голова, прислоненная к открытому окну, высунулась наружу. В небе занимается заря. Поля исчезли, сменились песчаными дюнами, пальмами и белыми арабскими домами. Мы остановились, мотор молчит, застряли вместе с огромной колонной. Двухрядной. Грузовики, бронетранспортеры, джипы, машины командиров, гражданские машины. Вокруг гул от большого скопления людей. Офицер стоит снаружи и вытирает капли росы с переднего стекла. Вид у него после ночной поездки вовсе не усталый, только глаза немного покраснели. Я хочу встать и выйти, но что-то меня не пускает. Оказывается, когда я спал, он пристегнул меня ремнями к сиденью. Он подошел, чтобы освободить меня.
– Ты просто буйствовал во сне… все время падал на руль.
Я выхожу из машины. Одежда помята, я дрожу от холода, встаю рядом с ним, в желудке крутит от голода. Третий день идет война, а я не знаю, что там происходит. Прошло больше десяти часов с тех пор, как я последний раз слышал новости. Я смотрю на наушник, который все еще засунут в его ухо.
Что за подлость, даже новости не дает мне послушать.
– Что говорят сейчас?
– Ничего. Передают музыку.
– Где мы?
– Около Рафиаха.
– Что происходит, что нового?
– Ничего.
– Что будет?
– Сломим их.
Эти короткие самоуверенные ответы, этот гордый взгляд, обращенный вдаль, изучающий колонну, растянувшуюся от горизонта к горизонту, – словно именно он ведет ее. Теперь, когда я уже безраздельно в его власти, мне захотелось хоть немного узнать о нем, пробиться сквозь эту скорлупу спеси.
– Извините, – я слегка улыбаюсь, – я еще не знаю вашего имени…
Он смотрит на меня гневно.
– Для чего тебе?
– Так…
– Зови меня Шахар.
– Шахар… чем вы занимаетесь… вообще, в гражданской жизни…
Он озадачен.
– Для чего тебе знать?
– Так… просто так…
– Я занимаюсь воспитательной работой. Я чуть не свалился, так был поражен.
– Воспитание? Какое воспитание?
– Работаю воспитателем в колонии для несовершеннолетних преступников.
– Что вы говорите? Интересная специальность…
Но в нем не чувствуется желания продолжать беседу. Стоя рядом со мной, а я еще пытаюсь сказать что-то, он открывает одной своей рукой молнию брюк, вытаскивает свой большой член и пускает струю прямо перед собой на иссохшую землю, стоя все так же прочно, ноги раздвинуты, капли падают на мои ботинки.
А с грузовика, стоящего перед нами, за ним наблюдают солдаты – и их внимание он привлек, – кричат ему что-то. Шутят. А он ничуть не смущается, член его еще торчит вперед, он принимает вызов, поднимает в ответ руку, как бы благословляя их.
В большом военном магазине в Рафиахе я потерял сознание, совершенно неожиданно, просто так, стоя в очереди, среди толпы, осаждающей прилавки, в шуме транзисторов, около подносов с пакетиками какао и бутербродами, которые моментально расхватывают; запах еды наполняет помещение. Сначала выпала из моих рук базука, а потом упал и я, а он, наверно, испугался, что меня у него отберут, оставил группу офицеров, перед которыми о чем-то разглагольствовал, быстро подбежал ко мне и выволок наружу, под кран, положил головой в грязную лужу и направляет на меня струю воды. Я слышу, как он говорит собравшимся вокруг солдатам: «Это от страха» – и старается их разогнать.
Но это было от голода.
– Я ужасно голоден, – прохрипел я, очнувшись, сижу на земле бледный, волосы испачканы грязью. – С самой ночи я пытаюсь вам это сказать.
И снова он вынимает из своей сумки с картами два крутых яйца и дает мне.
В полдень он довез меня до середины Синая. Я не верил, что мы доедем туда. Маленький «моррис» не подкачал. Ты отлично отремонтировал его, Адам, он заводился с первого поворота ключа. Эта потрепанная старушка была послушна ему, он ее загипнотизировал, и она мчалась со скоростью сто километров в час.
На дорогах, правда, были расставлены заслоны военной полиции, которые пытались остановить всяких любителей приключений, которых тянуло на войну. Но он всем натягивал нос, делал вид, что не замечает, мчался и проскакивал, вообще не останавливался. А если они не уступали и гнались за ним, он останавливался на некотором расстоянии, вылезал из машины, стоит, словно длинное и тонкое лезвие, и ждет в своем красном берете десантника, на груди ордена, полученные в прошлых войнах, ждет, пока не появится солдат военной полиции, отдуваясь и ругаясь, и говорит тихо:
– Извините? В чем дело?
И тот отступает.
Но в Рафидим нас остановили. Оттуда никому не разрешали выезжать. Издали уже была слышна канонада, глухие взрывы, словно исходящие из недр Земли. И выли самолеты. Нас отправили на большую стоянку, где было полно гражданских машин, точно на стоянке перед концертным залом или перед стадионом во время футбольного матча. Люди стремились на войну, как на великое зрелище. Он приказал мне вытащить снаряжение, и я впрягся в свой тюк, надел каску, взял базуку и пошел за ним искать подразделение, которое примет меня.
И так мы шагали в туче пыли, а вокруг нас с ревом проносятся танки и бронетранспортеры. И народ в песках, просто утопает в песке. Здесь он родился и здесь погибнет. И даже в этой суматохе мы обращаем на себя внимание. Жилистый майор, весь красный от солнца, капли пота блестят на лысине, ведет своего личного солдата, будто целый полк, а я, навьюченный снаряжением, иду за ним словно привязанный невидимой веревкой. Люди даже задерживались на мгновение, чтобы посмотреть на нас.
В конце концов мой поводырь остановился возле нескольких бронетранспортеров, которые стояли на обочине дороги, развернувшись в сторону горизонта. Он спросил командира, ему указали на какого-то паренька, маленького и тощего, который варил себе кофе на небольшом костре.
– Когда отправляетесь?..
– Скоро.
– Тебе нужен противотанковый стрелок? Тот удивился:
– Противотанковый стрелок? Не думаю… Но майор не отставал:
– Ты хочешь сказать, что твое подразделение полностью укомплектовано?
– В каком смысле? – Паренек был совершенно растерян.
– Так возьми его в часть, – и он указал на меня.
– Но… а кто он?..
– Никаких «но»… Это приказ, – отрезал он и велел мне взобраться на ближайший бронетранспортер.
Я начал снимать с себя снаряжение и передавать наверх молодым солдатам, а те отпускали шутки по поводу багажа, который я притащил с собой. Потом протянули мне руки и тоже подняли наверх. А тем временем майор записывал в свою маленькую книжечку имя командира, номер части, даже подошел посмотреть номер бронетранспортера и его тоже записал. Хочет увериться до конца, что я действительно принят системой, что путь к бегству для меня отрезан. Он заставил командира расписаться, что я передан ему, словно я был частью снаряжения. Солдаты вокруг ошеломленно пялились.
– Следите, чтобы он воевал как следует, – сказал он им, – он уже десять лет не был в стране… хотел сбежать отсюда.
Они все смотрели на меня.
– Ненормальный, – тихо сказал мне кто-то, – вздумал теперь вернуться.
Но я не ответил, только прошептал:
– Может быть, найдется у вас кусочек хлеба или что-нибудь вроде?
И кто-то дал мне огромный кусок пирога, сладкого, вкусного пирога из дрожжевого теста, и я сразу же набросился на него, уплетал с дикой жадностью. К глазам даже слезы подступили. И вдруг мне стало легче. Может быть, из-за этого домашнего пирога, может быть, потому, что я наконец избавился от офицера. И так стоял я на бронетранспортере посреди целой компании ребят, опершись о раскаленный железный борт, поглощая пирог и глядя издали на прямого как жердь, лысого офицера, который все еще с заносчивой миной стоял рядом с мальчишкой командиром и расспрашивал о планах наступления. А тот, совершенно растерянный, не знал, что отвечать. Наконец он разочарованно отстает от паренька, но все еще не уходит, словно ему тяжело расстаться со мной, стоит одинокий, смотрит вокруг своим пустым, высокомерным взглядом, и я вдруг понял, насколько он несчастен в этом своем исступлении, и я улыбнулся ему сверху, с высоты бронетранспортера, теперь, когда я уже был ему неподвластен.
Вдруг он встрепенулся, собирается уйти. А я крикнул ему вслед:
– Эй, Шахар, до свидания.
Он поворачивает ко мне голову, бросает на меня последний взгляд, все еще враждебный, потом все-таки усталым движением поднимает свою единственную руку, словно отдает честь, и сразу же она у него падает. Бормочет:
– Да, до свидания… до свидания… – и вот уже шагает в сторону командных пунктов по рыхлой дороге, по пыльной дороге, запруженной непрерывным потоком танков. Еще некоторое время я видел, как он шагает своей размеренной, медленной, вызывающей походкой, а танки объезжают его осторожно справа и слева.
Теперь я был окружен молодыми, почти детскими лицами, сплоченной группой солдат регулярной армии, ребята бодрятся, возбужденно ждут первого боя. Смеются своим собственным шуткам, рассказывают о незнакомых мне людях. Их присутствие немного успокоило меня. Мальчишка командир подозвал меня к своему джипу, чтобы теперь спокойно выяснить, кто же я такой и как попал в руки майора. И вот, посреди пустыни, при шуме полевых телефонов и гуле огромного скопища машин и людей, я снова рассказываю свою историю, добавляю ненужные подробности, запутываюсь в своей странной исповеди о бабушке, о наследстве. Стоит человек перед молчащим молодым мальчишкой и выкладывает ему всю свою жизнь. Но я думал – а может, он отпустит меня, отправит отсюда, я ему сказал также, что нет у меня никакого представления о том, как обращаются с противотанковым ружьем, и вообще, война – это не мое дело. Но я уже видел, что он не намерен избавиться от меня – если уж меня оставили у него, он найдет мне какое-нибудь применение. Выслушал мои слова, ничего не говоря, иногда только появлялась на его лице легкая улыбка. Потом позвал солдата из своей роты, типичный интеллигент в очках, и приказал ему быстро обучить меня обращению с противотанковым ружьем.
И тот немедленно велел мне лечь на землю, дал ружье в руки и начал читать лекцию о прицелах, расстояниях, видах снарядов, об электрической цепи. А я киваю головой, но слушаю его вполуха, воспринимаю только один факт – что из-за отдачи может ранить самого стреляющего. Этот очкастый солдат все время повторял и предупреждал, что отдача очень опасна, он, наверно, сам обжегся однажды. Посреди этого странного частного урока нас позвали есть. Открыли множество консервов. Но я был единственным, у кого еще сохранился аппетит. Они немного удивились, увидев, с какой страстью я набросился на еду. Открывают банку за банкой, пробуют ее содержимое и передают мне, развлекаются, глядя, как я с ложкой в руке опустошаю одну за другой, без всякого порядка, – с фасолью, компотом, соком грейпфрута, мясом, халвой, сардинами, и на десерт съедаю соленые огурцы. Вылизал все подчистую. А тем временем транзистор, стоящий среди пустых консервных банок, тарахтит беспрерывно, и я наконец-то слышу новости, которых был лишен все последние сутки. Тяжелые вести, неясные, запутанные, обернутые в какие-то новые слова-прикрытия: бой на истощение, сдерживающий бой, выравнивание, выжидание, концентрация сил. Слова, которыми пытаются прикрыть страшную действительность, а я нахожусь глубоко внутри ее.
И вдруг я почувствовал одиночество, страшное одиночество, и в сердце пустота. Представьте меня внутри всей этой суматохи. Сижу в гуще колонн, у гусеницы бронетранспортера, стараясь спрятаться от солнца в маленьком кусочке знойной тени, вокруг тошнотворный запах отработанного бензина. Одежда грязная, как будто я прошел уже две войны, и я вижу, что дело идет к моей гибели. Войска беспрерывно катят мимо нас, огибают наш островок. Танки, бронетранспортеры, джипы и пушки. Свист беспроволочных телефонов и радостные крики солдат, узнающих своих друзей. И я начинаю понимать – живым мне отсюда не вырваться. Мне вдруг захотелось написать вам открытку; но нас спешно подняли на подготовку к выступлению.
Проехали километр или два, развернувшись фронтом к горизонту, и нам приказали остановиться. И так стояли мы в боевой готовности, с касками на головах, водители не оставляют руль целых четыре часа, смотрим в сторону угрожающего, смутно прорисованного горизонта, туда, где идут неслышные отсюда бои. Следим за похожими на гриб столбами пыли, возникающими вдали, за дымом далеких пожаров – знаки, которые все вокруг меня взволнованно комментируют. Постепенно пустыня стала приобретать красноватый оттенок, а на пыльной линии горизонта расцвел вдруг шар солнца, словно кто-то поднял его над пылающим каналом как какой-то военный аксессуар, тоже участвующий в бою. А перед самым заходом солнце стало рассыпаться, словно его взорвали, и наши лица, и бронетранспортер, и оружие в наших руках окрасились алым цветом.
И на этом самом месте, развернувшись фронтом, мы прождали два дня, точно застыли на своих позициях. Личное, линейное время разбилось вдребезги, коллективное, общее время размазалось по нам, как липкая каша. Все происходило одновременно. Едим и спим, слушаем радио и справляем малую нужду, чистим оружие и слушаем лекцию, которую читает нам чудаковатый лектор, прибывший с маленьким магнитофоном и с кассетами современной музыки. Играем в шеш-беш, слоняемся по замкнутому кругу, вспрыгиваем на бронетранспортер во время ложной тревоги, следим глазами за вылетающими и возвращающимися самолетами, а в другом месте, вне нас, не имея к нам никакого отношения, восходит и заходит солнце, опускаются сумерки и ночи, наступают пылающие полдни и прохладные утра. Мы уже отброшены за пределы мира, чтобы нас было легче лишить жизни, а я, чужой в квадрате, или, как меня называли, «вернувшийся йоред», кручусь среди молодых мальчишек, слушаю их глупые анекдоты, их детские и девственные фантазии. А они не знают, как себя держать со мной, все еще помнят впечатление, которое произвел на них мой дикий аппетит в первый день, и предлагают мне кусок пирога, печенье, шоколад, и я рассеянно беру у них и угрюмо грызу, бродя между транспортерами. Однажды посреди ночи я решил убежать. Взял туалетную бумагу и стал удаляться в сторону холмов, думая, что там никого нет. Но, к своему удивлению, обнаружил, что и там стоят наши войска, вся пустыня кишела людьми.
Наконец мы начали двигаться, медленно, словно вылезая из топкого болота. Уже обессиленные, обросшие бородой, проедем немного и останавливаемся, останавливаемся и снова трогаем. Поворачиваем на юг и возвращаемся на север, сворачиваем на восток и снова возвращаемся к основному направлению и движемся вперед. Словно какой-то командир-лунатик издалека приводит нас в движение. И вдруг, без всякого предупреждения, на нас упали первые снаряды, и кого-то убило, и так началось для нас сражение. Ложимся, поцарапаем немного землю – и снова залезаем на машины и едем. Время от времени открываем огонь из всех орудий и автоматов по желтым целям, которые тоже движутся, как какие-то лунатики, на затянутом пылью горизонте. Я не стрелял. Хотя базука все время и висела на мне, но снаряды были засунуты глубоко под одну из скамеек. Я сидел сжавшись, каска скрывает мое лицо, превратился в какую-то вещь, предмет, лишенный воли, в неживое создание, которое изредка выглядывает, чтобы посмотреть на окружающий вид, на бесконечную монотонную пустыню. У нашего подразделения все время меняется состав, расформировывают и снова комплектуют. Командиры тоже меняются. Мальчишка командир куда-то исчез со временем, и другой командир, в летах, стал командовать нами. Наш бронетранспортер испортился, и нас перевели на другой. Все время изменения – передают нас кому-то, а потом забирают. Иногда попадаем под обстрел, кратковременный или продолжительный, и зарываемся в песок. Но продвигаемся вперед – это ясно. Люди пытаются взбодрить себя. Приближается победа, наконец-то. Но победа горькая, тяжелая. Однажды вечером мы прибываем к какому-то важному полевому командному пункту. Охраняем одного полковника, который сидит среди десятка своих связных, окруженный проводами и телефонными трубками. Усталый человек, глаза от бессонных ночей превратились в щелки, сидит на земле, берет трубку за трубкой и с бесконечным терпением, ужасно медлительно, сонным голосом передает приказы в пространство. Всю ночь сидели мы около него, и я пытался понять по его реакции, как идет сражение. Похоже, положение становится все более и более сложным. Когда начало рассветать, во время краткой передышки я набрался храбрости, подошел к нему и спросил, когда, по его мнению, закончится война. А он посмотрел на меня с отеческой улыбкой и тем же сонным голосом, ужасно медленно стал говорить о длительной войне, он считает, что это дело месяцев или даже лет, а потом взял одну из трубок и своим усталым голосом отдал приказ о небольшой атаке.
А между тем все молодые ребята вокруг уже становятся похожими на меня. Стареют. Волосы побелели от пыли, на щеках отросла щетина, лица покрылись морщинами, глаза ввалились от бессонницы. Там и здесь мелькают головы в грязных бинтах. А вдали поблескивает вода канала. Нам велят слезть с машин и глубоко окопаться. Каждый роет свою собственную могилу.
И тут я услышал это песнопение. Звуки пения, молитвы, живые звуки, не из транзистора. Было еще темно, только первые признаки рассвета. Мы дрожим от холода, скорчились под одеялами, мокрыми от росы, просыпаемся и видим, как три человека, одетые в черное, с пейсами и бородами, прыгают и раскачиваются, поют и хлопают в ладоши. Словно хорошо слаженная рок-группа. Подходят к нам, прикасаются своими мягкими белыми руками, будят нас, чтобы вернуть нам веру. Их послали из ешивы ходить по разным подразделениям, раздавать маленькие молитвенники, ермолки и цицит, повязывать солдатам филактерии.[58]58
Цицит, филактерии – предметы одеяния, используемые при молебствии.
[Закрыть]
И уже некоторые из нас окружают их, вступают с ними в беседу. Сонные лохматые солдаты закатывают рукава, растерянно улыбаются, повторяют за ними слова молитвы. А они благословляют нас. «Великая победа, – говорят они, – снова свершилось чудо. Милость небес». Но чувствуется, что нет в них уверенности, что они говорят не от всего сердца. На этот раз мы их немного разочаровали.
Встает солнце, воздух быстро нагревается. Уже хлопочут с завтраком, от костра поднимается дым. А из транзисторов льются утренние новости. Люди в черном уже закончили свой обход, сложили вещи, филактерии и все прочее, уселись на небольшом холмике, сняли со своей машины маленькие старые чемоданы из картона и вытащили свою утреннюю трапезу. Мы пригласили их позавтракать с нами. Но они вежливо отказались. Опускают головы, улыбаются про себя. У них своя еда. До наших фляжек они боятся даже дотронуться, опасаясь греха. Я подошел к ним. Они достали еду, которая лежала вместе с принадлежностями культа – молитвенниками и цицит: хлеб, крутые яйца, помидоры и огромные огурцы. Посыпают их солью и едят вместе с кожурой. Из большого красного термоса отпивают какой-то желтоватый напиток, наверно старый чай, который привезли с собой из Эрец-Исраэль. А я стоял и смотрел на них, не мог оторваться. Я уже успел забыть, что такие евреи существуют в действительности. Черные шляпы, бороды, пейсы. Они сняли пиджаки и сидели в белых рубашках, как пришельцы из другого мира. Двое из них были пожилые – лет сорока, а между ними сидел очень красивый юноша с реденькой бородкой и длинными пейсами. Он казался смущенным и немного испуганным посреди всей этой суматохи, берет своей белой рукой еду, лежащую на старой религиозной газете.
Я не отходил от них. А они заметили мой взгляд. Приветливо улыбнулись мне. Я взял у них маленькую цицит и положил в карман, все еще стою около них. Они продолжают есть, раскачиваясь и болтая на идиш. Я не понял ни слова, но уловил, что они спорят на политические темы. А я все стою рядом, лохматый, грязный солдат со щетиной десятидневной давности на щеках, уставился на них во все глаза. Они стали даже конфузиться.
Вдруг я сказал:
– Нельзя ли получить помидорину?
Они растерялись, очень уж странно я себя вел, но тот, что постарше, быстро пришел в себя и протянул мне помидор. Я посыпал его солью, подсел к ним и закидал их вопросами. Откуда они прибыли? Что делают? Как живут? Куда направляются отсюда? И они отвечают мне, а те, что постарше, все время раскачиваются, словно их ответы тоже вроде молитвы. И вдруг что-то как будто ударило меня. Эта их свобода. Они, в сущности, не имеют к нам отношения. По своей воле пришли сюда и по своей воле уйдут. Никому ничего не должны. Передвигаются по пустыне между военными подразделениями, как какие-то черные жуки. Сверхъестественные создания. Я не мог оторваться от них.
Но тут подошел сержант религиозной службы, который был у них чем-то вроде импресарио, чтобы поторопить их. Скоро будет обстрел, и им лучше покинуть это место. Они сейчас же вскочили, собрали остатки еды, завязали чемоданы веревкой. И с фантастической скоростью стали бормотать застольную молитву, взбираясь на свою машину.
И тогда на одном из камней я увидел черный пиджак, который один из них, наверно молодой, забыл второпях. Я поднял его. Он был сшит из добротной плотной ткани. Ярлык портного с улицы Геула в Иерусалиме свидетельствовал о том, что в материале нет никакой посторонней примеси. От пиджака исходил легкий запах человеческого пота, но этот запах отличался от запаха людей, окружавших меня, какой-то сладковатый запах, похожий на запах ладана или табака. В первое мгновение я хотел отбросить его, но вдруг надел на себя. Это был мой размер. «Идет мне?» – спросил я солдата, пробегавшего мимо меня. Он в удивлении остановился, я понял, что он не узнал меня, потом улыбнулся и побежал дальше.
И тут на нас обрушился шквал обстрела, подобного которому еще не было. Мы попадали на землю, свернувшись наподобие зародышей, в отчаянии впились ногтями в иссохшую землю. А слепой обстрел за нашей спиной бьет яростно и точно по скрещению дорог в ста метрах от нас. Достаточно маленькой ошибки. И так продолжалось в течение многих часов – пыль, свист, взрывы, глаза закрыты, во рту скрипит песок, а рядом с нами горит бронетранспортер.
К вечеру все затихло, словно ничего и не было. Глубокое безмолвие. Нас перебросили вперед, на пять километров, мы остановились у склона возвышенности и снова стали расстилать одеяла, готовиться ко сну.
И с первыми признаками рассвета, словно время повернуло вспять, снова звуки пения и молитвы будят нас, слышится ритмичное похлопывание ладоней. Эти трое вернулись, точно из-под земли выскочили, пытаются разбудить нас.
– Вы уже были у нас! Были у нас! Мы уже получили от вас молитвенники! – сердито заставляют их замолчать. А они испугались, застыли на месте, а потом растерянно отступили назад, бормочут что-то про себя на идиш. Но один невысокий солдат, выпутавшись из своих одеял, молча подошел к ним и со страдальческим выражением лица, словно ожидая укола, закатал левый рукав. А эти трое, приободрившись, начинают наматывать на его руку филактерии, открывают перед ним молитвенник и показывают, что надо читать, обращаются с ним как с больным. Ведут его вперед, потом возвращают назад, раскачивают его и раскачиваются вместе с ним, поворачивают его лицом к востоку, навстречу восходящему солнцу. А мы лежим в спальных мешках и смотрим на них. Издали казалось, что они молятся Солнцу.
Покончив с молитвой, они принялись за еду, как и в первое утро, роются в своих чемоданах из картона, вытаскивают яйца, перец, огурцы и помидоры. Можно подумать, что они собрали их в пустыне. Только на этот раз на них не обращали внимания. Солдаты потеряли к ним интерес. До сих пор под впечатлением вчерашнего обстрела. Я не спеша подошел к ним, заглядываю в раскрытые чемоданы. В них уже не было предметов культа, все раздали вчера. Вместо них там сложены «трофеи», собранные ими по дороге: солдатские пояса, гильзы, цветные портреты Садата. Сувениры, которые они принесут домой.
И снова меня поразила их свобода…
– Как дела? Что слышно? – улыбаюсь я им, пытаюсь завязать беседу.
– Слава Богу, – тотчас же отвечают они. Я заметил, что они не узнают меня.
– Куда вы направляетесь отсюда?
– Возвращаемся домой. С Божьей помощью. Рассказать о произошедших чудесах.
– Какие чудеса? Вы не понимаете, что тут происходит?
А они за свое:
– С Божьей помощью. Все чудо.
– Вы женатые?
Они улыбаются, удивленные вопросом.
– Слава Богу.
– Слава Богу, да, или слава Богу, нет?
– Слава Богу… разумеется… Вдруг они узнают меня.
– Мы уже встречались с господином?
– Да. Вчера утром. Перед обстрелом.
– И как дела?
– Так себе…
Я сел около них. В руках сумка, в которой лежал найденный мною черный пиджак. Они немного отодвинулись.
– Вы потеряли свой пиджак? – спросил я молодого, который все время помалкивал. На нем был военный мундир египетского солдата, видно, где-то подобрал.
– Да, – на его лице мягкая, необыкновенно приятная улыбка, – может быть, вы нашли его?
– Нет…
– Неважно, неважно, Бог с ним… – успокаивает его тот, что постарше.
Сидят себе и едят, легко так, непринужденно. Что-то в них все больше притягивало меня, до боли…
Этот юноша, красавец, сидящий между двумя другими и неторопливо жующий свой хлеб, не обращает на меня никакого внимания, подбирает своими прозрачными пальцами крошки, все еще читает ту же самую старую газету, которая и тогда лежала перед ним. Чай у них уже кончился. Они передают один другому бутылку с мутной водой, какая-то манна или роса, которую собрали по дороге. Видно было, что они умеют обходиться малым. Мне опять захотелось взять у них что-нибудь, какой-нибудь овощ или кусок хлеба. Но я почему-то, не спрашивая разрешения, поднял лежащую на песке шляпу молодого, надел ее на свою голову и начал ритмично покачиваться, почти незаметно, они улыбнулись, очень растерянные. Лица их покраснели. Я уже заметил, что они нас побаиваются. Как бы слегка брезгуют.
– И не жарко вам в таких шляпах?
– Будь благословен Господь.
– Идет мне?
Я как ребенок…
– С Божьей помощью, с Божьей помощью… – Они натянуто улыбаются.
По ним ничего нельзя понять…
– Может быть, поменяемся шапками, – сказал я молодому, – чтобы я не забыл вас?
Тот был совершенно растерян, уже потерял пиджак, а теперь у него хотят забрать и шляпу. Но один из тех, что постарше, воззрился на меня умным, проницательным взглядом, словно понял мои намерения еще раньше меня.
– Пусть возьмет… на счастье… вернется целым к жене и детям…
– Но я холостой. Только любовник… – нахально дразню я их, – у меня связь с замужней женщиной.
Но он оставался спокойным, смотрит на меня, точно видит меня теперь таким, каков я на самом деле.
– Чтобы нашел себе пару… чтобы вернулся домой с миром.
А на горизонте поднимаются грибообразные столбы пыли, и лишь через некоторое время, словно к пыли она не имеет никакого отношения, слышится пушечная канонада. Рабочий день начался. Люди разбегаются. И снова обстрел – за мной по пятам, как будто задался целью уничтожить именно меня. Прибежал сержант религиозной службы – поторопить свою стаю покинуть опасное место. Я даже не успел попрощаться с ними. Весь лагерь быстро свертывается, зарывается в землю. Стоящая рядом рота солдат начинает окапываться.
Теперь я знал: единственный выход – удрать отсюда. Можно попробовать. Только об этом я и думал весь тот день, сижу в углу внутри бронетранспортера, молчу, всех сторонюсь, пытаюсь сделаться незаметным. День был ужасно жаркий, густая мгла закрыла небо. Солнце исчезло. Ничего не видно. Подразделения разыскивают одно другое, пытаются найти свое место. Беспроволочные телефоны тарахтят, надрываются в отчаянии. А над всем стоит желтоватая едкая пыль. Мы приближались к каналу. Прорыв на тот берег уже был совершен, и нам предстояло присоединиться к частям, которые непрерывным потоком пересекали канал. К вечеру мы уже омочили руки во вскипающей от бомбежки воде. Появились новые командиры, с воодушевлением стали рассказывать о завтрашних действиях.
Но я уже решил бесповоротно. Войне не видно конца. Что мне делать на западном берегу канала, когда и на восточном я не могу найти себе применение.
И вот, незаметно для других, я готовлюсь. Кладу в маленькую сумку все вещи, которые собрал у религиозных за последние два дня: шляпу, черный пиджак, цицит. Запасаюсь бутербродами с мясом и сыром, наполняю водой две фляги и ночью, перед самым рассветом, когда мне надо было сменить часового, собираю вещи, иду в самый конец колонны, прячусь за одним из холмов, снимаю с себя снаряжение и прикрываю его камнями. Рою яму и закапываю в нее свое противотанковое ружье. Снимаю военную форму и разрываю ее штыком на мелкие куски, а обрывки разбрасываю в темноте. Вынимаю из вещевого мешка белую гражданскую рубашку, свои черные хлопчатобумажные брюки, надеваю цицит, а на нее – украденный пиджак, шляпу кладу рядом с собой. Борода моя отросла за последние две недели, а из своих вьющихся волос, давно не стриженных, мне удалось закрутить нечто вроде зачаточных пейсов.
А потом устроился в маленькой расселине недалеко от канала, сижу, дрожу от холода, поглядываю в темное небо, время от времени освещаемое вспышками взрывов, жду рассвета, слышу, как поднимают мою часть и перебрасывают на другую позицию. Я прислушался, не ищут ли меня, не выкрикивают ли мое имя, но ничего не услышал, кроме шума заводящихся моторов. А потом наступила мягкая тишина. Моего исчезновения никто не заметил.








