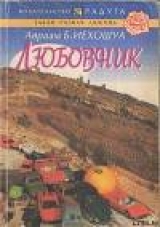
Текст книги "Любовник"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
Дафи
А мы, десятый класс «г» средней школы на Центральном Кармеле, потеряли во время последней войны нашего учителя математики. Кто бы мог подумать, что именно он будет убит? Он не производил впечатления лихого воина, совсем наоборот. Маленький, худой и тихий человечек, начинающий лысеть; в зимние дни шея у него всегда была закутана огромным шарфом, концы которого болтались на спине. У него были тонкие руки, а пальцы вечно в мелу. И именно его убили. А мы-то волновались за нашего учителя физкультуры, который во время войны забегал иногда в школу в военной форме с капитанскими погонами. Прямо кинозвезда с настоящим пистолетом, этот пистолет сводил с ума всех наших мальчишек. Вот ведь молодчина, в самый разгар войны находит время зайти в школу, чтобы успокоить нас и учительниц, не чающих в нем души. Стоит во дворе, окруженный плотной толпой, и рассказывает всякие истории. Мы просто гордились им, а про учителя математики совсем позабыли. Он исчез в первый же день войны, и только за два дня до прекращения боевых действий в класс внезапно вошел Шварци, велел всем встать и сказал со строгим выражением лица:
– Ученики, я должен сообщить вам печальное известие: наш любимый товарищ, учитель Хаим Недава, убит на Голанских высотах во второй день войны, двенадцатого числа месяца тишри. Почтим его память молчанием.
Все сделали грустные лица, и он продержал нас так, стоя, в молчании, минуты три, чтобы мы думали только о погибшем, а потом усталым движением руки позволил нам сесть, сердясь на нас, словно это мы виноваты, и пошел «почтить память» в другой класс. Нельзя сказать, чтобы мы сразу же сделались по-настоящему грустными, ведь невозможно так вот вдруг опечалиться из-за смерти учителя, но какое-то потрясение мы все-таки испытали: подумать только, совсем недавно он стоял живой у доски, терпеливо писал бесконечные примеры, тысячу раз объяснял одно и то же. Честное слово, лишь благодаря ему я получила «очень хорошо» в табеле в прошлом году, потому что он никогда не раздражался, всегда объяснял материал с ангельским терпением. Стоит кому-нибудь из учителей повысить голос или побыстрей заговорить, объясняя материал по математике, как я совершенно отключаюсь и тупею до того, что не могу сложить два и два. Он всегда вселял в меня спокойствие, правда, был ужасно нудным, можно было умереть от скуки, иногда мы просто засыпали на его уроках, но сквозь дрему, через облако мела, летающего возле доски, формулы проникали в мой мозг.
А теперь он сам превратился в летающее облако…
Шварци, конечно, использовал его смерть в педагогических целях. Он заставил нас написать о нем сочинения, собрать их в альбом и преподнести его жене на вечере, который он организовал в память о погибшем. Ученики девятого и десятого классов, в которых он преподавал, теснились в последних рядах, середина зала пустовала, а первые ряды заняли учителя, члены его семьи и его друзья, прибыл даже учитель физкультуры, еще в форме и с пистолетом за поясом, хотя уже давно наступило перемирие. А я сидела на сцене, потому что читала наизусть, и, ей-Богу, с большим чувством прочла два стихотворения, предназначенные для подобных случаев: «Смотри, Земля, сколь расточительны мы были» и «Вот лежат наши тела в длинном ряду». А между этими двумя стихотворениями Шварци выдал высокопарную и витиеватую речь, говорил о погибшем так, будто тот был какой-то особенной, необыкновенной личностью, которую он втайне боготворил.
Потом все прошествовали к медной мемориальной доске, которую прибили у входа в физическую лабораторию. И там тоже кто-то держал речь. Но мы уже не слышали, потому что удрали через черный ход.
Этот Шварци очень шустрый. В стране еще не успели отслужить панихиды по убитым, а он уже покончил с поминовением.
А мы постепенно забыли не только учителя математики, но и саму математику, так как в течение двух месяцев проходили вместо математики Танах. Восемь часов Танаха в неделю, в быстром темпе прошлись по десяти из двенадцати пророков. Ребята смеялись, что для одиннадцатого и двенадцатого классов ничего нам из Танаха не останется, придется учить Новый завет.
В конце концов пришла замена. Молодой парень, студент из политехнического, толстенький такой и очень нервный, неудавшийся гений, решивший испытать на нас новую методику. Я сразу почувствовала, что из головы у меня выветривается и то немногое, что я еще знала.
Сначала мы пытались немного дурачить его, по крайней мере пока он не выучил наши имена. Я дала ему прозвище «Сосунок», которое сразу приклеилось к нему, потому что он и правда был похож на сосунка, я даже сомневаюсь, начал ли он уже бриться. Но очень скоро он завел себе книжечку с именами и все время ставил там оценки. Мы не очень-то расстроились из-за этой книжечки, учителя сами обычно устают от этого дурацкого метода еще раньше, чем им удается сломить нас. Но он почему-то с первой же минуты стал приставать ко мне, вызывал меня почти через урок к доске и, если я не знала, оставлял там, да еще издевался. У меня нет больших амбиций в отношении математики, не это меня трогало, а его издевки, все-таки обидно. Мое имя он запомнил сразу же, но фамилию усвоил неточно и, конечно, не связал ее с тем фактом, что мама преподает историю в старших классах. Я вовсе не требовала к себе особого отношения, просто хотела, чтобы он это знал. Но до него никак не доходило, как я ни пыталась потом разными путями намекнуть ему.
Лишь к концу года, когда между нами разразилась настоящая война и я перед всем классом сказала ему: «Жаль, что тебя не убили вместо нашего прежнего учителя», а он побежал к директору, – только тогда он узнал об этом, но было уже поздно и для него, и для меня.
Адам
Куда только не попадал я во время своих настойчивых, непрекращающихся поисков! Однажды утром даже оказался в армейском отделе, занимающемся поисками пропавших без вести. Это случилось зимой, в один из по-весеннему ясных дней. Мне вдруг опротивело в гараже. Рабочие-арабы сидели под навесом и поедали свои лепешки, смеялись и напевали в такт музыке, звучавшей из приемников, установленных в машинах. В утренней газете мне попалась на глаза статья об армейском отделе, занимающемся пропавшими без вести, – как он работает, какие в его распоряжении имеются средства, каких успехов он достиг. И вот я уже там, сижу в комнате ожидания рядом с парой тихих стариков.
Я думал, что это дело нескольких минут, сообщу его имя, чем черт не шутит…
Это было уже после большой неразберихи, после возвращения пленных и знаменитых скандалов. Были сделаны выводы из ошибок и создан целый аппарат, разместившийся в больших бараках в роще возле Кирии.[5]5
Кирия – район в Тель-Авиве, где расположены различные министерства и учреждения.
[Закрыть] Большинство служащих были офицеры – мужчины и женщины. Там же имелся пункт первой помощи с врачом и медсестрами. На столах множество телефонов, а на площади снаружи теснится по крайней мере с десяток военных машин. Я ждал недолго. Женщина-офицер ввела меня в один из кабинетов, обставленный не как военное учреждение, а как жилая комната. За письменным столом сидела очень симпатичная женщина в чине майора, а около нее – еще две женщины, чином пониже. Все они внимательно выслушали мой рассказ.
А история моя была довольно странной.
Разве мог я сказать им, что ищу любовника моей жены? Я сказал – друг.
– Друг? – немного удивились они, но как будто вздохнули с облегчением. – Только друг?
– Друг. Знакомый.
Они не стали выговаривать, что это я вдруг ищу тут друзей и по какому праву. Лейтенант вынула новую папку и передала ее майору. Там уже лежало несколько чистых анкет. Какая оперативность, вежливость и терпение!
Я сообщил его имя и адрес, рассказал, что он прибыл в страну несколько месяцев назад, упомянул о наследстве и о его бабушке, потерявшей память и лежащей в больнице. Они записали каждое слово. Все это заняло лишь десять строк, написанных круглым женским почерком. Я замолк. Что еще мог я рассказать? У меня не было его фотокарточки, я не знал ни его армейского номера, ни номера его паспорта, ни имени его отца. И не было у меня, разумеется, никакого представления о том, в какую часть он был направлен. Как и раньше, я сказал им:
– Может быть, он вообще не добрался до фронта, может быть, его вообще не мобилизовали. Это мы, в сущности, послали его в армию. Но со второго дня войны он исчез. Не провалился же он сквозь землю! Надеюсь, я не напрасно занимаю ваше время?
– Нет, что вы, – запротестовали они. – Надо проверить.
Они уже не были так сильно загружены делами.
Молоденькая младший лейтенант была послана с моими данными в помещение с компьютерами, две другие вытащили особую анкету для записи подробностей и внешних примет – цвет волос, рост, вес, цвет глаз, шрамы, особые приметы. Я начал описывать его. Понятно, я ни разу не видел его голым. Я только друг. Сказал что-то о его улыбке, о движении рук, о манере говорить.
Они внимательно слушали. У майора из прически все время выбивалась прядь волос, и она отбрасывала ее с глаз мягким движением, от нее исходил необыкновенный свет, настоящая красавица. Говорит тихим голосом, в руках маленькие компьютерные карточки, задает мне странные вопросы. Может быть, у него был шрам на правой щеке или золотые зубы в нижней челюсти? Потом советуется с лейтенантом, которая подает ей дополнительные карточки. Я понял вдруг: у них есть данные о еще не опознанных трупах и они хотят предложить мне какой-нибудь из них вместо него. Нет, так не пойдет.
Мне захотелось уйти. Дурацкая идея – искать его тут. Но ход дела уже не остановить. Подошла девушка-офицер, посланная к компьютеру, держа в руках длинный лист бумаги, выданный машиной, с записью всех носящих фамилию Ардити и служивших в армии за последние годы. Только одного из них звали Габриэль, пятидесяти одного года, жил в Димоне, освобожден из армии пять лет назад по состоянию здоровья. Они, разумеется, не думают, что это тот человек, которого я ищу, но если все-таки надумаю его повидать, то мне немедленно предоставят машину с шофером и отвезут в Димону.
Надо бы как-то от них отделаться…
Может быть, выяснить в больнице, может быть, бабушка наконец заговорит – может, она что-нибудь знает.
А они все не отстают от меня.
На улице проливной дождь. Небо, утром совершенно ясное, стало серым и тяжелым. Я утопаю в удобном кресле. Три женщины в офицерской форме внимательно слушают меня. Каждое слово, произнесенное мною, каждая мысль немедленно записываются. Недавно открытая пустая папка теперь не такая уж пустая.
Из соседней комнаты слышатся голоса. Мужской голос заставляет дрожать деревянную перегородку. Он предъявляет свои претензии твердым голосом, с упрямой логикой. Не может согласиться с объяснениями. У него нет никаких иллюзий, но он наверняка знает, что его сын никогда не был в части… (и он выговаривает длинный номер) и никогда не был в танке… (и снова он называет номер, состоящий из нескольких цифр). Он произносит номера бегло, без запинки, наверно, разбирался в них не одну неделю. Он говорил с его товарищами, говорил с его командирами, у него нет иллюзий, он только хочет узнать правильный номер части и номер танка, только это. И он давится слезами, а потом в наступившую тишину врываются растерянные, успокаивающие голоса.
Мы просидели все это время затаив дыхание и прислушиваясь и только теперь поднимаем глаза. Я встаю, решив уйти, но меня просят заполнить еще полстраницы – написать мои личные данные. Я оставляю свой адрес, получаю карточку с адресом отдела, номером телефона, именем майора. Обещаю позвонить, если узнаю что-нибудь новое.
Странно, но я снова наведался в это учреждение. И не один раз. Когда я бывал в Тель-Авиве, чтобы купить запасные части для машин, и проезжал мимо этого заведения, то всегда заходил туда. С течением времени отдел стал меньше, машины исчезли, два барака использовались для других целей, но женщины-офицеры еще там служили. Младший лейтенант превратилась в лейтенанта, лейтенант – в капитана, а майор носила уже штатскую одежду, ходила на последнем месяце беременности и очень похорошела, коротко постриглась, и от ее открывшейся нежной шеи нельзя было отвести глаз. Она улыбнулась мне, принесла папку с делом, в котором не добавилось ничего существенного, если не считать имени еще одного Ардити, о котором мы немного поговорили, чтобы прийти к выводу, что это не тот, которого мы ищем. Потом они предложили мне один или два еще не опознанных трупа, но я решительно отказался от них.
В начале весны я снова проходил мимо. Отдел совсем исчез. Осталась лишь одна комната в отделении, которое занималось теперь новобранцами. Майор уже родила и демобилизовалась, капитан тоже исчезла, только лейтенант осталась на месте – коротает время за чтением иллюстрированных журналов. Она тотчас же вспомнила меня.
– Вы все еще ищете его?
– При случае…
Я сел перед ней, мы немного поболтали о ее работе. Ей тоже в ближайшие дни предстояла демобилизация. Перед моим уходом она вытащила знакомую мне папку, просто так, для проформы, и мы вместе ужасно удивились, обнаружив в ней новый документ – расписку о получении со склада противотанкового ружья и двух магазинов с патронами, подписанную Габриэлем Ардити седьмого октября.
Она сама не знала, откуда появился здесь новый документ. Возможно, секретарша вложила бумагу в ее отсутствие.
А меня вдруг охватила дрожь. Если так, значит, он все-таки прибыл куда-то и получил противотанковое ружье и два магазина патронов, если так, то вполне возможно, что он убит.
Но мы снова уперлись в тупик. Куда мог я обратиться с этой бумагой? Капитан уже демобилизовалась, отдел закрыт, дела переданы в архив, и я, потихоньку продолжая свои поиски, ничего не сказал Асе.
Ася
Я ходила и закрывала дверь за дверью, опускала жалюзи. Адам был в ванной комнате, приделывал большую задвижку к двери балкона. В квартире, к которой добавились две комнаты из нашей прежней квартиры, темно. Старая мебель, давно проданная или выброшенная на чердак, вернулась к нам. Мы зажгли свет. А снаружи – ясный погожий день, голубое небо, и сквозь просветы в жалюзи я увидела двойной вид, открывавшийся из обеих наших квартир: открытое море, вади, порт с его подъемными кранами и дома Нижнего города. Я волновалась, с беспокойством ждала Дафи, которая должна была прийти из школы. В городе прошла волна убийств, вот на столе лежит газета, и в ней – квадрат, выделенный старомодным шрифтом. Волна убийств в городе, преступные группировки сводят свои внутренние счеты, преследуют друг друга, но даже не имеющие к ним отношения граждане, которым, казалось бы, нечего бояться, должны остерегаться и запирать свои дома. Люди сами, по собственной воле установили для себя комендантский час. А я жду Дафи и мучаюсь оттого, что мы отправили ее в школу в такой день, в день, когда убийцы сводят свои счеты в нашем районе. Я смотрю на улицу, она пуста – ни одного человека, ни одного ребенка. Но вот она появляется, наконец-то, идет одна по пустынной улице, залитой солнцем, за плечами ранец, на ней оранжевая форма общеобразовательной школы. Она действительно кажется меньше, словно стала ниже ростом. Вот сейчас она стоит и разговаривает с каким-то пожилым рыжим человеком маленького роста. Спокойно о чем-то беседует, улыбается. Она не торопится. А меня снова охватывает дикий ужас, я хочу крикнуть, но сдерживаюсь. Этот человек кажется мне очень опасным, хотя в его внешности нет ничего необычного. На нем просторный летний костюм. Я бегу к другому окну, чтобы лучше видеть их, а они исчезли, оба, но я слышу ее шаги, она входит в дом. Я бегу к ней навстречу, склоняюсь, чтобы снять с нее ранец, сколько же на нем ремней, замечаю, какая она маленькая, как будто стала ниже, даю ей пить, провожу в комнату, снимаю с нее одежду, надеваю на нее пижаму. Обращаюсь с ней как с маленькой девочкой. Она протестует: «Я не хочу спать». «Только несколько минут», – умоляю я, укладываю ее, укрываю одеялом, и она засыпает. Я уже успокоилась, закрываю дверь в ее комнату, выхожу в гостиную и вижу Адама. Застыв у входной двери, он смотрит на меня. Дверь оставалась открытой, Дафи забыла закрыть ее за собой.
Вдруг я понимаю. Тот человек проник вслед за ней, он вошел сюда, он здесь. Я не вижу его, но знаю: он здесь. Адам тоже знает и бросается искать его. Я несусь в комнату Дафи. Она погружена в глубокий сон, тяжело дышит. И снова кажется мне очень маленькой, может быть, семилетней девочкой, под большим одеялом чувствуется пустота, занимающая половину кровати. Она становится все меньше. Я слышу шаги Адама в гостиной, выхожу к нему, его лицо сияет.
– Кончено, – шепчет он, улыбаясь.
Я иду за ним – колени мои подгибаются – в другие комнаты, в комнаты прежней нашей квартиры, старая детская комната, игрушки, машины, большой медведь на синем комоде, а под старой складной детской кроватью, с приклеенными к ней изображениями птиц, со сломанными нанизывающимися шариками, лежит кто-то, труп, прикрытый одеялом. Голова выглядывает, и я различаю рыжеватые подстриженные волосы на толстой шее. В некоторых местах проглядывает седина. Адам убил его, как убивают насекомое. Потому что это был один из убийц, которые бродили по городу. Адам сразу же узнал его. Убил одним ударом, по виду и не поймешь – как. На мгновение я почувствовала жалость к этому лежащему мертвому человеку. Почему? Кто просил Адама ввязываться в это дело? Не спросив, не посоветовавшись, почему он убил его так быстро, как успел? И вот теперь и мы вступили в эту круговерть убийств, Господи, что же это он наделал? Я ощущаю ужасный гнет, сердце перестает биться, кто просил его? Такой страшный грех, вся наша жизнь будет разрушена. Как объясним, как оправдаемся, никогда не сможем мы избавиться от этого тяжелого тела. Ну и идиот, хочется мне крикнуть, я смотрю на него, улыбка уже исчезла с его лица, проступает растерянность, ужас, он начинает понимать, что натворил. Старается спрятать среди игрушек большую отвертку, которую держит в руке. Ой, что же ты наделал…
Дафи
Интересно, а видит ли она иногда сны? Разрешает ли она себе напрасно тратить время сна и отдыха на пустые сновидения, лишенные смысла?
По ночам я тихо вхожу в их спальню посмотреть на них спящих. Мои родители! Те, кто произвел меня на свет! Папа лежит на спине, борода разметалась по подушке, рука бессильно свесилась с кровати, кулак слегка сжат. Мама повернулась к нему спиной, скорчилась, как зародыш, лицом уткнулась в подушку, словно хочет спрятаться от чего-то.
Видит ли она сны? О чем они? Наверняка не обо мне. Занятая по горло женщина, сгибающаяся под тяжестью долга.
У меня нет мамы – это я поняла в последний год. Мама отсутствует, даже если она здесь же, рядом. А если у меня появится желание поговорить с ней откровенно, в спокойной обстановке, то придется заказать беседу заранее и точно указать время: без пятнадцати четыре после обеда или вечером в промежутке с десяти минут девятого до восьми сорока двух. Мама гонится за временем.
Она работает на полной ставке в моей школе, преподает историю в старших классах, готовит три двенадцатых класса к экзамену на аттестат зрелости. На ее рабочем столе всегда куча ученических работ и контрольных. Целыми днями она сидит и проверяет контрольные. Несчастные ученики – мама обожает устраивать контрольные. Она испытывает особое удовольствие, когда пишет «неудовлетворительно» своей красной ручкой в одиннадцать часов ночи.
Но и себя она не щадит, тоже пишет работы и контрольные. Она до сих пор учится и не собирается прекратить свое учение никогда. Все время бегает в университет на всякие научные заседания, на публичные лекции, на курсы усовершенствования учителей. Она занимается в аспирантуре, пишет исследования, сдает экзамены.
Сорокапятилетняя женщина с нежным, остреньким по-птичьи личиком, с красивыми глазами. Она принципиально не пользуется косметикой, в ее собранных в пучок волосах проглядывают серебряные нити, но она не будет красить волосы, тоже из принципа. Предпочитает одежду, вышедшую из моды, широкие юбки неопределенной длины, темные шерстяные платья, как у религиозных, туфли на низком каблуке. С ее длинными красивыми ногами могла бы неплохо выглядеть, но она не хочет отвлекать людей от важных дел, занимать их внимание. И это тоже из принципа.
Мы живем тут, следуя нескольким главным принципам.
Например, не пользуемся услугами домработницы, потому что это непорядочно, когда кто-то убирает вместо тебя квартиру и варит обед, даже если этот «кто-то» этим зарабатывает. Поэтому мама усердно занимается домашним хозяйством, хотя и не постоянно.
Существует ли на свете дом, где моют пол в девять часов вечера? Да – у нас. Папа и я тихо сидим в креслах у телевизора, чтобы немного понаслаждаться, глядя на этого лысого Кожака, после портящих настроение новостей, и вдруг появляется она, в фартуке, с тряпкой и ведром, заставляет нас поднимать ноги, чтобы вымыть под нами, работает бесшумно, но с каким-то сдержанным остервенением, не просит помощи и не получает ее, опускается на колени и трет пол.
«Революционная женщина», – сказал как-то папа, смеясь, и я тоже смеялась, хотя и не поняла, что он имеет в виду.
Если она стряпает, то сразу на несколько дней. В десять вечера, возвратившись с педсовета, идет на кухню, достает кастрюлю, разрезает на части две курицы и ставит варить. Двухнедельный запас пищи для ее семьи. Ей просто повезло, что у нее только одна дочка, которая к тому же не очень-то любит ее стряпню.
Утром, когда я выхожу на кухню позавтракать, мне приходится пристраиваться между контрольными учеников двенадцатого класса (мне, конечно, запрещается в них заглядывать) и обезглавленной рыбой, обвалянной в муке и фаршированной луком, готовой к обжариванию, которая предназначена для субботней трапезы. Необыкновенное усердие… Неудивительно, что на нее внезапно нападает страшная усталость и в восемь часов вечера она погружается в глубокий сон. Больше всего она любит спать перед телевизором, свернувшись в кресле калачиком. На экране идет кровавая перестрелка, а она спит себе в свое удовольствие час или два, пока папа не начинает уговаривать ее встать и перейти в кровать. Она открывает глаза, медленно просыпается и идет проверять контрольные.
Иногда мы пытаемся помогать ей в домашней работе. Даже я встряхиваюсь. Только, пока я уберу стакан и вымою ложку, вся работа уже сделана. У нас просто разный жизненный ритм, у нас с ней.
Поэтому я на его стороне, хотя он кажется отсталым, примитивным из-за своей молчаливости. Ходит в рабочей одежде, с грязными руками. Это здорово, что он отрастил себе такую бороду, лохматую, как у древнего пророка или художника. Что-то особенное, не как у всех, по крайней мере не похож на простого рабочего. Когда я училась в начальной школе, то стеснялась из-за того, что он не похож на других. Если меня спрашивали: «Где работает твой папа?» – я по простоте душевной отвечала: «Папа работает в гараже» – и тут же чувствовала, что мой ответ вроде как разочаровывает людей. Тогда я стала говорить, что папа владелец предприятия. А меня спрашивали: «Какого предприятия?» «Гаража», – отвечала я. И тогда мне начинали объяснять, что гараж – это не предприятие. А я говорила: «Большой гараж». И действительно, у него огромный гараж. Как-то в каникулы я пошла туда с Тали и Оснат, и они были поражены, когда увидели, сколько там машин и как десятки рабочих безостановочно там снуют – как в жужжащем улье.
Но потом я подумала: «Черт возьми, почему это я должна оправдываться, для чего прибавлять слово «большой», как будто я защищаю его?» И стала отвечать коротко: «У папы гараж», а если кто-нибудь особенно действовал мне на нервы своими расспросами, я отвечала просто: «Мой папа гаражник» – и в ответ на его недоумение широко улыбалась. В классе у нас большинство родителей – профессора политехнического или университета, инженеры, ученые, служащие больших фирм и офицеры.
А что плохого в гараже? Мы никогда не оставались без машины, более того, мы единственная семья, которая владеет двумя машинами. У нас в классе есть даже такие, у кого нет ни одной машины. И кроме того, у папы много денег, хотя по нам это не заметно. Это я поняла в последние месяцы. По-моему, даже мама не представляет, сколько у папы денег. Несмотря на все свое образование, есть вещи, которые она явно недопонимает.
Странная пара. Я удивляюсь, как они вообще поженились. Что у них общего? Я не помню, чтобы они когда-нибудь обнимались или целовались. Почти не разговаривают.
Но и не ссорятся…
Как чужие…
И это называется – любовь?
Я допытываюсь снова и снова у обоих вместе и у каждого в отдельности, как они познакомились. У обоих всегда один ответ. Они много лет учились в одном классе. Но ведь это не причина для того, чтобы всю жизнь провести вместе и рожать детей.
Когда они учились в школе, то не были такими уж друзьями. Папа бросил школу в десятом классе. Он напоминает мне об этом всякий раз, как я спрашиваю его что-нибудь по урокам. Мама, конечно, продолжала учиться. Через несколько лет они встретились снова и поженились.
Как будто их кто-то заставлял…
Когда они, например, делают это? Если они вообще занимаются этим.
Я за стенкой не слышу даже шороха…
А ночью я иногда брожу по дому…
Странные мысли приходят мне в голову, веселыми их не назовешь.
Иногда на меня нападает страх: может быть, они хотят разойтись и оставить меня одну, как Тали, у которой папа исчез несколько лет тому назад и она осталась с матерью, которая ее терпеть не может?
Я слышу их дыхание. Папа тихо вздыхает. В окне – первые признаки рассвета. Мои глаза, привыкшие к темноте, различают каждую мелочь. Ноги мои подкашиваются от усталости. Иногда у меня возникает желание залезть к ним в кровать и, балуясь, улечься между ними под одеялом, как я делала, когда была маленькой.
Но теперь это уже невозможно…
Слышится слабое чириканье птички, проснувшейся в вади.








