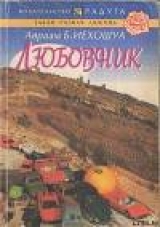
Текст книги "Любовник"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Адам
Так я по крайней мере понял. Испуганный, взбудораженный, стою я в воротах увядающего, запущенного сада ясным летним утром, опершись о крыло своей маленькой машины, смотрю на девушку, стоящую передо мной, чужую и знакомую, вижу ее серьезное лицо, по-птичьи заостренное личико, толстую косу, спускающуюся на грудь, окидываю быстрым взглядом ее фигуру, ступни ног в сандалиях, изгиб лодыжки и слушаю, как она рассказывает свой ясный и определенный сон; в первый момент мне показалось, что она придумала его, чтобы признаться мне в любви. Лишь позднее, уже после женитьбы, я удостоверился, что такими были ее сны – ясными и определенными. И всегда она запоминала их со всеми подробностями. Никакого сравнения с моими снами: я видел их очень редко и были они смутными и запуганными.
Мы решили поддерживать связь…
Но я приехал к ней в тот же вечер, на этот раз захватив с собой пижаму, бритву, зубную щетку и рубашку на смену, уже влюбленный в нее, будто по какому-то тайному повелению; мне даже не пришлось приложить усилий, чтобы влюбиться. Достаточно было вспомнить девушку, которую я разбудил тогда ночью в палатке и которая казалась мне несравненно красивее ее теперешней. Я был влюблен не в нее и не в ту девочку, а во что-то среднее между ними.
Она слегка удивилась, увидев меня в тот же день. Ее отец, бродивший по дому, как лев в клетке, остановился на минутку и посмотрел на меня, а потом продолжил свое хождение. (Так он бродил по дому многие годы, почти не выходя за порог, не встречаясь с друзьями. Гордый и злой на весь мир, уверенный в своей правоте, в том, что с ним поступили несправедливо.) Только ее мать, мягкая и чуткая женщина с подслеповатыми глазами, подошла и пожала мне руку. Большую часть вечера мы провели в Асиной комнате. Она говорила о своей учебе, и о своих планах, и о том, что творится в мире. Ее мысли заняты политикой, общественными процессами, она сопоставляет, анализирует, сыплет именами, вспоминает события, всякие секретные подробности, неизвестные другим, которые кажутся ей чрезвычайно важными. Только тут я понимаю, насколько притупили мою любознательность долгие годы одиночества и тяжелой работы в гараже. Но вот я беру ее за руку, прижимаю к себе, целую ее губы, грудь, ощущаю на губах слабый вкус мыла.
Ночью она снова постелила мне на старом диване в гостиной. И снова в два или три часа ночи вошел опальный начальник в своей рваной пижаме, с возбужденным багровым лицом, опустился на колени перед большим старым приемником, крутит ручки, переходит от станции к станции, ловит название государства или свое имя в дальних далях. Я невольно ежусь под простыней, укрываюсь с головой, лежу тихо, мысленно спрашиваю себя, действительно ли я люблю ее. Наконец он успокоился и вернулся в свою комнату, а я не мог больше уснуть. В конце концов я встал, потихоньку оделся, побрился и зашел в ее комнату, чтобы разбудить. Но она спала очень крепко, сжавшись в комок; наверно, видела сон… «Люблю ли я ее на самом деле, – вертелось у меня в голове, – не лучше ли мне вовремя исчезнуть». Я оставил ей ничего не значащую записку и с первыми лучами солнца уехал обратно в Хайфу.
В полдень она появилась в гараже. Наверно, отец дал ей адрес. Я лежал под машиной, менял выхлопную трубу, и вдруг увидел, как она нерешительно входит в гараж. Я тотчас же встал и подошел к ней, покрытый копотью, недовольный, а она, ничего не говоря, подает мне знак, чтобы я продолжал работу, смотрит на меня испуганно, и это мне понравилось, успокоило, как будто так и должно быть. Я вернулся к машине, залез под нее, работал быстро и сосредоточенно, чтобы отделаться от хозяина машины, который с любопытством наблюдает, как она бродит между остовами машин, смотрит на инструменты, разбросанные вокруг, разглядывает фотографию голой девицы, которую я вырезал из журнала и повесил на стену. Она изучила все досконально, с большим интересом, даже сунулась в старый мотор, стоявший на столе. Наконец-то мне удалось надеть выхлопную трубу, и клиент исчез вместе со своей машиной. Я подошел к ней, она не стала объяснять причину своего неожиданного приезда и не расспрашивала, почему я сбежал утром, не попрощавшись. Спросила только, как работает мотор. Я объяснил ей. Слушала она внимательно, глаза у нее были грустными, голос слегка дрожал, вот-вот заплачет. Но вопросы задавала толковые, ни на что другое не позволяла отвлекаться, и вот я уже с увлечением растолковываю ей, даже разобрал для нее старый бензиновый насос, чтобы показать внутреннее устройство, объясняю и объясняю, никогда не думал, что можно сказать так много слов о работе обычного мотора.
Через три месяца мы поженились…
Она перевелась учиться в Хайфу, и первые годы мы жили в доме моей матери.
Я не знал, будет ли наш брак устойчивым, иногда казалось, что еще немного, и она оставит меня, пожалеет, что вышла за меня, найдет кого-нибудь, кто захочет взять ее. Я бы совсем не удивился, если бы она вскоре изменила мне. Но жизнь текла спокойно. Она была занята учебой, и мы вели очень размеренный образ жизни. Утром она шла в училище, потом сидела в библиотеке, а я, закончив свой рабочий день, за ней заезжал. С моей старой и больной матерью она уживалась отлично, терпеливо слушала ее бесконечную болтовню, ходила с ней по магазинам, терпела все ее причуды, прислушивалась к ее советам. Поскольку мы, мама и я, сразу почувствовали, что повариха из нее никудышная, мы поручали ей другие домашние дела, например мытье посуды или пола, и она все выполняла очень старательно, не брезговала никакой работой. Уже тогда я обнаружил ее странную любовь к старухам. В Хайфе жили несколько ее старых теток, к которым она была очень привязана и которых часто навещала.
И училась, училась. Все время с книгами, тетрадями и сумками. Еще не закончив училище, она записалась на вечерние занятия в университет. Почти каждые две недели у нее были экзамены, к которым она готовилась вместе со своими сокурсниками. Она оставляла мне записку, куда заехать за ней в конце дня: в библиотеку, в чей-нибудь дом, в кафе, иногда в парк. И я еду за ней после работы, покрытый копотью, в грязной одежде, тяжело шагаю по библиотечным залам, между столами, провожаемый взглядами читающих, нахожу ее в конце концов и тихо касаюсь ее плеча. Она кивает головой и шепчет: «Только закончу страницу». Я сажусь в сторонке, перелистываю страницы открытой книги, лежащей на столе, читаю, ничего не понимая, не находя связи. Как-то раз я сказал ей с улыбкой: «Может быть, и я стану изучать что-нибудь, сменю профессию, еще не поздно». Она удивилась: «Зачем?» И действительно, зачем? Ничто из ее мира не привлекало меня по-настоящему.
Хотя она и говорила мне, чтобы я не утруждал себя, что она может добираться домой сама, я всякий раз заезжал за ней. Мне хотелось знать, где она, с кем встречается, что делает в течение дня. Иногда меня одолевала странная ревность, я торопился закрыть гараж еще до окончания работы, намеренно являлся за час или два до условленного времени, подстерегал ее на лестнице или подглядывал в библиотеке из какого-нибудь угла. Но ничего такого не заметил. Она не собиралась оставлять меня, ей не приходило в голову влюбиться в кого-нибудь другого. Потому что она нашла себе мужа и дом и могла освободиться для интересующих ее дел и даже выкроить время для общественной работы. Она была членом студенческого комитета и однажды организовала забастовку, которая закончилась успехом.
Уже на второй год учебы она нашла себе работу на неполную ставку – замещать учителей в начальной школе. Вначале ей пришлось там нелегко. Ученики изводили ее, хотя она никогда не рассказывала подробностей о том, что там происходило. Вечером она возвращалась сама не своя. Но старалась изо всех сил, тщательно готовилась к урокам, иногда закроется в ванной комнате и громким голосом повторяет урок, задает вопросы и отвечает на них. Сама делала всякие таблицы и рисунки, раскрашивала огромные листы картона, приклеивала сухие растения и обрамляла их веселыми рисунками. Поскольку она была неумехой, я иногда помогал ей.
В общем, я сразу же понял, что мне досталась женщина удобная и уступчивая. Она очень старалась не ссориться, относилась ко мне с уважением, даже с некоторой робостью. Может быть, чересчур говорлива, но, поскольку я сам все больше отмалчивался, получалось даже кстати, ведь иногда ей приходилось говорить за двоих.
Почти каждый день или через день мы делали с ней это, но в большинстве случаев кончал почему-то только я. Мама старалась все время проводить с нами, и, поскольку по целым дням нас не было дома, она с нетерпением ждала возможности поговорить с нами вечером, не оставляла ни на минуту, заходила без стука к нам в комнату, когда мы раздевались. Если я запирал дверь, она начинала беспокойно звать меня из-за закрытой двери. Ночью она оставляла свет во всем доме. Спала она плохо и поэтому иногда могла зайти к нам посреди ночи. Иногда мне приходилось ждать чуть ли не до утра, чтобы разбудить Асю.
Она послушно отвечала мне. Бывало, шепчет во сне, еще с закрытыми глазами: «Минутку, только досмотрю сон», и я жду, сижу на краю кровати и жду, чтобы она проснулась окончательно, улыбаясь напоследок своему сну. Она открывает глаза и помогает мне снять с нее пижаму. На следующий год, когда она начала работать, мне стало все труднее будить ее рано утром, перед уходом на работу. Я брал ее полусонную, входя в ее сны. В то время я нанял своего первого рабочего – араба Хамида и дал ему ключ от гаража, чтобы он открывал его утром и принимал первых клиентов. Это был первый рабочий, которого я нанял, конечно временно, с поденной оплатой, чтобы можно было уволить его, если нечем будет платить, но дела шли хорошо, и через некоторое время я нанял еще одного.
У нас появилась, таким образом, возможность немного задерживаться по утрам, я мог выслушивать ее рассказы о снах, которые казались мне все более отвлеченными и странными. Иногда мы говорили о себе – как и почему поженились, не сожалеем ли об этом. Она пугалась: «Ты жалеешь?»
Нет, конечно, почему бы мне жалеть? Хотя иногда мне казалось, что я не люблю ее больше, и я замыкался в себе. Но она, как я уже говорил, удобная женщина, выполняла мои желания, правда, особенных желаний у меня и не было. В том-то и дело, что она не возбуждала во мне особых желаний. В те годы я тяжело трудился, работа требовала полной отдачи всех сил, но не только из-за этого бывал я таким усталым по вечерам.
Что-то в ней утомляло меня. Что-то неопределенное. Я не говорю о тех коротких речах, которые она иногда произносила передо мной, я охотно выслушивал их. Но что-то в них казалось мне оторванным от действительности, нет, не потому, что она жила в действительности, отличной от моей. Тут дело в другом… В чем-то, чего я не мог выразить, и потому молчал. Все больше и больше мне казалось, что настоящая жизнь проходит мимо нее, что она упускает ее, удаляется от нее, но что такое настоящая жизнь, мне, разумеется, трудно было бы сформулировать. И ведь она совсем не витала в облаках. Выполняла свои обязанности, работала, училась, все время носилась куда-то, поддерживала контакты со многими людьми. Она выработала у себя быструю походку, решительную такую, правда, из-за этого ей приходилось слегка сутулиться, что-то в ее осанке появилось старческое. Нет, Нет, не старческое, серенькое, нет, не серенькое, что-то другое. Не те слова. Но как же ее описать? Я хочу описать ее. С чего начать? Мне кажется, что я еще и не начал…
Дафи
Разве я жалуюсь? В последнее время они оставляют меня в покое. Каждый по-своему. Оснат всегда говорит: «Твои стареющие родители хоть не пристают к тебе». Мои стареющие родители? Я немного удивилась, но промолчала. Неужели? Бедняжка Оснат, ей нет покоя. С ней вместе в комнате живет ее десятилетняя сестра, похожа на нее, как близнец, только еще некрасивее и, кажется, умнее. Действует Оснат на нервы, роется в ее ящиках, меряет ее одежду, вмешивается во все разговоры. Нет от нее покоя. Кроме того, существует еще младенец, родившийся полтора года тому назад, всем нам на радость, наш класс в полном составе был приглашен на брит-мила,[9]9
Обрезание.
[Закрыть] посмотреть, что ему будут делать. Такой сладкий ребеночек, уже начал ходить на своих кривых ножках, добирается до всего. Как говорит Оснат, «бродячая катастрофа». Всегда простужен, из носа течет, и он вытирает его об одеяла, простыни, одежду гостей. Постоянно у него в руках черный фломастер, и попробуй отними – начинает вопить как резаный. Разрисовывает все подряд – стены, тетради и книги. Вечно у них крики, плач и переполох. Сумасшедший дом. А еще слетаются к ним гости со всего света. И тогда Оснат уступает свою комнату и спит на матраце в гостиной.
Ну и тихо же у вас…
Давай поменяемся, Дафи…
И правда, у нас тихо. В послеобеденные часы, когда мамы нет, а папа еще не вернулся с работы, в нашей затемненной и тщательно убранной квартире можно услышать тиканье счетчика. С ума сойти. Счастье еще, что у меня собственная комната, мое царство, мой балаган, неприбранная кровать, валяющаяся на полу одежда, разбросанные повсюду книги и тетради, плакаты на стенах. Был период, когда они пытались приучить меня к аккуратности, но потом отстали. «Это мой порядок, – сказала я, – мой стиль» – и стала закрывать свою дверь, чтобы они не заходили ко мне и понапрасну не раздражались.
И вообще этот способ – закрывать дверь в свою комнату, – который я изобрела в последний год, оказался очень удачным. Когда приходят гости, я остаюсь в своем мире. Но у нас не часто бывают гости. Иногда дядя, холостяк из Тель-Авива, приезжает в Хайфу, остается поужинать и исчезает. Несколько раз в году, вечером по пятницам, к нам приходят четыре-пять солидных пар, большей частью одни и те же люди: друзья их детства или учителя и учительницы из нашей школы, иногда даже преподающие в моем классе. Однажды на такой предсубботний вечер был приглашен Шварци, тогда я вышла посмотреть, как он ведет себя в компании, и увидела, что большой разницы нет – такой же надутый и важный. Вечера эти довольно скучные, на них никогда не говорят о самом сокровенном, не хотят бередить себе душу. Сидят и спорят о политике, обсуждают цены на квартиры и машины и говорят о неприятностях, которые доставляют им дети. Всегда кто-нибудь один верховенствует, не дает никому слова вставить. Папа бесшумно разносит вазочки с арахисом и фисташками, садится и молчит. Работа в гараже отупляет его. Раньше я иногда входила и присоединялась к гостям, чтобы перехватить кусок пирога, если успевала заметить его заранее, а то ведь ничего не оставят. Но в последнее время я решила, что с меня вполне достаточно лицезреть моих учителей в первой половине дня и совсем ни к чему встречаться с ними еще и вечером у себя дома. Поэтому я стала закрываться в комнате, стараясь не подавать признаков жизни. Иногда какой-нибудь гость откроет осторожно дверь, думая, что здесь уборная, и удивляется, увидев, как я тихо сижу за столом, думая свои думы. Льстиво улыбается мне и начинает приставать с вопросами. Всегда изумляются, как я выросла. Послушать их, так можно подумать, что я расту у них на глазах.
Короче, я стала запирать дверь на ключ, иногда даже ни с того ни с сего, посреди дня. Случается, что в послеобеденные часы мама начинает сильно стучать в мою дверь – тетя Стелла, сестра дедушки, явилась с визитом в сопровождении одной из своих подруг и хочет меня видеть. Я выхожу к ним, целую ее, иногда и другую старушку, даже если она мне незнакома, присаживаюсь рядом и отвечаю на расспросы. Тетя Стелла, прямая и высокая, с длинными седыми волосами, с открытым лицом, около нее другая старушка, маленькая и худенькая, в темных очках, с толстой палкой, – и начинается короткий допрос. Она хорошо меня знает; в те времена, когда мама еще училась, а я была маленькой, она даже ухаживала за мной. Спрашивает о моих отметках, знает, что мне не дается математика, помнит имена Оснат и Тали. И даже об отце Тали, который сбежал, что-то слышала. И я покорно, с улыбкой отвечаю ей, слушаю, как она допрашивает маму, что та делала в последний месяц, ругает ее, что за делами себя забывает, интересуется папиной спиной, которая болела у него несколько лет назад, передает приветы от своих знакомых, которые чинили в его гараже машины. Почти совсем не говорит о себе, только интересуется нами или другими, а мама напряженно сидит на кончике кресла, краснеет, как маленькая девочка, смеется неестественным смехом, порывается показать им купленное недавно платье, приносит из кухни пирожки, бутерброды, сыры, салаты, но Стелла не притрагивается ни к чему. Зато вторая старушка старательно жует. Мама просто обожает этих старух, ухаживает за ними с подобострастным восторгом. И когда они наконец-то встают, чтобы уйти, она буквально умоляет, чтобы они позволили ей отвезти их домой.
В конце концов они уходят. Мама подвозит их до центра. Я тем временем открываю маленькую плитку шоколада, который принесла мне Стелла; шоколад самого высшего сорта. Мама возвращается через полчаса в приподнятом настроении, усаживается в кресло, где сидела тетя Стелла, она так потрясена этим посещением, что ничего не в состоянии делать. Я внимательно рассматриваю ее – волосы седеют, на лице морщины, спина немного сутулая, она стареет радостно, еще немного – и купит себе палочку.
Адам
Как же описать ее? С чего начать? С ног, тонких ног молодой девушки в тяжелых туфлях на низком каблуке, которые скрывают почти всю стопу, может быть, и удобных, но бесформенных и немного сбитых.
Она одевалась странно. Вкус ее становился все более унылым. В центре Кармеля она нашла себе магазин, которым владели две старые «екит». Они одевали ее в серые шерстяные платья с белым закрытым воротником и рукавами до локтя, в костюмы какого-то мужского покроя с подкладными плечами. Они делали ей скидку, и это доставляло ей большое удовольствие, даже если приходилось брать платье с каким-нибудь дефектом. Когда Дафи была маленькой, эти старухи привозили для нее детские платья из того же материала, и Дафи выглядела в них как маленькая старушка.
Я не очень-то в этом разбираюсь, но мне всегда казалось, что в подборе цветов одежды у нее не все в порядке. Кроме того, она влюблена в несколько старых платьев, все время то удлиняет их, то укорачивает, следуя тому, что она называет «велением моды»; подправляет и вновь купленные платья, отрезая, изменяя, подшивая своими не слишком-то ловкими руками.
Она почему-то считает необходимым экономить деньги. У нее какое-то опасливое к ним отношение. Смешная экономность, почти скупость, в основном касательно себя.
Я почувствовал это давно, еще в ее доме, по тому, как делили еду на совершенно равные порции, а остатки не выбрасывали, а снова разогревали и поджаривали, по тому, как использовали старые обертки. Ее отец писал свои воспоминания, заполняя обе стороны листа, без полей, а когда в тетради кончались страницы, продолжал на обложке. Но там, возможно, была тому причина, ведь со времени возникновения государства ее отец не работал и они жили на маленькую пенсию, которую он получал за службу в органах безопасности еще до образования государства. После того как его отстранили, гонор не позволял ему согласиться на какую-либо работу.
Но у нас в последнее время деньги водились, и с каждым годом их становилось все больше. Правда, в первые годы хватало с трудом, дела маленького гаража шли туго, кроме того, компаньон отца, Эрлих, решил выйти из дела, и я должен был выкупить его часть, из-за чего погряз в долгах. Когда появились первые прибыли, то каждый грош я тратил на новое оборудование и расширение помещения. Она, конечно, не могла следить за развитием дела и довольствовалась тем, что я давал ей. Никогда не просила больше, а с тех пор, как начала работать, ее жалованье поступало в банк и там терялось в доходах от гаража. Сомневаюсь, знала ли она сама, сколько получает, и вообще странно, но денежный вопрос не интересовал ее, она продолжала жить экономно, бережливо, словно выполняя какой-то долг. По прошествии нескольких лет она взялась помогать своим родителям; я, конечно, не сказал ни слова, и она так была благодарна мне, что стала в отношении себя еще более экономной, до аскетизма.
Прислугу у нас в доме никогда не держали. В первые годы, после того, как родился ребенок, и до того, как он пошел в детский сад, нам помогала ее мать: приезжала в начале недели специально из Тель-Авива, чтобы пожить у нас, – а в конце недели приходила ее старая тетя, жившая в Хайфе. Иногда даже брала ребенка к себе. А Ася носилась из школы на занятия в университет, училась и преподавала. Если что-нибудь в доме выходило из строя, холодильник или электрическая колонка, я чинил сам, но потом это мне надоело, и, не спрашивая ее, я заменял их новыми. Она бывала потрясена большими расходами. «Разве у тебя есть деньги? Ты уверен?» Когда мы сменили квартиру и залезли в долги, она решила, не посоветовавшись ни с кем, взять еще полставки в вечерней школе, хотя мы могли расплатиться с долгами без всякого труда. Но я не сказал ничего, я приучил себя давать ей полную свободу действий. В тот период мои гаражные дела пошли в гору, доходы быстро росли; Эрлих, бывший компаньон, вернулся в гараж, на этот раз бухгалтером. Никуда не годный механик, он оказался чародеем в денежных делах. У него был свой особый метод манипулировать выплатами, ворочать счетами. Если заходил новый клиент с небольшой починкой, мы брали с него очень маленькую плату, иногда вообще ничего не брали, и он, конечно, заявлялся к нам снова, а после нескольких посещений мы нагревали его на приличную сумму, не слишком большую, но по крайней мере процентов на двадцать выше прейскуранта. И он, разумеется, платил, не споря и не вдаваясь в подробности. Эрлих организовал рассылку счетов по почте. Мы не требовали, чтобы клиент платил тотчас, хотя машину он получал сразу после ремонта. Мы давали людям почувствовать, что оплата вроде бы дело второстепенное, самое главное – хорошее обслуживание, совсем не упоминали о деньгах, а через неделю или две, когда клиент уже и не помнил, что был у нас, по почте прибывал счет. И люди платили без возражений, как оплачивают счета за электричество или телефон. Все чаще счета стали оплачивать предприятия или фирмы и, конечно, без всяких выяснений, только требовали квитанции. Но Эрлих умел справляться и с этим; уже не будучи моим компаньоном, он заботился о гараже как о своей собственности и боролся за каждый грош, умел делать сложные комбинации, зная досконально все параграфы налогового уложения, советовался с юристами. Мы начали расширяться, нанимали все больше рабочих, открыли новые отделения, стали продавать запасные части. Каждый месяц приносил доход в десять или пятнадцать тысяч лир. В своем кошельке я всегда таскал тысяч пять, просто так, без особой надобности.
Но она не понимала, каково наше положение, вернее, даже не хотела понимать, да и не очень-то я старался объяснить. Она все еще считала гараж каким-то кооперативом, не беря в голову, что вся прибыль в конце концов идет мне.
Она очень редко заходила в гараж, словно избегала его. Сомневаюсь, знала ли вообще, где он начинается и где кончается. Просто, не вникая, испытывала большое уважение к моей работе, видя, как я встаю на рассвете и возвращаюсь поздно вечером. Хотя теперь я не приходил домой весь покрытый копотью и с поцарапанными руками, как в первые годы.
– Тебе нужно еще денег? – спрашивал я ее время от времени.
– Нет, – быстро отвечала она, даже не раздумывая, и предлагала мне беречь деньги для гаража, на всякий случай.
Что могло случиться? Может быть, заменят машины лошадьми?
Вторую машину, для себя, она не хотела ни за что. Для чего она ей? Она прекрасно обходится автобусом. Но я замечал взгляды, которые бросали в мою сторону учителя и ученики, когда мне приходилось заезжать за ней в школу или университет и я шел рядом с ней в своем грязном комбинезоне, слегка поддерживая ее под руку. Ее это совсем не трогало, а меня задевало. Я купил маленький подержанный автомобиль, поставил его около дома и заставил ее учиться вождению. На первом экзамене она провалилась, но потом сдала; ей даже понравилось сидеть за рулем. Теперь она могла расширить поле деятельности, взвалить на себя больше обязанностей. В моторе она не понимала ничего, да ей это и не требовалось. Я постоянно заботился, чтобы все было в порядке. Как-то раз она прибыла в гараж посреди дня. Порвался ремень вентилятора, и мотор чуть не сгорел; она была в совершенной панике. Меня не оказалось на месте, и рабочие, которые не знали ее в лицо, не обращали на нее никакого внимания. Так она и сидела за рулем, ожидая очереди, как обычный клиент, и проверяя тем временем контрольные своих учеников. В конце концов ее заметил Эрлих, подбежал к ней, вытащил из машины и привел в свою контору, приказав рабочим немедленно исправить поломку. Помнится, когда я пришел, она уже стояла около отремонтированной машины, а рабочие не сводили с нее любопытных взглядов, рассматривая с какой-то зачарованной улыбкой. Теперь они уже знали, что это моя жена. «Хади эль хатиара?»[10]10
Это его старуха? (арабск.)
[Закрыть] – спросил кто-то шепотом стоящего рядом товарища.
Хождение по магазинам в поисках какой-нибудь вещи для себя она считала пустой тратой времени, лишним утомительным занятием. Иногда сколько могла оттягивала необходимые покупки, продолжая пользоваться совершенно изношенным старьем – сумкой, перчатками или зонтиком. Ходила в потерявшей форму соломенной шляпе, к которой за долгое время привязалась. Ото всех моих уговоров она отделывалась обещаниями, откладывая покупку со дня на день. В конце концов я просто выбрасывал изношенную вещь на помойку, даже не ставя ее в известность. Она искала день-два, пока я не признавался в содеянном.
– Но почему? – удивлялась она. – Тебе просто хочется сорить деньгами?
И тогда я решил сопровождать ее по магазинам. Мы встречались в городе после работы и вместе искали по магазинам нужную ей вещь. Она не была требовательным покупателем. Все ей нравилось, казалось подходящим и практичным. Вот только каждый раз изучала ценник, раздумывая, какую сумку ей купить – за сто или за сто сорок лир, а я тем временем стою рядом, и у меня в кармане тысячи три, просто так, на всякий случай.
– Это не дорого? – советуется она со мной.
– Нет, совсем не дорого.
В конце концов она покупает самую дешевую.
А я молчу, но злость меня разбирает.
В пику ей везу ее в самое дорогое, фешенебельное кафе, заказываю кофе, пирожки и бутерброды, что-нибудь легкое, а она ничего не хочет есть, решается только на кофе.
– Нет аппетита, – утверждает она, а сама смотрит голодными глазами, как я уничтожаю один бутерброд за другим.
– Ты и правда не хочешь есть?
– Не хочу. – Она улыбается, рассматривает дешевую сумку, которую только что купила, убеждает себя, что сделала на редкость удачную покупку. – Она больше той, дорогой, – объясняет мне, а я молчу, улыбаюсь про себя, плачу официантке бумажкой в сто лир, оставляю большие чаевые. Но она не обращает внимания на толстый бумажник, лежащий на столе. Ее совершенно не касается, сколько у меня денег.
«Хади эль хатиара», – вспоминаю я слова рабочего-араба, и у меня сжимается сердце.
А она улыбается мне добродушной улыбкой, быстро подбирает крошки с моей тарелки и отправляет их в рот, допивает кофе, смотрит на часы. Она вечно торопится, думает о чем-то другом – об истории, экзаменах, педсовете. Удалось ли мне описать ее?








