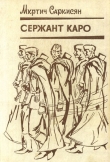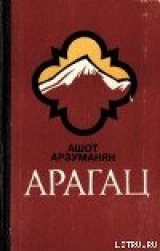
Текст книги "Арагац (Очерки и рассказы)"
Автор книги: Ашот Арзуманян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Виктор Амбарцумян ответил согласием. В ответном письме г-ну Эбихара Мицуеси он сообщил: «…Я думаю, что Ваша идея опубликовать взгляды ученых различных стран в виде переписки между ними и японскими учеными очень хороша». Далее следовали ответы на вопросы профессора Хатанака Такэо.
В кратком изложении строй мыслей Амбарцумяна таков.
Перспективы изучения Солнечной системы в предстоящем десятилетии огромны. Всякому ясно, что с каждым годом в глубины пространства будут отправляться все более совершенные летательные аппараты, которые сообщат нам достоверную информацию о различных космических телах. Не так далеко время, когда первые люди совершат полеты в мировое пространство, но, конечно, трудно предсказать точно, когда это случится.
Нельзя не признать, что наука о планетах и их спутниках, успешно развивавшаяся с момента изобретения телескопа и до начала XX века, в дальнейшем была до известной степени оттеснена на второй план в связи с фантастическими темпами развития наших знаний о физике звезд и о строении звездной Вселенной. Нам, работникам в области звездной физики и звездной астрономии, казалось, что планетарная астрономия находится в замороженном состоянии. Так, человеку, летящему на самолете, кажутся почти неподвижными поезда и автомобили, движущиеся по земле. Конечно, планетарная астрономия двигалась вперед. Все же прошедшие десятилетия не принесли решающих успехов. Но вот фотографии противоположной стороны Луны, полученные советскими учеными, явились предвестником коренных изменений, которые произойдут в этой области. Возможность изучения планет и их спутников обещает разрешение многих задач.
Хочется особенно отметить одну сторону дела. Речь идет о происхождении планет и их спутников. В то время как вопросы происхождения и эволюции звезд получили за последние десятилетия весьма конкретное и плодотворное развитие (хотя решена пока только часть вопроса), проблема происхождения планет и спутников продолжает оставаться ареной довольно произвольных и малообоснованных предположений. Причина в том, что число различных состояний звезд, подробно изученных нами, огромно. Сравнивая звезды, находящиеся в разных стадиях развития, мы получаем возможность делать заключения о закономерностях происхождения и развития звезд.
Парадоксальным образом по отношению к более близким телам – планетам – ученые были до сих пор в худшем положении: подробно изучили одну планету – нашу Землю и знали внешний вид одной стороны Луны. Но наши сведения о других планетах были крайне скудны. Чтобы составить себе представление о состоянии других планет, мы всегда старались дополнить эти скудные сведения различными предположениями, основанными на известной аналогии с Землей. Поэтому, когда мы рассуждали о происхождении и развитии планет, то в основном исходили из данных, относящихся к Земле. Иными словами, брали за основу твердые сведения об одной планете, прибавляя к ним жалкие сведения о других планетах, и стремились построить теорию эволюции планет. Но очень трудно заниматься проблемой эволюции объекта, хорошо известного нам только в одном состоянии, на одной стадии развития. Именно поэтому наши надежды на предстоящее бурное развитие планетной астрономии очень велики. Сравнение надежных данных, касающихся других планет, с данными геофизики явится крепкой основой для теории эволюции планет и планетных систем.
Конечно, большие возможности откроют наблюдения небесных тел, производимые вне земной атмосферы. Искусственные спутники Земли будут играть большую роль как астрономические обсерватории, находящиеся вне земной атмосферы. Но пока еще трудно делать какие-либо конкретные предсказания. Пятнадцать лет тому назад никто не мог предвидеть современные успехи радиоастрономии. Поразительным образом оказалось, что радиоастрономия стала доставлять нам сведения главным образом о нестационарных объектах и нестационарных явлениях во Вселенной. Радиоастрономические наблюдения как бы отбирают эти явления и доставляют нам, в первую очередь, сведения о них. Совершенно иной характер носит научная информация, получаемая путем оптических наблюдений. Грубо говоря, она дает более статическую картину мира. Никто не мог предвидеть этой замечательной способности радиоастрономии. Будем же надеяться, что наблюдения Солнца, отдаленных звезд и туманностей, которые будут произведены с искусственных спутников, так же щедро дополнят наши современные знания, как радиоастрономия дополнила оптическую астрономию.
– Что касается перспектив развития обычных методов наблюдения с Земли, то должен сказать, – продолжает Амбарцумян, – что сам я плохой наблюдатель. Это я говорю не из скромности. После окончания Ленинградского университета я работал в Пулкове у А. А. Белопольского, которого считаю великим наблюдателем-астрофизиком, но даже это не помогло мне стать наблюдателем. Тем не менее обращает на себя внимание то, что применение электроники к оптической астрономии развивалось до сих пор довольно медленно.
Между тем возможности в этой области гигантские. Поэтому увеличение чувствительности в современных телескопах с помощью электронных преобразователей явится мощным рычагом прогресса в астрономии. Количество объектов, доступных изучению современными оптическими методами, очень велико. Мы можем наблюдать сотни миллионов звезд и много миллионов галактик. Новые методы умножат эти числа в десятки раз.
Многие звезды следует наблюдать почти непрерывно. Иными словами, объем астрономической информации, которую мы должны получать, огромен. Мы, астрономы всей Земли, не справляемся с этим. Отсюда ясно, что нам нужно. Мы должны иметь большое количество крупных телескопов. Эти телескопы должны быть максимально автоматизированы, для того чтобы наблюдения велись по программе, заранее заданной на ночь. Несколько фантазируя, дальше я скажу, что и само программирование должно вестись автоматически и непрерывно приводиться в соответствие как с прогнозом погоды, так и с ходом выполнения программы данного момента. Кроме того, должна быть автоматизирована и обработка наблюдений. Я уверен, что в шестидесятых годах мы достигнем серьезных успехов в этом направлении.
Говоря о перспективах теории эволюции звезд и других космических объектов, я чувствую себя несколько более уверенным. Мне кажется, что успехи в области изучения звездной эволюции, начавшиеся в пятидесятых годах, будут продолжаться. Однако качественных скачков я ожидаю главным образом в результате изучения некоторых малоисследованных нестационарных объектов. Нам нужно по-настоящему понять, какова природа объектов Харбига-Харо, что из себя представляет ядро Крабовидной туманности и т. д. Вероятно, будут найдены и другие «странные звезды», изучение которых обогатит сведения о звездных состояниях. Но больше всего я жду успехов в области внегалактической астрономии. Мне кажется, что правильное выяснение природы радиогалактик, таких, как радиогалактики в Центавре, Лебеде и Деве, окажет решающее влияние на решение проблемы эволюции галактик как звездных систем. С другой стороны, проблемы происхождения звезд и галактик переплетаются теснейшим образом. Поэтому я возлагаю очень большие надежды на радиоастрономические данные. Действительно, радостно видеть, что развитию радиоастрономии уделяется большое внимание во многих странах.
И наконец, о взаимодействии различных наук. Мы наблюдаем рост этого взаимодействия, происходящий с огромной быстротой. Меня больше всего интересует взаимное влияние физики и астрономии. Когда-то астрономия оказала огромное влияние на формирование основного раздела физики – теоретической механики. Можно считать, что физика с лихвой оплатила свой долг. За последние сто лет бурное развитие астрофизики явилось результатом необычайно плодотворного воздействия физики на астрономию. В то же время за эти сто лет влияние астрономии на физику было сравнительно слабым. Мне кажется, что мы находимся накануне новой перемены ролей. Новые факты, раскрываемые астрофизикой, настолько своеобразны и связаны со столь глубокими свойствами вещества, что для их объяснения потребуется быстрее развивать наши сведения о свойствах элементарных частиц, об электронно-ядерной плазме и о сверхплотных состояниях материи. Это явится огромным импульсом для нового развития физики. Произойдет ли эта новая перемена ролей уже в наступающем десятилетии, сказать трудно. Поживем – увидим…
Наступило лето 1961 года. Мысли астрономов всего мира были заняты предстоящими событиями в Беркли. Здесь, в августе 1961 года, состоится XI конгресс Международного астрономического союза. Кто же будет на очередной срок избран президентом?.. Этот вопрос волновал всех.
Советские астрономы из Москвы полетят в Париж, затем пересекут Атлантику, Нью-Йорк, и наконец самолет приземлится в Лос-Анджелесе. Там должны состояться два симпозиума. А уж потом в Сан-Франциско, близ которого – небольшой городок Беркли. Это резиденция Калифорнийского университета. Именно там намечено провести конгресс астрономов.
Поездка Амбарцумяна в Беркли во многих отношениях интересна, и следует остановиться на ней несколько подробнее.
Невелика Западная Европа. Прошли времена, когда европейские расстояния считались значительными и Карамзину понадобились месяцы, чтобы объехать полдесятка европейских стран, а государевы гонцы больше двух недель скакали днем и ночью, чтобы доставить в Петербург весть о том, что русские войска 14 марта 1812 года вступили в Париж, оставленный войсками Наполеона.
Меньше трех часов тому назад наши путешественники слышали бой кремлевских курантов. И вот уже аэропорт Орли, близ столицы Франции. Репродукторы сообщили, что авиакомпания «Эйрфранс» готова принять на свой лайнер желающих лететь за океан. У трапа стюардесса, небесное создание в сине-голубой униформе, дарила каждому ослепительную улыбку, которую вырабатывают месяцами под руководством опытных мастеров. Пассажиров уносит поток предотлетной суматохи. Нужно найти один из трех салонов и занять свое место. Точно по расписанию самолет взлетает.
Когда миновали Гринвич, шумная компания молодых мужчин решила «спрыснуть» это событие. Оказывается, есть такая традиция: отмечать перелет через экватор, тропики, полярные круги и через Гринвичский меридиан, от которого ведется счет временных поясов и географических долгот.
И тут в рядах кресел, занимаемых советскими астрономами, прозвучал по-русски чей-то голос:
– Меридиан? Это – наше дело. Так что традиция касается и нас.
– Пусть стюардесса принесет что-нибудь покрепче.
– Покрепче, может быть, и принесет, но сомневаюсь, что на борту есть что-нибудь лучше армянского коньяка.
– Меньше самоуверенности! Меньше коньячного патриотизма!
Гринвич остался позади. Далеко вправо на берегах Темзы шумел Лондон. Исчезли последние островки Ирландии. Самолет повис над океаном. Только солнце, навстречу которому, казалось, летела машина, напоминало, что все еще продолжается тот самый день, который советские астрономы встретили на пути к аэропорту Шереметьево. Но вот постепенно сумерки начали скрадывать простор океана. И в это время, как во времена Колумба, раздался обрадованный возглас:
– Земля!
Справа по борту видна россыпь огней. Конечно, это город. Какой?
– Дамы и господа! Вы имеете возможность убедиться, что путешествие через океан на лайнерах авиакомпании «Эйрфранс» совершенно безопасно и, надеюсь, не очень утомительно. Мы летели девять часов. Справа по курсу огни Бостона.
– Извините, мисс! Но мы хотели бы ознаменовать перелет через океан…
– Не хотите ли вы сказать, что появился еще один повод, который следовало бы отметить?
– А почему бы и нет?! – подхватывает Виктор Амазаспович, чувствуя за собой молчаливую поддержку коллег. – Впрочем, – спохватился он, – вероятно, это делается, когда совершается первый полет над океаном.
– Значит, вам ничего не полагается. Вы уже бывали за океаном, – шутливо замечает один из коллег.
– Из любого правила можно сделать исключение, тем более для вице-президента почетного Международного астрономического союза, – нашелся кто-то.
– За удачный прыжок из Европы в Америку! – провозглашают единственный тост.
– А теперь за успех конгресса!
В салоне снова появляется грация авиакомпании «Эйрфранс»:
– Дамы и господа! Наш лайнер приземлится на аэродроме Айлуайлд. Багаж будет подан в зал аэровокзала. Пассажиры, не являющиеся гражданами США, приглашаются в бюро иммиграции для выполнения некоторых формальностей…
Летящие впервые несколько обескуражены: знакомство с Нью-Йорком не состоялось. Проездные документы переоформлены. Самолет «Пан-Америкен эйруэйс компани» готов к полету в Лос-Анджелес. Той же ночью показались огни Лос-Анджелеса. В аэропорту советских астрономов встречали председатель Американского национального совета по астрономии профессор Гельдберг со своей супругой.
После короткого разговора по дороге в гостиницу наши путешественники могли поздравить себя с завершением первой половины транс-европейско-океано-американского перелета.
Мы, земляне, живем масштабами Земли. Тысячи километров земной поверхности кажутся нам большим расстоянием. Такое ощущение свойственно даже астрономам, которые имеют дело с непостижимо колоссальными масштабами Вселенной. Они измеряют эти расстояния парсеками, то есть миллиардами километров, которые свет пробегает за год со скоростью триста тысяч километров в секунду.
Если мерить этой мерой, то наши путешественники пролетели лишь столько, сколько свет проделывает за треть секунды.
Симпозиум в Санта-Барбара накануне XI конгресса Международного астрономического союза явился своего рода разведкой в расстановке сил на фронте науки.
Прибытия советских астрономов ждали здесь с интересом, но по-разному. Есть в лагере астрономов мира представители разных идеологий, поклонники различных идей и гипотез.
Астрономия всегда враждовала с религиями. Религии стремились использовать ее в своих целях. Предметом своих исследований она затрагивала то, что веками у многих народов считалось священным – Солнце, Луну, звезды. Поэтому попытки ученых научно объяснить небесные явления нередко кончались трагически.
Таким образом, астрономия – одна из тех наук, развитие которой проходило в непрерывной борьбе с религиозными предрассудками и догматами. Эта борьба берет свое начало в глубокой древности, когда такие стихийные материалисты и наивные диалектики, как Фалес, Гераклит, Демокрит, отстаивали от нападок идеалистов и служителей культа передовые для того времени взгляды на природу.
Мысль Птолемея о том, что Земля является центром Вселенной, для своего времени была шагом вперед по сравнению с дикарски наивными представлениями о мироздании, господствовавшими за пределами Средиземноморья, древней Индии и Китая. Труд Птолемея «Мэгистэ», или «Альгамест», на протяжении четырнадцати веков оставался образцовым сводом астрономических знаний. Огромный путь проделало человечество в своем стремлении познать небо, пока дошло до уровня знаний, изложенных Птолемеем. Нельзя считать потерянными для человечества и те четырнадцать веков, которые отделяют Птолемея от Коперника. Да, развитие науки шло медленно, – не в один же день прозрел великий польский ученый, создатель гелиоцентрической системы мира. Его открытие зрело исподволь, факты копились веками, у него было немало предшественников, в том числе и армяне.
Кто вокруг кого: Солнце, звезды и вся Вселенная вращаются вокруг облюбованной богом Земли или она сама – песчинка во Вселенной – вращается вокруг Солнца на правах заурядной планеты? Этот вопрос издавна разделил ученых-астрономов и поборников религий на два враждующих лагеря.
Итальянец Галилео Галилей, который был не только продолжателем и пропагандистом учения Коперника, но и крупнейшим ученым, заложившим основу современной механики, предстал перед «святой инквизицией». «Сжечь не значит опровергнуть», – заявил великий мученик науки Джордано Бруно. Эти слова были близки и понятны всем, кто с верой в конечную победу науки боролся с мракобесием церкви, пытавшейся навязать свои «истины» костром.
Великая научная революция, происходившая в XVII–XVIII веках, привела не только к установлению правильного взгляда на устройство солнечной системы, но и позволила объяснить движение небесных тел на основе закона всемирного тяготения Ньютона. Более того, она открыла возможность предсказания с большой точностью происходящих в солнечной системе движений как для близкого, так и далекого будущего. Перед таким триумфом естествознания религия вынуждена была отступить и искать новые пути и формы для своего обанкротившегося мировоззрения. Однако полное решение вопроса о строении окружающей нас звездной системы – Галактики, в которую Солнце входит как один из ее элементов, было достигнуто только в первой половине XX века.
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна…
(М. В. Ломоносов)
Ученые доказали, что на самом деле Галактика наша входит в состав тройной системы; у нее два спутника: Большое и Малое Магеллановы облака и что в этой системе насчитываются миллиарды звезд. Затем появилась теория галактического вращения, творцами которой являются Я. Оорт и Б. Линдблад. В. Бааде и другие создали учение о разных подсистемах в Галактике. В. Морган обосновал теорию о положении спиральных ветвей Галактики.
Каждое из этих крупных научных достижений было победой материалистической науки независимо от философских воззрений исследователей. Ни фидеизм, ни менее откровенные формы идеализма не смогли найти на поприще научных исследований и научной мысли удобных для себя оборонительных рубежей и поэтому вынуждены были отступить.
Новые неприятности религии причинили ученые, которые в своих исследованиях и теоретических работах вышли за пределы Галактики – во Вселенную. Можно понять, почему участники симпозиума в Санта-Барбара с таким интересом ждали прибытия советских делегатов и почему первостепенный интерес вызвала концепция В. А. Амбарцумяна о нестабильности систем галактик.
Космогония – узел всех наук, всех проблем. Над решением ее загадок бьется мысль астрономов, математиков, физиков, философов. Трудно решать судьбы Вселенной, не решая одновременно фундаментальных вопросов мироздания. Теснимые и опровергаемые наукой религиозные системы, их апологеты и трубадуры изощренно приспосабливались к новым условиям развития цивилизации. Что касается выхода за пределы солнечной системы – в Галактику, то здесь сторонники религии пытались широко использовать для подкрепления своих воззрений главным образом вопрос о происхождении и развитии звезд.
Это и понятно. В доступной для наших наблюдений части Вселенной подавляющее количество вещества сконцентрировано в звездах – гигантских раскаленных газовых шарах. Яркая полоса Млечного Пути – это сложившийся свет расположенных на больших расстояниях от нас десятков миллиардов звезд. Все они вместе со звездами, наблюдаемыми отдельно на небе, составляют огромную единую систему, называемую Галактика. Как рядовой член в эту систему входит и Солнце – ближайшая к нам звезда вместе с планетной системой. В Галактике около ста миллиардов звезд. Вокруг многих из них, подобных Солнцу, существуют холодные твердые тела – планеты. Планетная материя занимает в Галактике очень скромное место. Достаточно сказать, что девяносто девять и восемьдесят шесть сотых процента массы всей солнечной системы сосредоточено в самом Солнце. С этой точки зрения оно является одиночной звездой. Наша Земля и даже такие огромные планеты солнечной системы, как Юпитер или Сатурн, по сравнению с Солнцем выглядят пылинками.
Вопрос о происхождении и развитии звезд и стал вскоре главным направлением в борьбе идеалистов против материалистической науки. Они пристально следили за успехами прогрессивных ученых, стараясь обнаружить слабые звенья, чтобы порвать всю цепь доказательств.
Первые оценки возраста звезд, полученные астрономической наукой, естественно, были очень неточными. Еще четверть века назад утверждали, что возрасты звезд измеряются миллиардами лет. Из этой правильной, но весьма грубой оценки идеалисты поспешили сделать собственные выводы о том, что все звезды одного и того же возраста, а следовательно, и сотворены в одно время.
Возраст людей, населяющих Землю, измеряется десятками лет, но из этого не следует, что люди родились в одно и то же время. Тем не менее современные фидеисты, сторонники акта творения, ухватились за неточную формулировку о возрасте звезд. (А она была неточна только потому, что глубокое изучение этой проблемы началось недавно). С тех пор немало сделано в изучении изумительного многообразия Галактики, галактик, Вселенной.
Это знали инакомыслящие, собравшиеся в Санта-Барбара. Они внимательно слушали, пробовали выступать против, доказывая свою точку зрения, но под давлением логически четких объяснений Амбарцумяна вынуждены были соглашаться. Многие ученые в докладах и прениях приводили соображения в пользу развиваемой Амбарцумяном концепции о нестабильности систем галактик, опровергающей утверждения, что якобы какая-то высшая сила свершила акт творения, создав одновременно все сущее во Вселенной.
Симпозиум закончился. Он послужил лишь прелюдией к главному событию – XI конгрессу Международного астрономического союза.
В этот короткий промежуток времени между симпозиумом и конгрессом Виктору Амазасповичу доложили:
– Армяне, проживающие в Лос-Анджелесе, очень просят вас с супругой и Маркаряна встретиться с ними. Можно ответить, что приглашение принято?
– Разумеется!
В назначенный срок машина из Санта-Барбара примчалась в Лос-Анджелес и остановилась у одного из лучших отелей города. В Банкетном зале собралось около трехсот человек. Вопросов было очень много. Временами играла музыка. Но вот оркестр начал исполнять отрывки из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. Сверкающие, зажигательные звуки заставили встрепенуться каждого. А мелодия, ритм, пронизанные национальным колоритом, вернули многих к давним дням, проведенным на родной земле, к заветной мысли – побывать на родине во что бы то ни стало, на священной земле своих предков.
Слова «трогательное прощанье» не дают никакого представления о том, что происходило у подъезда отеля поздно вечером.
– Как, они улетают обратно?
– Нет! Они едут в Сан-Франциско, вернее – в Беркли на научный конгресс.
В Сан-Франциско были снова букеты, объятия и слезы радости. И еще непередаваемое – это лучезарное чувство переполняющей сердце гордости. Сложное это чувство. Армяне в зарубежных странах, особенно молодежь, прекрасно понимают, что они не причастны к успехам Советского Союза, но они воспринимают их как свое, родное.
Родина – святое понятие. В дни, когда впервые полетел в космос искусственный спутник, когда весь мир выучил это русское слово «спутник», большинство наших соотечественников, заброшенных судьбой в зарубежные страны, ликовали, словно каждый из них лично участвовал в этой эпопее.
Говорят, что Сан-Франциско самый красивый город на берегу Тихого океана. Он и в самом деле необычайно красив. Океанское побережье, залив-бухта, величественные мосты, удачная планировка и архитектура – все это свойственно городу, обладающему солидным муниципальным бюджетом. Сан-Франциско заслуживает того, чтобы осмотреть его детально, но нужно спешить в Беркли.
Одно обстоятельство определяло особое значение конгресса. Он состоялся в 1961 году, который в истории человечества всегда будет ассоциироваться с исключительным событием. В апреле 1961 года человечество впервые шагнуло в Космос: советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой легендарный полет по космической орбите на корабле «Восток-1». Началась новая эпоха в истории науки, в том числе и астрономии.
Все три столетия со времени изобретения телескопа астрономы видели Вселенную как бы сквозь туманное стекло. Они были счастливы, когда выдавалась безоблачная погода и можно было наблюдать за небом. Но и в такие ночи поле зрения туманила атмосфера – пыль, кристаллы льда.
Затем наступило время радиоастрономии. Перед учеными открылись недосягаемые дотоле космические дали. Один американский научный журнал тогда образно писал: «Это похоже на то, как если бы человек смотрел на игру в футбол через глазок в заборе, а затем вдруг пришел бы бульдозер и сорвал весь забор». Из космических далей идут радиосигналы достаточно сильные, чтобы их слышать. И радиотелескопы стали улавливать это «космическое радиовещание», вскрывать, таким образом, чего не видно в оптические телескопы – внутренний «скелет» Млечного Пути.
И все же ученые мечтали и мечтают о таком времени, когда они смогут вести наблюдения за Вселенной вне пределов земной атмосферы – из космического пространства, из искусственных спутников, из обсерваторий на Луне и других небесных телах. Первый полет человека в космос укрепил надежду на то, что именно такие наблюдения станут возможными через какое-то пока еще трудно определимое время.
Конгресс астрономов в Беркли начал свою работу утром 15 августа в необычной обстановке: не в парадном зале, не в традиционном святилище науки, а под открытым небом Калифорнии – перед Главной университетской площадью.
Президент МАС Ян Оорт открыл первое заседание. Продолжительные аплодисменты были заслуженной данью уважения человеку, который дважды обратил на себя внимание астрономов мира. Первый раз это произошло в 1927 году. К тому времени математическая теория вращения, разработанная еще в 1859 году русским астрономом из Казани М. А. Ковальским (1821–1884), была уже забыта. Специалисты тщательно изучали работы по вращению Галактики, проводившиеся Б. Линдбладом в Швеции и Я. Оортом в Нидерландах. Последний и считается открывшим это вращение. Вторично Я. Оорт обратил на себя внимание научного мира в 1951 году радионаблюдениями спиральной структуры Галактики.
Пять листков календаря улетели в вечность. Комментаторы и наблюдатели, подытоживая первые пять дней работы конгресса, уже отмечали деловую атмосферу, дух сотрудничества, обилие интересных докладов и сообщений. Но вместе с тем оговаривалось, что главный доклад прочтет Амбарцумян о проблемах внегалактических исследований.
Начав доклад на русском языке, одном из языков конференции, Амбарцумян заявил, что попытается рассмотреть лишь основные факты внегалактической астрономии.
– Поскольку правильное представление о внешних звездных системах – галактиках – установилось в науке лишь около сорока лет тому назад, многие фундаментальные вопросы, относящиеся к миру внешних галактик, остаются нерешенными, – сказал он. – Исходя из этого, мы попытаемся сформулировать ряд проблем, которые кажутся наиболее существенными для дальнейших внегалактических исследований. При этом будем стараться не слишком удаляться от фактов и касаться преимущественно тех проблем, разрешение которых представляется осуществимым в обозримом будущем с помощью имеющихся средств…
– У вас, кажется, есть поговорка: «Дайте мне не стаю журавлей в небе, а одного журавля в руки», – шепнул советскому корреспонденту Осси Швейдель, желая блеснуть знанием русских пословиц. В ответ он услышал:
– Вы почти точно передали одну из русских пословиц. Но разве в самом деле плохо оставаться на почве фактов и реально осуществимых действий?
А докладчик продолжал уже на английском языке:
– Как известно, внегалактическая астрономия соприкасается с космологией, то есть с теориями, пытающимися описать Вселенную в целом. Эти теории, несомненно, приносят известную пользу, поскольку в них исследуются некоторые решения общей теории тяготения Эйнштейна и ставится вопрос о сравнении этих решений со свойствами наблюдаемой части Вселенной. Вместе с тем они часто служат ареной для очень грубых упрощений и безудержных экстраполяций.
– Это уже не стрела, а копье в тех, о ком мы так много говорили вчера на нашей импровизированной пресс-конференции, – заметил Дин Коуверс из Австралии Невилю Гранту из английской обсерватории Джодрелл Бэнк. – Думаю, что в адрес авторов некоторых гипотез полетит еще не одно такое копье!
– Пожалуй. Упоминание об очень грубых упрощениях и безудержных экстраполяциях, конечно, сделано не случайно.
– А что такое «экстраполяция»? Извините, пожалуйста, – решилась спросить дама, сопровождавшая, по-видимому, мужа-астронома, но далекая от астрономической науки и математики.
– Это термин математический. Настоящие экстраполяции не вызывают упреков; они – закономерные приемы математических исследований. Профессор Амбарцумян говорит о «безудержных экстраполяциях», то есть о таких, когда стремятся все объяснить, исходя из математических формул, или все подгоняют под эти формулы.
Между тем Амбарцумян делает оговорку:
– В настоящем докладе мы не сможем коснуться анализа упомянутых теорий и экстраполяций, хотя считаем, что критический разбор работ, выполняемых в этой области, был бы весьма ценным. Хочу подчеркнуть, что факты и проблемы, которые будут рассмотрены нами в пяти разделах, имеют немалое значение также для космологических теорий.
Как при чтении интересной книги люди невольно забывают об окружающем, так и в Беркли слушатели, казалось, вышли мысленно за пределы нашей Галактики. Все явственнее проступали детали невиданной картины: создавалось представление о Метагалактике – наблюдаемой части Вселенной за пределами нашей Галактики.
Академик Амбарцумян вел от истины к истине, от вывода к выводу, подводя итог тому, что уже исследовано и бесспорно.
Было много разговоров о впечатлениях от доклада советского ученого, о бесспорных или спорных положениях, аргументах, ссылках. Передовые ученые были захвачены силой доводов в пользу того, что Вселенная и ныне развивается, что в ней рождаются новые небесные тела и системы.
Кто-то сказал:
– Вселенная бесконечна во времени и в пространстве, не было начала и не будет конца ее существованию. Слушая профессора Амбарцумяна, убеждаешься в том вечном круговороте материи, о котором писал Энгельс.
Кому-то вспомнились слова пулковского астронома академика А. А. Михайлова:
– Человеческой мысли потребовалось лишь несколько тысячелетий, чтобы проникнуть туда, куда свет доходит за сотни миллионов лет…
Прощанье и проводы бесконечно разнообразны в деталях, но в основном одинаковы всюду. В Беркли официальная вежливость сменилась многочисленными проявлениями дружеских чувств. Многие ученые давно уже связаны знакомством по прежним конгрессам или многолетней деятельностью в одной и той же области астрономической науки. Много новых знакомств завязалось здесь, под небом Калифорнии. Но, пожалуй, наиболее широкий круг друзей приобрела советская делегация. Ее отъезд из Беркли был волнующим событием.