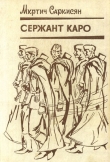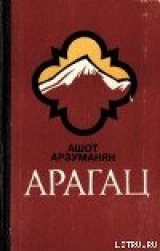
Текст книги "Арагац (Очерки и рассказы)"
Автор книги: Ашот Арзуманян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Музыка – «язык души и сердца», поэтому я несколько подробно остановился на примерах из этой области русско-армянских связей.
Бывая в этом городе, я всегда прихожу на эту широкую, светлую площадь, к серому зданию. Поднимаюсь по широкой мраморной лестнице, и меня сразу охватывает какая-то особая атмосфера творческого созидания, той бессмертной красоты, имя которой – музыка.
Со всех сторон слышатся звуки музыки – Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, Хачатурян…
В длинном коридоре можно встретить известного пианиста Павла Серебрякова, высокую, сухопарую фигуру выдающегося дирижера Евгения Мравинского, неповторимого в своем внутреннем и внешнем облике Дмитрия Шостаковича – талантливых советских музыкантов, имена которых известны всему миру. А вот и молодой композитор Алик Мнацаканян, аспирант профессора Д. Шостаковича.
Вы, конечно, догадываетесь – речь идет о Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, старейшем очаге музыкальной культуры Советского Союза.
Меня окликает мягкий баритон. Оборачиваюсь: это бывший питомец консерватории, ныне профессор Георгий Тигранов. Приятная встреча! Вместе с ним проходим по классам и аудиториям консерватории. Вот еще одна классная комната. На стене портрет Иоаннеса Налбандяна. Ученик знаменитого Ауэра, темпераментный исполнитель-концертант, обладавший яркой артистической внешностью, опытный педагог, И. Налбандян долгие годы бессменно был профессором по классу скрипки Ленинградской консерватории.
На третьем этаже, в небольшом тупичке широкого коридора, класс № 36 имени Н. А. Римского-Корсакова. Здесь обычно занимался со своими учениками великий композитор-педагог, создатель целой композиторской школы.
В памяти возникают образы его учеников – больших музыкантов: Глазунова, Лядова, Стравинского, М. Баланчивадзе, Ипполитова-Иванова, Лысенко. К школе Римского-Корсакова и его последователей принадлежали музыканты многих национальностей, в том числе и талантливые армянские композиторы Макар Екмалян, Анушаван Тер-Гевондян, Романос Меликян, Саркис Бархударян, Грикор Сюни. Одним из любимых учеников Римского-Корсакова был А. А. Спендиаров, о котором А. Глазунов сказал, что он является «живым воплощением духовного союза русской и армянской музыкальных школ».
– Великий русский композитор был первым, натолкнувшим Спендиарова на мысль написать армянскую оперу, – сказал мне Г. Тигранов и тут же напомнил об одной из интереснейших записей в «Дневниках» Ястребцева, которую он приводит в своей монографии о Спендиарове.
«Когда мы снова перешли в зал, – пишет Ястребцев, – Николай Андреевич стал советовать Спендиарову написать когда-нибудь оперу, и обязательно восточную. Вы, – сказал Римский-Корсаков, – по самому рождению своему человек восточный, у вас Восток, что говорится, в крови, и вы именно в силу этого можете и музыке в этой области дать нечто настоящее, действительно ценное. Это не то, что я, – сказал Николай Андреевич, – у меня мой Восток несколько головной, умозрительный…»
В этих словах гениального композитора, создавшего замечательные музыкальные образы Востока, сказывается его величайшая скромность, более того, в них как бы мимоходом выражена мысль Римского-Корсакова о необходимости кровной связи композитора со своей страной для подлинной национальной самобытности творчества, о праве народов Востока самим развивать свою национальную культуру.
Спендиаров буквально обожал своего учителя и не только преклонялся перед ним, но и выступил одним из первых в защиту его в 1905 году с открытым письмом в газете «Русь».
Уже в советские годы композиторский класс Ленинградской консерватории окончил один из ведущих современных армянских композиторов – Аро Степанян. Много и восторженно рассказывал он мне о своей alma mater, о замечательной творческой атмосфере, царившей в ней, о своем педагоге, выдающемся композиторе В. В. Щербачеве, о друзьях – русских композиторах.
– Меня зачислили на второй курс, – вспоминает Аро Леонович, – в класс профессора В. В. Щербачева. Скоро начались уроки. Я их посещал со всей аккуратностью, впитывал в себя идеи, указания моего профессора, свято выполняя все его задания, предложения и пожелания. От миниатюр и песен мне было пора перейти к сочинению крупной формы, научиться расширять форму, набираться опыта и мастерства. Надо было научиться писать инструментальную музыку: сонаты, квартеты, симфонии…
В. В. Щербачев изучал со студентами западноевропейских, русских классиков и народное творчество. Он детально рассматривал задания, выполненные студентами, высказывал свое мнение об идейной и технической сторонах сочинений. Критика его была строгой, но доброжелательной. Остальная же часть урока посвящалась анализу произведений великих мастеров. Крупные произведения он исполнял с кем-либо из студентов в четыре руки. Он сопоставлял их, сравнивал, объяснял. Шаг за шагом перед нами открывалась картина развития музыкальной культуры от Палестрины до современных композиторов.
Щербачев, всесторонне образованный человек, взыскательный, строгий, целеустремленный, обладал колоссальной эрудицией. Он умел развивать в студентах индивидуальность, подмечая своеобразные стороны творчества каждого из них, умел закреплять в них эти качества. Он никогда не навязывал свои вкусы и вместе с тем всячески удерживал ученика от дурного вкуса, любил и поощрял в творчестве студентов красивое, благородное, глубокое. Он развивал гармоническое чутье, умелое применение полифонии, ритмики.
Особенно часто мы обращались к творчеству Бетховена, Чайковского, Шумана, Брамса, Малера, Р. Штрауса, Стравинского, Прокофьева. Уроки проходили живо. Щербачев был остроумен, жизнерадостен, наделен большим чувством юмора, глаза его всегда сверкали улыбкой, он был деликатен и вежлив со студентами.
В этих словах Аро Степаняна подчеркнуто то громадное значение, которое имела и имеет Ленинградская консерватория в развитии армянской музыкальной культуры.
С кем бы мне ни приходилось разговаривать о своих «странствиях» по консерватории, буквально все с любовью и уважением вспоминали имя Христофора Степановича Кушнарева. Многие годы он был профессором по классу композиции и полифонии. Он – крупнейший теоретик музыки и автор капитального труда «Вопросы истории и теории армянской монодической музыки», вышедшего в свет в 1959 году. По глубине исследования, по методу и широте охвата проблем эта работа выходит далеко за пределы вопросов, связанных только с армянской народной музыкальной культурой.
Кушнарев создал новый метод преподавания курса полифонии, сломавший издавна установившуюся в Петербургской – Ленинградской консерватории традиционную схоластическую систему, и положил его в основу дальнейшей разработки методики курса полифонии в советской педагогике.
Мой «чичероне», Георгий Тигранов, указал мне на проходившего мимо высокого мужчину с большим лбом мыслителя. «Это крупный ученый, теоретик музыки – профессор Ю. Н. Тюлин, – сказал он, – друг и коллега X. С. Кушнарева. На протяжении многих лет они вместе реформировали музыкально-теоретические дисциплины, сближая их с жизнью, народным творчеством».
С Христофором Степановичем Кушнаревым у меня было много бесед. Он воспитал целую плеяду музыкантов различных национальностей.
Кстати, Георгий Григорьевич скромно умолчал о себе. А ведь профессор Тюлин дал высокую оценку и его труду – двухтомному исследованию об армянском музыкальном театре. Одаренный лектор и ученый, любимец своих многочисленных учеников, Тигранов на долгие годы связал свою судьбу с Ленинградской консерваторией и родной армянской музыкальной культурой. И всегда с волнением рассказывал Георгий Григорьевич мне о своем учителе академике Б. В. Асафьеве, об учениках, о коллегах.
Нам вспомнилось 25 апреля 1946 года. В этот день состоялась защита докторской диссертации Г. Тиграновым. В конференц-зале Ленинградской консерватории было многолюдно. Пришли сюда ученые-музыканты, все, кто интересовался темой диссертации, посвященной истории армянской оперы. Вспоминая о минувших днях, профессор Тигранов еще в 1956 году с увлечением говорил мне:
– Много дум, волнений вызвали они в моем сознании; и не только потому, что на суд ученого совета старейшего русского музыкального вуза были вынесены скромные результаты моих многолетних исследований. Я вспомнил, как семнадцать лет тому назад впервые вступил в стены этой консерватории и как решительно поддержал тогда мою робкую мечту стать на путь музыкознания Б. В. Асафьев, как настойчиво советовал он мне обратиться к изучению истории музыки моей родной страны. Перед глазами прошла вся бескорыстная дружеская помощь, которую на всех этапах моего учения и дальнейшей самостоятельной работы так охотно оказывали мне мои русские наставники и коллеги, и в первую очередь – Б. В. Асафьев. Волновало то, что в этом чудесном северном городе, в среде русских ученых и музыкантов, в переполненном зале, люди с таким живым интересом и знанием обсуждали исторические пути и судьбы развития армянской музыки, спорили о творчестве Комитаса, Спендиарова, Чухаджяна и других армянских композиторов. Никогда не забуду проникновенных слов моего официального оппонента, члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора А. В. Осовского. Он говорил о вековых узах дружбы и духовной близости, связывающих русский и армянский народы, о своей дружбе со Спендиаровым, об интересе русских музыкантов к армянской культуре и деятельности армян-музыкантов в России.
В наши дни слагается, растет, цветет и дает ценнейшие плоды новая, свежая, светлая, талантливая армянская национальная музыкальная культура. Может ли музыкант не радоваться тому обогащению общечеловеческой художественной сокровищницы, которое несет нам армянская художественная культура? Не может он не радоваться, особенно потому, что это обогащение исходит из нашей Советской страны, нашего братского народа!
Много ценного почерпнул я для себя из выступлений на диспуте профессора X. С. Кушнарева, из бесед с профессорами В. М. Беляевым, Б. А. Араповым, Р. И. Грубером.
Последний раз я видел Б. В. Асафьева в марте 1948 года, – продолжал рассказывать мой друг. Проходил Первый съезд советских композиторов, на котором он, тогда уже академик и народный артист СССР, был единодушно избран председателем Правления Союза советских композиторов. Борис Владимирович был тяжело болен и лично не присутствовал на съезде. Но там был прочитан его содержательнейший, имевший большое принципиальное значение доклад «За новую музыкальную эстетику, за социалистический реализм», посвященный утверждению принципов социалистического реализма в советском музыкальном творчестве, призывавший композиторов стать ближе к жизни.
Вместе с некоторыми другими композиторами и музыковедами я посетил Б. В. Асафьева на квартире. Он жил интересами съезда, внимательно следил за ходом его работы. Больше мне уже не довелось увидеть моего учителя и наставника. С величайшей скорбью узнал я о кончине Бориса Владимировича Асафьева. Смерть преждевременно вырвала из наших рядов замечательного человека, музыканта, ученого… Но всегда Б. В. Асафьев будет жить в своих творениях, в той светлой памяти, которую сохранит о нем каждый прогрессивно мыслящий музыкант. Асафьевские идеи, асафьевский метод всегда будут вдохновлять его учеников и последователей, в какой бы области музыкознания они ни работали. Русская культура играла и играет громадную прогрессивную роль в развитии и обогащении глубоко самобытного армянского музыкального искусства. Армяно-русские музыкальные связи – прочная и плодотворнейшая культурная традиция. Вдохновенные, содержательнейшие страницы в историю этой традиции вписал Б. В. Асафьев – выдающийся представитель советской русской культуры.
Гордость Ленинградской консерватории – Малый зал имени Глазунова. Строгая, пластическая красота фойе и зала, большие окна, в которые льется чуть пасмурный свет ленинградской зимы, мягкие ковровые дорожки скрадывают шум шагов. На стенах большие портреты Римского-Корсакова, Есиповой, А. Рубинштейна и других музыкальных деятелей. Величественные контуры органа. Сейчас здесь льются чудесные звуки прелюдии Баха. За инструментом Нина Оксентян – прекрасный органист, педагог консерватории. Исполнительницу внимательно слушают маститый профессор И. А. Браудо и молодой коллега В. Азатян. Этот зал слышал голоса многих выдающихся певцов, в том числе и моей соотечественницы Надежды Папаян, о которой Римский-Корсаков говорил как об одной из лучших исполнительниц партии Марфы в его опере «Царская невеста». Другой исполнительницей являлась замечательная советская певица, народная артистка СССР – Айкануш Даниэлян. Всегда в Армении, когда речь заходила о высоких критериях мастерства и подлинного искусства, А. Даниэлян приводила традиции воспитавшей ее Ленинградской консерватории. Я помню, каким светом загорались ее глаза при этом, с каким пиететом она произносила:
– В 1920 году я окончила консерваторию. Прошли годы упорного, настойчивого труда на оперной сцене. Не помню, чтобы за это время почувствовала я хоть какое-либо затруднение в пении. Мне всегда было известно, как и что надо сделать, чтобы хорошо исполнить оперную партию или романс. Преодолению вокальных трудностей научила меня Наталия Александровна Ирецкая. И чем дальше я работала, тем больше убеждалась в правильности ее метода дыхания и подачи звука. Теперь я сама учу молодых певцов Армении в Ереванской консерватории. Меня увлекает эта работа, меня бесконечно радует, что я могу передать своим ученикам то, чему училась сама, что пронесла через всю свою артистическую жизнь. В моем сердце до сих пор так свежо и живо звучит музыка, которую я слушала в классе Ирецкой в Ленинградской консерватории на протяжении восьми лет учебы. Неиссякаем тот источник, который питал меня все эти годы и питает теперь.
Бесконечны мои чувства любви и благодарности к консерватории города Ленина, где в октябре 1917 года, еще на ученической скамье я услышала исторический выстрел «Авроры», известивший миру начало Великой Октябрьской социалистической революции.
Могла ли я тогда мечтать о том, что даст мне революция? А она дала мне все – и успех, и признание, и жизнь, полную радостного творческого труда.
Проходя мимо классов, откуда раздавались звуки фортепьяно, Г. Тигранов рассказывал о замечательных традициях пианистических школ консерватории, начиная со знаменитых Есиповой, Лешетицкого, Блуменфельда, Николаева и до талантливых пианистов-педагогов наших дней. Среди них с особым теплом назвал он имя профессора Ольги Калантаровой, у которой сам когда-то занимался. Это была замечательная пианистка – глубокий, образованный музыкант и очень хороший человек.
Здесь учились и наши одаренные пианисты Р. Андриасян, С. Бунятян, Г. Сараджев.
Заходим с профессором Тиграновым в дирижерский класс. Ведет урок Э. Грикуров, талантливый дирижер, много сил и времени отдающий воспитанию молодого поколения. В наше время из стен этого класса, которым руководили такие крупные мастера, как Малько, Гаук, вышло много выдающихся советских дирижеров – Е. Мравинский, Е. Микеладзе, О. Дмитриади, А. Мелик-Пашаев и Э. Грикуров.
Кстати, мне припомнился еще один питомец Ленинградской консерватории – народный артист Армянской ССР Татул Алтунян, талантливый хормейстер, руководитель широко известного государственного ансамбля песни и пляски Армении. Вспоминая о воспитавшей его консерватории, он рассказывает:
– В 1929 году я впервые приехал в Ленинград. На вокзале мои попутчики быстро разошлись, знакомых и встречающих не было, и я, стоя у порога нового, незнакомого для меня мира, смотрел на туманный, погруженный в тусклые огни город. Мысли возвращались домой, в Армению. Меня охватило сомнение: а вдруг я затеряюсь в большом городе и погибнут мои годами взлелеянные мечты?.. Но я быстро отбросил эти мысли.
Ясным утром следующего дня вышел я на Театральную площадь. Трудно передать волнение, охватившее меня, когда я впервые увидел здание консерватории, о которой так долго мечтал. Сколько талантов выращено в этом храме искусства, сколько вышло отсюда светлых умов, музыкальной творческой одаренной молодежи.
Поступил я на оркестровый факультет по классу гобоя, но не это являлось основной целью моего приезда в Ленинград. Я очень любил многоголосное пение. Ведь голос прекраснее всех инструментов, и ничто не может так воздействовать на чувства, как голос, как хоровое пение. Я мечтал стать хормейстером. Руководство консерватории разрешило мне учиться на двух факультетах. Я был бесконечно счастлив и с нетерпением ждал начала учебного года.
Очень большую роль в моем профессиональном совершенствовании сыграли посещения репетиций Ленинградской капеллы, руководимой выдающимся мастером русской хоровой культуры профессором М. Климовым. Его занятия были глубоко содержательны. Он вскрывал идейную сущность произведения, создавал правдивые, живые музыкальные образы. Неизгладимое впечатление осталось у меня от исполнения капеллой под руководством Климова «Мессы» Баха (си минор), «Реквиема» Моцарта, Девятой симфонии Бетховена, а также произведений Глинки, Чайковского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Танеева. Великие традиции хорового искусства оказали благотворное воздействие на меня и принесли большую пользу в последующей деятельности.
В 1934 году я окончил консерваторию; благодаря трудам и заботливому отношению моих педагогов я приобрел теоретические и практические знания.
С чувством большой признательности и глубокой благодарности вспоминаю город Ленина, который с материнской заботливостью и нежностью воспитал меня, подготовил к служению родному искусству. Я полюбил Ленинград, как люблю свое родное солнце, наши снежные горы.
Плодотворны, глубоки и разносторонни связи армянской музыкальной культуры с этим старейшим музыкальным очагом России.
Большой зал был закрыт на ремонт, и нам не удалось, как всегда, по традиции, постоять у замечательного скульптурного портрета П. И. Чайковского. Повсюду царила напряженная работа: разучивались программы концертов, готовились к изданию новые книги, сборник воспоминаний питомцев консерватории – видных деятелей советской музыкальной культуры, в том числе музыкантов-армян – Тер-Гевондяна и Степаняна, Кушнарева и Алтуняна, Мелик-Пашаева и других.
Я вышел из здания консерватории, когда уже вечерело. Приятные думы обуревали меня. Я был счастлив от мысли, как чудотворна человеческая сердечная дружба и как велики плоды содружества. Перейдя улицу, я попал в другой храм музыкальной культуры – в Театр оперы и балета имени С. М. Кирова.
Шел балет Арама Хачатуряна «Спартак».
Не прошло и полугода, и я вновь в Ленинграде.
Старейшая в стране консерватория торжественно отмечала свое столетие. Сюда съехались со всех концов нашей страны ее благодарные питомцы, многие из которых стали уже именитыми музыкальными деятелями. Среди гостей я увидел Ю. Шапорина, Д. Шостаковича, Е. Мравинского, А. Баланчивадзе, Ю. Свиридова. Посланцами Армении были питомцы консерватории – Р. Андриасян, Г. Чеботарян и Р. Абаджян.
Залитый светом зал филармонии – в праздничном убранстве. Здесь состоялось 21 сентября 1962 года торжественное юбилейное заседание. Его открыл директор консерватории народный артист СССР профессор Павел Серебряков. Доклад профессора Г. Тигранова о столетии консерватории раскрыл перед нами красочную картину возникновения, развития и расцвета Петроградской – Ленинградской консерватории. Он говорил о замечательных традициях, бережно сохраняемых и поныне, о том вкладе, который внесла консерватория в советскую музыкальную культуру.
А далее приветствия, приветствия, адреса – и большой праздничный концерт…
Хорошие традиции надо беречь и развивать. Надо уметь видеть, как в единой цепи событий прошлое проглядывает в настоящем, а настоящее шагает в будущее. Без этой преемственности прошлое потеряло бы всякий смысл. В наш стремительный век то, что происходит сегодня, завтра уже станет историей. И надо успеть, во что бы то ни стало надо успеть глубоко осмыслить происходящее.
Начатый в зимнем Ленинграде дневник я заканчиваю в Ереване, мирно дышащем весной. И здесь, на солнечном юге, мысли о прошлом и лучезарном настоящем Ленинграда и Армении переплелись воедино, вылившись в рассказ, имя которому – человеческая дружба.
1962