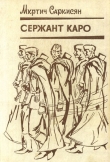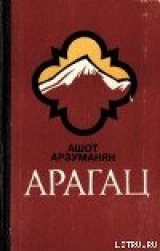
Текст книги "Арагац (Очерки и рассказы)"
Автор книги: Ашот Арзуманян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
ЧАСТЬ II

НУЖНО ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА

Исполнять обязанности дружбы несколько трудней, чем восхищаться ею.
Г. Лессинг
1
Дружба русского и армянского народов складывалась веками, имеет богатые традиции.
Об этом свидетельствуют исторические факты, записанные в русских летописях и трудах армянских историков, факты, установленные археологами, лингвистами и другими представителями науки. Мы имеем в виду, например, «Историю Таронской области», написанную армянским историком Зенобом Глаком[9]9
Зеноб Глак. История Таронской области (на арм. языке). Константинополь, 1919, стр. 68–69.
[Закрыть] в конце VII – начале VIII века нашей эры, древнейший Киевский летописный свод и «Повести временных лет». В первом труде содержится армянская легенда об основании города Куара в Армении. В двух последних – русская легенда о построении города Киева. В первом в качестве строителей Куара фигурируют Куар, Малта и Хорян, в качестве строителей Киева упоминаются Кий, Шек и Хорив. В книге «Древняя Русь и Армения», вышедшей в Ереване в 1954 году, Л. М. Меликсет-Бек приводит весьма убедительные доводы в пользу того, что обе легенды – о строительстве и Куара и Киева – имеют общее происхождение, ведут свое начало от древнейшего сказа времен Урартского государства в Армении и скифо-сарматского периода истории Древней Руси. Историк считает этот факт весьма любопытным и значительным, равно как и «указание роли той племенной среды, в которой градостроителям приходилось подвизаться» («поляне» по русскому источнику и «палуны», или «палунцы», – по армянскому). Можно сделать вывод, что разделенные огромными и трудно преодолимыми в то время расстояниями восточные славяне и армяне в VII–VIII веках все же встречались. Вероятно, заключает историк, это происходило не на их родной земле, а на территории сопредельных с ними государств. Еще в 1902 году А. Я. Васильев высказал мысль, что одним из таких сопредельных государств была Византия. Русские торговали с Византией. Армяне, как известно, играли значительную роль в политической и культурной жизни Византии. «Общение армян с русскими, – пишет А. Я. Васильев, – происходило при дворе византийского императора в Константинополе, а также в рядах византийских войск в Сицилии, на Крите, в Малой Азии».[10]10
А. Я. Васильев. Византия и арабы. Спб., 1902, Passim, стр 867–869.
[Закрыть]
В книге Ю. Кулаковского «Прошлое Тавриды» содержится уже более определенное свидетельство о контактах Древней Руси и Армении. Там говорится о том, что в X веке нашей эры византийский патриций в Херсонесе армянин Калокир являлся посредником Византии в сношениях с киевским князем Святославом.[11]11
Ю. Кулаковский. Прошлое Тавриды, 2-е изд. Киев, 1914, стр. 112.
[Закрыть]
В книге О. X. Халпахчьяна «Армяно-русские культурные отношения и их отражение в архитектуре», вышедшей в Ереване в 1957 году, содержатся ссылки на арабские и армянские исторические данные, которые подтверждают, что для X века нашей эры русско-армянские контакты можно считать установленными, хотя они и носили тогда, естественно, лишь эпизодический характер. В это время, пишет автор, Русь совершила два похода на западный берег Каспийского моря. Первый в 913–914 годах (по арабским данным) и второй в 944–945 годах (по армянским и арабским данным). Армянский историк Мовсес Каганкатваци, описывая захват столицы Агванка Берда (Партава) в 944 году «рузиками» (русскими), пришедшими со стороны Каспийского моря, характеризует их энергичными, мужественными и непобедимыми. Историк упоминает, что арабский наместник «Салар осадил их, но не мог нанести им никакого вреда, ибо они были непобедимы силой».[12]12
Мовсес Каганкатваци. История Агван. Спб., 1861, стр. 275–276.
[Закрыть]
В период этих походов в страну, имевшую армянское население и расположенную сравнительно близко от Армении, имело, вероятно, место общение русских с армянами. В этом отношении показательно само упоминание о «рузиках» (русских) в труде армянского историка далекого прошлого.
В X–XI веках армяне стали встречаться с русскими гораздо чаще. Это подтверждает русская историография, которая с конца X века уже располагала многими данными об Армении. Этому способствовало развитие событий. Известно, что в 988 году произошло крещение Руси. В том же году киевский великий князь Владимир женился на армянке Анне, сестре византийского императора Василия II Македонянина, армянина по происхождению. Киевский великий князь Владимир подарил Василию II 6000 русских воинов. Во Всеобщей истории Степаноса Таронского (Асохика)[13]13
Всеобщая история Степаноса Таронского (Асохика). М., 1864, стр. 200.
[Закрыть] говорится, что вместе с этими воинами Василий II посетил Армению. Это – знаменательный исторический факт, ибо впервые не единицы, а тысячи представителей двух народов, никогда в истории не поднимавших меча друг против друга, встретились на армянской земле мирно, дружественно. В русских летописях того времени упоминается о существовании Армении Великой и Малой, о назначении епископов в Армению, о несогласии армян с решением четвертого Халкедонского собора и т. д.[14]14
Повести временных лет. М.-Л., 1950, ч. 1, стр. 205; Полное собрание русских летописей, Спб., т. 5; Софийская летопись, 1851, т. 16, стр. 82; Летопись Авраамки, стр. 27–29.
[Закрыть]
Армянские купцы, несомненно, пользовались торговыми путями Восточной Европы, известными им еще с IX века. В бассейнах Днепра и Волги – в Киеве, Великом Новгороде, в Итиле, Великих Булгарах – они основывали армянские колонии, в которых нашли приют выселенные из Армении первоначально на Балканы павликиане и тондракийцы. С Балкан они перекочевали в Крым, Киевскую Русь, Польшу и Западную Европу.
Посредниками товарообмена между Киевской Русью и Арменией были в XI–XIII веках армяне, жившие в городе Сурож (Судак) в Крыму. Он являлся важным перевалочным пунктом на торговом пути Малая Азия – половецкие степи – Русь – Булгары.
В ряде русских городов XI–XII веков работали армянские специалисты-ремесленники, врачи, художники, которые, конечно, общались со своими русскими коллегами.
В «Истории медицины в Армении» Л. А. Оганесяна упоминается, что слава армянских врачей была настолько велика, что один из них был удостоен звания придворного врача Владимира Мономаха (1113–1125).[15]15
Л. Оганесян. История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней, ч. II. Ереван, 1946, стр. 66.
[Закрыть]
Характерно, например, что в одно и то же время в армянском городе Ани одну из церквей расписывал русский художник Флор, а неведомый армянский художник украшал храм Нереды в Новгороде Великом.
Можно было бы привести множество примеров, свидетельствующих о русско-армянском сотрудничестве в области архитектуры и других искусств и ремесел.[16]16
В. Н. Лазарев. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. См. «Историю русского искусства», т. 1. М., 1953; А. И. Успенский. Фрески церкви Спаса Нередицы. М., 1910.
[Закрыть]
Цепью тянутся через века факты – свидетельства того, как различными путями, прямо или косвенно, в разных концах России и Армении встречались русские люди с армянами, трудились вместе, двигали вперед торговлю, обменивались произведениями искусства и литературы. Не все они еще раскрыты и изучены до конца. Не все приведено в систему и осмыслено. Но одно абсолютно ясно, что с начала нынешнего тысячелетия капли армяно-русской дружбы и русско-армянского культурного сотрудничества непрерывно множились, сливались в ручейки и реки, пока, наконец, в наши дни, в условиях советского строя, не слились в широкий поток братства социалистических наций.
Обратимся снова к фактам.
Вот конец XII века. Грузинская царица Тамара вступает в брак с сыном суздальского князя Андрея Боголюбского – Юрием. Деятельное участие в этом событии принимали представители армянской феодальной знати, находившиеся при грузинском дворе.
Отгремел свадебный пир. Надвинулась военная гроза. Мужественный русский воин Юрий в 1185 году, попрощавшись с супругой – царицей Тамарой, ведет грузинские и армянские войска и освобождает от сельджуков крупный торгово-административный город Армении – Двин. А веком раньше в войсках киевского великого князя отряд воинов-армян сражался вместе с русскими воинами против половцев.[17]17
С. Еремян. Юрий Боголюбский в армянских и грузинских источниках. Ереван, 1946, стр. 292–414.
[Закрыть]
Вот XII–XIII века. С армянского языка на русский переведены «Жизнь Григория Просветителя» и «Жизнеописание монахинь Рипсимских». А в то же время – в первой половине XIII века – с греческого на армянский язык был переведен русский сказ «Житие Бориса и Глеба».
Вот XIV век. Русские летописи свидетельствуют, что в посаде Москвы в 1390 году уже существовало подворье «Авраама Арменина». Торгово-ремесленный люд, обитавший в этом подворье, общался не только с Москвой и Подмосковьем, но и с окраинами Русского государства и сопредельными странами.[18]18
Полное собрание русских летописцев, т. 18 (Семеновская и Львовская летописи, Московский летописный свод конца XV века).
[Закрыть] К сожалению, мы мало знаем об этом подворье. Но можно предполагать, что это было не только деловое общение, но и обмен жизненным опытом, взаимоознакомление с обрядами и обычаями, культурой народов-единоверцев, общие горе и радости того времени, когда еще душу русского народа продолжал иссушать гнет монголо-татарских ханов, а их полчища нападали на Москву.
Начало XV века. В 1410 году в Грюнвальдской битве плечом к плечу со славянским войском сражались против кровожадных тевтонских рыцарей два армянских отряда.[19]19
Е. Разин. История военного искусства, ч. II. М., 1940, стр. 167.
[Закрыть]
Вместе в военной беде, вместе в мирные дни – так шла бок о бок жизнь наших народов, рос их взаимный интерес друг к другу.
В те далекие времена в Армении побывали многие русские купцы, путешественники и паломники, а в «Русской земле» – армянские.
В описаниях «хождений» их в земли заморские сохранились драгоценные сведения о посеве первых семян знакомства и дружбы между русскими и армянами.
Например, в 1389 году дьякон Игнатий по приказанию митрополита Пимена совершил путешествие из Москвы в Царьград и Иерусалим. В его записках сохранились версии того времени об историческом прошлом Армении и армянском народе.
В 1420 году русский иеродиакон Зосима писал об «Армянской земле», расположенной на пути к Иерусалиму, о том, что ежели от Великого моря «…направо пойдти ко Святой горе, и к Селуню, и ко Арменской земле, и к Риму; налево же ходят правовернии ко Иерусалиму».
Немало аналогичных сведений содержится в любопытной книге Сахарова «Путешествия русских людей в чужие земли», изданной свыше века тому назад, в 1837 году, в Петербурге.[20]20
И. Сахаров. Путешествия русских людей в чужие земли, 2-е изд., ч. II. Спб., 1837, стр. 45.
[Закрыть]
В начале XVI века Армения была порабощена и разделена между Турцией и Персией.
Мрачные времена переживал армянский народ. «Армения, – писал армянский историк Лео, – превратилась в отчизну скорби. Высохли армянские розы и фиалки. Сладостные источники превратились в ручьи крови. Армянин-изгнанник скитался по чужбине или бродил голодный по покрытой трупами родной земле…»
Несмотря на это, свободолюбивый дух армянского народа не был сломлен.
В эти тяжелые, кровавые времена Россия приняла изгнанников – армян. На юге России возникли армянские колонии.
Великие князья московские, стремясь укрепить русское влияние в Среднем и Нижнем Поволжье, старались опереться на соседние христианские народы, сблизиться с ними, в том числе и с армянским населением этих районов. Это характерно для восточной политики Ивана III и Ивана Грозного. И факты свидетельствуют, что такая политика встречала дружную поддержку со стороны армян. Об этом говорят летописцы.
Известно, например, что верхний ярус одного из девяти приделов Покровского собора в Москве (храма Василия Блаженного) был посвящен Григорию Армянскому. История этого посвящения ведет нас к «Истории Казанского царства», в которой содержится описание весьма характерного эпизода.
В Казани, осажденной войсками Ивана Грозного, оказались армяне. Татары решили использовать армян-артиллеристов против русских, но те отказались биться с русскими. Татары привязали их железными цепями к пушкам и под угрозой смерти заставили стрелять. Летописец говорит, что армяне, прикованные к пушкам, стреляли так, что ядра или не долетали, или перелетали через головы русских войск.[21]21
Казанская история. М.-Л., Издательство АН СССР, 1954, стр. 135.
[Закрыть]
Известно повеление Ивана Грозного, свидетельствующее о том, как высоко было оценено это проявление дружественных чувств. После покорения Казани многие тамошние армяне получили право на поселение в Москве, в «Белом городе», где жили вольные люди из инородцев, пользовавшиеся особыми льготами.
В «Истории о Казанском царстве» летописец увековечил картину встречи войск Ивана Грозного армянами вместе с русским народом в Москве после казанского похода. Языком XVI века он писал: «…и позвонеся великий град Москва и изыдоша на поле за посад встретити царя и великого князя князи и вельможи его и вси старейшины града, богатии и убози, юноша и девы и старики со младенцы, чернцы и черницы и спроста все множество бесчисленное народа московского и с ними же вси купцы иноязычныя, турци и армены и литва и многия страницы».[22]22
О. Халпахчьян. Армяно-русские культурные отношения и их отражение в архитектуре, гл. II, Армянские колонии на территории России. Ереван, 1957, стр. 26–30.
[Закрыть]
Радостно встретили армяне, жившие в Астрахани, приход русских войск Ивана Грозного в 1556 году. Поселившись здесь еще в период монгольского завоевания, они нередко подвергались преследованию и угнетению со стороны ханов и мусульманского духовенства. Приход единоверцев – русских войск и присоединение Астраханского ханства к России явились для них избавлением от ханского произвола. Малочисленная дотоле армянская колония стала быстро расти. Она сыграла значительную роль в повышении торгового значения Астрахани. Здесь были созданы торговые дома, обладавшие крупным капиталом.
В XVI веке значительно расширились существовавшие и прежде постоянные торговые отношения между армянскими торговыми компаниями и Россией.
В ряде исторических документов XVI–XVII веков содержатся упоминания о привилегиях и льготах, предоставленных астраханским купцам-армянам Москвой. Например, в 1667 году между царем Алексеем Михайловичем и армянской торговой делегацией было заключено соглашение о беспрепятственном развитии армянской торговли в России.[23]23
«Армяно-русские отношения в XVII веке». Сборник документов. Ереван, Издательство АН АрмССР, 1953, стр. 44–64.
[Закрыть] В «Жалованной Грамоте Армянской компании на привоз в Россию шелка и сырца» Алексей Михайлович распорядился обеспечить представителям компании возможность безопасно провозить шелка из Астрахани до Москвы и дать гарантии сбыта привозимого шелка в случае каких-либо затруднений с его реализацией.[24]24
В. Восканьян. Ново-торговый устав и договор с армянской торговой компанией в 1667 г. «Известия» АН АрмССР» (общественные науки), 1947, № 6, стр. 29–43.
[Закрыть]
Помимо экономического значения, эти торговые связи в известной мере способствовали и духовному общению двух народов.
В XVII веке одним из первых представителей армянской культуры в Москве был житель расположенного в районе «Белого города» специального Армянского двора живописец Богдан Салтанов, приехавший по приглашению Алексея Михайловича.
Последний узнал об искусном мастере от новоджульфинского купца армянина ходжа Закара Саградова (Саградяна), который привез русскому царю от своего отца в знак благодарности за внимание к армянам богатые подарки. Это был «Алмазный трон», который поныне стоит в Оружейной палате Московского Кремля. Он выполнен в восточном стиле, из слоновой кости, золота и серебра. На его украшение ушло 897 алмазов, 1298 яхонтов и 18030 зерен восточной бирюзы. Кроме того, Саградов преподнес царю выполненную Богданом Салтановым на медном листе копию картины великого итальянского художника Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».[25]25
А. Успенский. Царский живописец и дворянин Салтанов («Старые годы», т. 3 Спб., 1907, стр. 75–86).
[Закрыть] Картина восхитила царя. Он заинтересовался художником. Богдан Салтанов 15 июня 1667 года прибыл в Москву. Царь поручил ему обучить русских учеников живописи.[26]26
Указ царя Алексея Михайловича о назначении Богдана Салтанова живописцем Оружейной палаты. См. сборник документов «Армяно-русские отношения в XVII веке». Ереван, Издательство АН АрмССР, 1953, стр. 64–65.
[Закрыть] За тридцать пять лет пребывания в Москве Богдан Салтанов создал свою школу живописи, написал множество икон, плафонов, картин на стенах церквей. Он был одним из «первых живописцев царского двора, – писал историк И. Забелин, – своим искусством и деятельностью далеко превзошел всех своих предшественников».[27]27
И. Забелин. Домашний быт русских царей, ч. 1. М., 1862, стр. 131–164.
[Закрыть] В книге «Царские иконописцы и живописцы в XVII веке» А. И. Успенский отмечает, что Б. Салтанов внес новую, свежую и живительную струю в русское искусство. Он дольше всех остальных художников-иностранцев работал в Оружейной палате, научил многих русских живописи.
В том же веке русское общество получило ценные сведения об Армении и ее культуре из описания путешествия, которое совершил в 1623 году в Персию «купчина, Московский гость Федот Афанасьев сын Котов», наблюдавший жизнь армянского населения не только в Армении, но и в Дербенте, Шемахе и Исфагани. Из нескольких дореволюционных изданий императорской Академии наук мы узнаем, что Ф. А. Котов дал одно из самых ранних для России описаний Эриванской крепости, виденной им сорок один год спустя после ее основания. Котов писал:
«…от Геньжи 6 дней ходу до Равана (Еревана. – А. А.) горами, а в Раване город каменной стоит на ровном месте над рекою над Зетичею, а ширина реки человеку камнем бросить. А от города Равана на полдни ходу, тут стоят три церкви Арменские велики, и бывали стройны, и то место и Раван бывало Арменское царство, тот настольный город был, а церквами для того называем, что на них кресты, а две церкви стоят пусты, а в третьей поют Арменья, а в церкви образов никаких нет, только крест да образ Пречистые Богородицы, и колокол есть невеликий, а звонят временем бояся бусурман».
В духе легенд того времени Ф. А. Котов описал далее Арарат: «Да над тем же городом Раванию на полдень стоит гора добре высока и велика, а верх взошел что колпак, а русских верст до ней ходу от города Равана больши 10, а около тое горы сказывают ходу 5 дней, и на той горе лежит вековой снег зимой и летом; а на ту гору восходу нет ни кому, и на той горе стоит Ноев ковчег, а персы и турки тое гору называют Султан-агра-Тогорезов по их, да они зовут Башь-даками… а у нас тое гору зовут Арарат».[28]28
Н. Петровский. Новый список путешествия Ф. А. Котова («История отделения русского языка и словесности АН», т. 15, кн. 4, Спб., 1910, стр. 287–299).
[Закрыть]
Ф. А. Котов сделал запись армянской азбуки. Запись эта приблизительная, неточная, но она характерна, ибо показывает широкий интерес русского человека того далекого времени к жизни, быту и культуре армянского народа.
В XVII же веке весьма интересное путешествие на Восток совершил выдающийся человек своего времени, не лишенный дипломатических и литературных способностей казанский купец Василий Яковлев Гагара, уроженец города Плеса на правом берегу Волги. На пути в Иерусалим и Египет ему довелось быть свидетелем тяжких страданий армянского народа под иноземным игом. Он донес до России сведения о запустении армянской земли, о массовых выселениях жителей из армянских городов. В записях Василия Гагары упоминается о судьбе Еревана, испытавшего злодеяния турецких и персидских захватчиков, описывается Арарат, озеро Севан и т. д. Василий Гагара привез в Россию столь ценные сведения об Армении и других восточных странах, что русский царь Михаил Федорович пожаловал ему звание «Московского гостя».[29]29
«Жизнь и хождение в Иерусалим и Египет казанца Вас. Як. Гагары, 1633–1637», под редакцией Долгова («Православный Палестинский сборник», т. 2, вып. 3. Спб., 1891).
[Закрыть]
В годы жизни Василия Гагары в странах Востока неоднократно побывал автор «Проскинитария» («Поклонника») Арсений Суханов. Его путевые записки отличаются подробным, систематическим и разносторонним описанием виденного. Видел в 1651 году Арсений Суханов и Армению. В одном караване с армянами он возвращался в Россию через их землю после своей третьей поездки в Иерусалим. Красоты природы, «пашни хорошия и луга и горы с травой скотопасные», география края, жизнь и быт армян, их страдания под турецким гнетом – все это зорко подметил и меткими словами записал русский путешественник.[30]30
И. Сахаров. Путешествия русских людей в чужие земли, ч. II, 2-е изд. Спб., 1837, стр. 217.
[Закрыть]
Его записи, равно как и записи его предшественников, распространялись тогда по России в форме списков. Год от года, век от века узнавали русские люди о единоверной стране Армении, ее древней истории, о тяжкой доле под турецким игом. Вместе с тем они лично общались с представителями армянского народа – жителями армянских колоний в Москве, Астрахани, а позднее – в Петербурге, Нахичевани и многих других местах России. Знакомства перерастали в дружбу. Сотрудничество в сфере ремесла и торговли способствовало культурному общению.
В XVIII веке появляются научные труды, частично или полностью посвященные Армении, армянскому народу, армянским колониям в России. Авторами их были преимущественно люди военные и дипломаты, проводившие политику царского самодержавия на Востоке. Кроме того, издавались на русском языке труды иностранных ученых, касавшиеся Армении. Это были все прямые потомки и преемники той паломнической литературы и описаний «хождений» русских людей в чужие земли, которые создавались в XIV–XVII веках.
Например, в 1760 году артиллерийский офицер русской службы Иван Густав Гербер опубликовал «Известие о находящихся с Западной стороны Каспийского моря, между Астраханью и рекою Курой, народах и землях и о их состоянии в 1728 году». Он описывал гнет и нетерпимые условия, в которых находились армяне в Персии и Турции. «В деревнях живущие армяне занимаются пашнею и скотоводством, – писал И. Гербер, – имеют своих старшин, или кавхов, и юсбашей; но должны платить ежегодно карач, или подушные деньги, сверх обыкновенной подати. Деревни весьма опустошены во время последнего бунта, потому что бунтовщики увезли жен их и детей и продавали в невольничество. Скрывшиеся в горах опять ныне выходят, особливо к Российской границе, и выстраивают прежние опустошенные свои места».[31]31
Иван Густав Гербер. Известие о находящихся с Западной стороны Каспийского моря, между Астраханью и Курой, народах и землях и о их состоянии в 1728 году, кн. III и IV. Спб. 1790.
[Закрыть]
Характерное наблюдение: «…выходят, особливо к Российской границе». Гербер убедился в стремлении армян связать свою судьбу с Россией.
Ценные сведения об армянских колониях на юге России содержатся в путевых дневниках главного врача Астраханского корпуса Иоанна Якоба Лерхе, дважды побывавшего на Востоке – в 1733–1735 и 1745–1747 годах. Он отмечает содействие русских властей астраханским армянам-переселенцам. «Для армян, – пишет Лерхе, – отведено было особенное место за Солончаком вдоль по новому каналу, где они через 3 года отчасти прекрасные выстроили дома… Между ними не мало находилось зажиточных купцов, которые… завели… фабрики; иные же промышляют вином и садовыми овощами».[32]32
«Путешествия Иоанна Лерхе (1733–1735, 1745–1747)». Спб. 1790.
[Закрыть]
В XVIII веке были изданы в России в переводе с французского языка труды французских путешественников, писавших об Армении. Таковы, например, «Белевы путешествия через Россию в разные азиатские земли: а именно в Испагань, в Пекин, Дербент и Константинополь» (1776 год), написанные в начале века Белем, «Всемирный путешествователь или познание Старого и Нового света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света» аббата де Ла Порт (изд. в Петербурге в 1780 году)[33]33
«Всемирный путешествователь или познание Старого и Нового Света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света». Изд. господином Аббатом де Ла Порт, а на Российский язык переведенное с французского, т. 2, 2-е изд. Спб., 1780, стр. 162.
[Закрыть] и другие.
Интерес к подобным изданиям проявляла не только русская публика, но и правительственные сферы, поскольку жизненные интересы России и ее внешняя политика были связаны с сопредельными странами Востока. В 1735 году в проект устава Академии наук был внесен пункт, по которому предлагалось включить в состав Академии «…одного профессора древностей восточных, потому что ради соседства и великого союза восточных народов с нами о сем учении паче всех прочих стараться надлежит.[34]34
П. Пекарский. История импер. Академии наук в Петербурге, т. I. Спб., 1870, стр. 53.
[Закрыть]
Обширная деятельность Академии в этом направлении общеизвестна. Она во многом способствовала развитию армяноведения. Большой материал об Армении и армянских поселениях в разных странах собрали участники экспедиций Академии. И всюду в этих материалах мы находим строки о тяжком гнете, который душил армянский народ во владениях тогдашних Персии и Турции. Например, участник одной из академических экспедиций С. Г. Гмелин, говоря об армянских деревнях, находившихся под владычеством персидских властей в шестидесятых годах XVIII века, писал: «Обыватели живут бедно, монахи не смеют церковных сосудов, образов и других украшений употреблять всенародно, опасаясь, чтобы у них насильно не отняли».[35]35
Самуил Готтлиб Гмелин. Путешествие по России для исследования трех царств. Спб., 1771, стр. 107.
[Закрыть] Большое место описанию притеснений, которые испытывали армяне в тогдашней Персии, уделено в книге другого участника академической экспедиции XVIII века И. Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений одежд, жилищ, управлений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей…».
В XVIII веке памятный вклад в дело русско-армянской дружбы и культурного сближения внесли представители петербургской армянской колонии. Например, выходец из Новой Джульфы Г. Халдарян, занимавшийся торговлей в Индии, а затем в Лондоне, в результате долгих хлопот заказал в Голландии армянский шрифт и, получив его, приобрел все необходимое для организации типографии. Передовой и прогрессивный деятель своего времени, Г. Халдарян правильно учел, что именно в России имеются перспективы для развития армянской культуры. Он перевез типографское оборудование в Петербург и создал здесь первую в России армянскую типографию. В 1780 году она была открыта. Здесь печатались книги религиозного и исторического содержания.[36]36
Г. Левонян. Армянская книга и искусство книгопечатания (на арм. языке). Ереван, 1958, стр. 163.
[Закрыть] Среди них были изданы сочинения Егише и Нерсеса Шнорали.
Явлением большого культурного значения был первый армяно-русский словарь, составленный Г. Халдаряном в конце XVIII века.[37]37
Г. Халдарян. Краткий словарь армянский с российским переводом. Спб., 1788.
[Закрыть] Он выбрал «…из бездонного моря языка русского народа» около двух с половиной тысяч «наиизбраннейших слов», стремясь вывести «по тропинке языкознания» армянских читателей на широкую дорогу изучения «роскошного славного языка просвещенной России». Этой целью руководствовались и другие авторы.
Например, одновременно (в 1788 году) Петербургская армянская типография выпустила «Книгу, содержащую в себе ключ познания, букварь, словарь и некоторые правила из нравоучения», составленную «девицей Клеопатрой Сарафовой», которую исследователи предположительно считают дочерью участника армянского национального движения шестидесятых годов XVIII века, астраханского армянина Мовсеса Сарафова. В упомянутой книге содержатся «Армянский словарь с российским переводом» и «Российский словарь с армянским переводом».
В те же годы один из влиятельных членов петербургской армянской колонии подпоручик Варлаам Ваганов, известный своими переводами на русский язык выдающихся произведений армянской литературы, стремился использовать свои связи с деятелями русской культуры для развития армянского просвещения в России. По просьбе его ближайшего помощника М. Б. Маничара в Петербургской академии наук в 1782 году Я. Я. Штелин составил программу будущей армянской школы в Астрахани.
С историей зарождения армянского книгопечатания в России связано имя Маркара Захаровича Хоченца Ереванского, «мужа искусного и ученого философским наукам, знающего и приобыкшего к переводам многих книг с разных языков на армянский диалект». Он переехал в Россию из Смирны, где был переводчиком у английского консула. Знал итальянский, арабский, персидский и турецкий языки. Устроившись на государственную службу, он одновременно усердно занимался переводами. Перевел на армянский язык роман Фенелона «Приключения Телемака» и ряд других книг. В 1792 году в Нахичевани вышла книга Хоченца «Врата милосердия». В ней приводится указ Екатерины II об основании нового города армянского Григориополя (в 12 километрах от Дубоссар), в котором поселились армяне – жители городов, освобожденных от турок во время второй русско-турецкой войны. М. Хоченц работал в Петербурге в должности коллежского советника.
Армяне, нашедшие приют в России, связывали свои сокровенные надежды на освобождение Армении от персидско-турецкого ига именно с русским народом. Эти надежды казались весьма близкими к осуществлению, хотя временами сама Россия подвергалась тяжелым испытаниям и армянам приходилось ждать более счастливых времен. Но вера в освобождение, вера в помощь русского народа оставалась непоколебимой.
Находясь под турецко-персидским владычеством, армянский народ не переставал бороться за свободу. В ходе этой борьбы он обращался за помощью и к западноевропейским державам. Но нашел истинную дружбу и реальную помощь только у великого русского народа.
В 1701 году известный деятель армянского освободительного движения Исраэл Ори вел переговоры с Петром I об освобождении Восточной Армении из-под персидского владычества. Но Северная война требовала от России большого напряжения сил. Лишь после Ништадтского мира, в 1722 году, Петр I предпринял персидский поход. Россия завладела Дербентом, Баку, провинциями Гилан и Мазандаран. Однако вопрос об Армении остался в те годы нерешенным.[38]38
Г. А. Эзов. Сношения Петра Великого с армянским народом. Документы. Спб., 1898.
[Закрыть]
Прошли десятилетия, прежде чем Армения и армянское освободительное движение снова заняли свое место в планах русской дипломатии. Это произошло во второй половине XVIII столетия, когда вновь перед внешней политикой царизма стала задача полного присоединения Кавказа к России.
Любопытно отмстить, что дважды в своей жизни близкое участие в судьбе армянского народа принимал выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов. Эту малоизвестную сторону его биографии подробно раскрывает М. Нерсисян в своей недавно вышедшей в Ереване книге «Из истории армяно-русских отношений».
Первый случай относится к 1778 году. А. В. Суворов, бывший дотоле помощником князя Прозоровского, командовавшего русскими войсками, введенными в Крым, сменил своего безвольного и бездеятельного шефа на его посту. В то время царское правительство стремилось экономически ослабить Крымское ханство и поставить его в еще большую зависимость от России. Зная, что значительную долю доходов ханской казны составляют поборы с торговцев и ремесленников, которыми были преимущественно армяне и греки, царское правительство решило поощрить их стремление к переселению в южные районы России. Эта задача и была возложена на А. В. Суворова. В августе – сентябре 1778 года, преодолев сопротивление и козни Шагин Гирей-хана, трудности, связанные с транспортом того времени, с организацией питания переселенцев в пути и на месте нового жительства, А. В. Суворов, по его собственному выражению, «…вывел христиан из Крыма в Россию без остатку», переселив более 32 тысяч человек. При этом, по свидетельству ряда источников, великий полководец поступал «сдержанно, политично и человеколюбиво» и «вложил свою душу в это дело».[39]39
М. Нерсисян. Из истории армяно-русских отношений, кн. I. Ереван, 1956, стр. 34.
[Закрыть]
Так, с участием А. В. Суворова было положено начало армянским поселениям в бывшем Таганрогском градоначальстве, в районе крепости св. Дмитрия Ростовского (ныне г. Ростов-на-Дону). Здесь в декабре 1779 года состоялась официальная закладка города Нахичевани, ставшего одним из центров общественной и культурной жизни армянского народа в дореволюционной России. Тут же уже с конца XVIII века существовали армянская школа и типография, а позднее начали свою общественно-политическую деятельность М. Налбандян, Р. Патканян и др.
Второй, более важный случай относится к 1779 году. Высоко оценив заслуги А. В. Суворова в Крыму на военном и дипломатическом поприще, императрица Екатерина II во время личной аудиенции сняла со своей одежды и пожаловала ему особый знак внимания – бриллиантовую звезду ордена св. Александра Невского, дав одновременно новое поручение. Суворову предлагалось немедленно выехать в Астрахань, принять командование войсками и, изучив положение в Армении, Грузии и Персии, сообщить о них Потемкину.
Речь шла о намерении царского правительства освободить Армению от турецко-персидского ига и присоединить ее к России. Произошло несколько встреч А. В. Суворова с представителями армянского народа, во время которых он выразил свое благосклонное отношение к вопросу восстановления армянского государства и недвусмысленно говорил о том, что Россия намерена сделать серьезные шаги в этом направлении.
В 1780–1782 годах, находясь в Астрахани, А. В. Суворов разработал план кампании, но она не состоялась.[40]40
М. Hepсисян. Из истории армяно русских отношений, кн. 1. Ереван, 1956, стр 46–48.
[Закрыть]
Косвенное, но деятельное участие в судьбе армянского населения юга России, Молдавии и Валахии принимал А. В. Суворов во время второй русско-турецкой войны, в которой он одержал славные победы под Кинбурном, Очаковом, Рымником, Фокшанами и Измаилом. На пути движения его армии проживало много армян. Он способствовал переселению их в безопасные места, в Россию. В этом направлении, по его поручению, действовал, например, один из его подчиненных Е. В. Хастатов (по происхождению армянин).[41]41
М. Hepсисян. Из истории армяно русских отношений, кн. 1. Ереван, 1956, стр. 71–79.
[Закрыть]