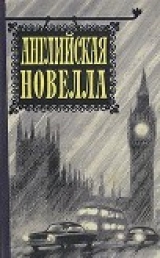
Текст книги "Английская новелла"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Соавторы: Оскар Уайльд,Джон Голсуорси,Гилберт Кийт Честертон,Олдос Хаксли,Редьярд Джозеф Киплинг,Клапка Джером Джером,Грэм Грин,Дорис Лессинг,Джеймс Олдридж,Эдвард Морган Форстер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Его беспокоило только одно: Эмет стал ему в тягость. Он устал от этого голоса, не перестававшего в жаркие дни, в разгар уборки, бубнить о лошадях и скачках, устал от нежелания Эмета платить долги, а больше всего устал от странного взгляда, полного какой-то затаенной ненависти, каким Эмет постоянно следил за Эдной, когда она проходила по двору.
– Я хочу сосчитаться с Эметом и отказать ему, – сказал он Эдне.
– Не стоит этого делать, – возразила она. – Во всяком случае, сейчас. Он всё еще должен тебе за молоко около шестидесяти фунтов.
– Да, но он их никогда не отдаст.
– Отдаст, – заявила она. – Двадцать фунтов я уже заставила его отдать. Получу и остальные. Подожди немного.
– Но он мне здесь ни к чему. Только слоняется, шпионит, трещит о скачках. Пусть заплатит и убирается. А если не заплатит, всё равно пусть убирается. Обойдемся без этих денег.
– Тебе они нужны, – сказала она. – Ты же знаешь,
что они тебе нужны.
– Не так уж и нужны.
– Очень нужны. Он обещал отдать двадцать пять фунтов к двадцатому. Я всё-таки попробую что-нибудь придумать.
Назавтра она отправилась в коровник, чтобы поговорить с Эметом наедине. От полуденного зноя и тучи мух коровы беспокоились. Солнечный свет яркими палящими полосами проникал сквозь щели в темной крыше, озаряя забрызганный молоком навоз и солому на полу.
– Деньги? – сказал Эмет. – Ты говоришь так, будто я набит деньгами.
– Ты брал молоко и яйца, – ответила она. – Пора уплатить, и ты уплатишь.
– Мне не к спеху, – бросил Эмет.
– Как, по-твоему, мы сводим концы с концами? – рассердилась Эдна. – Чем мы расплачиваемся по счетам? Воздухом, что ли?
– Мы? – повторил Эмет. – Мы?
– Да, мы, – сказала она. – А в чем дело?
– Ни в чем, – процедил Эмет. – Ни в чем. Только одним деньги достаются так, а другим эдак.
Он как раз нес бидон с молоком; теперь он опустил его на пол. Когда он обнял ее за плечи, его руки с черными от грязи ногтями были еще влажны от молока.
– Иди сюда, что ли? Будто не понимаешь! А ну, брось прикидываться.
– Прекрати сейчас же! – крикнула она.
– Ну же, Эдна! – повторил он.
– Сейчас же перестань. Сейчас же!
– Да ну, брось! Не ломайся!
– Убери сейчас же свои лапы, не то получишь по морде, – предупредила она. – Ты слышишь? Слышишь?
– Говорю тебе, Эдна!…
Она изо всех сил ударила его по лицу, и мгновение они стояли молча, впившись друг в друга глазами. Потом Эмет заговорил:
– Странно ты ведешь себя для замужней женщины, – сказал он. – Лопни мои глаза, если не так.
– Что, что ты сказал? – переспросила она.
– Для замужней женщины, – повторил Эмет. – Вот что я сказал. Ты ведь не девушка, и давно уж не девушка.
– Ты только на то и годишься, – сказала она, – чтобы вынюхивать и шпионить, играть на скачках и разносить грязные сплетни. Только на это ты и годишься.
– А что, разве не правда?
– Кто это тебе сказал? Кто сказал?
– Да все говорят, – заявил Эмет. – Все. На что ты, черт возьми, надеялась. Все. Все это знают. Все, кроме Тома.
– Врешь, – сказала она. – Знаешь сам, что врешь. Никто об этом не знает. Никто. Разве что ты рассказал. Я не из этих мест. Я жила за сто миль отсюда. Если ты не рассказал, так никто не знает. Никто не знает, кто я такая, откуда приехала, что делала раньше.
– Вот тут-то ты как раз и ошибаешься, – злорадно сказал Эмет. – Я знаю. Уж я постарался разузнать о тебе всё. И если ты не возьмешься за ум, так я позабочусь, чтоб еще кое-кто узнал об этом.
– Я тебя убью, – сказала она.
Она вся дрожала от гнева. На глазах у нее выступили слезы.
– Если ты ему скажешь, – повторила она, – я тебя убью.
Эмет молчал, боясь взглянуть в ее налитые слезами глаза.
– Я не шучу, – сказала она. – Если ты ему скажешь, я тебя убью. Убью. Лучше уж я сама ему всё скажу.
* * *
В конце августа во дворе рано сгущались вечерние тени. Солнце озаряло сжатое пшеничное поле, стерню ячменя и овсов, темную ботву картофеля и свеклы. У пруда зрели сливы. В прежние годы их никто не собирал; изъеденные осами, оставлявшими на темно-красной кожице золотые трещинки, они падали в воду, в траву, в высокий коричневый, как кофе, щавель, который никогда не срезали. Огромная тень орехового дерева словно вся светилась от свежих желтых снопов; в густую листву вплетались соломинки, сбитые ветвями с проезжавших мимо телег.
В этом году всё будет иначе. Девушка соберет сливы и очистит орехи. У коровника росла бузина, согнувшаяся под тяжестью пурпурных гроздьев. Скоро она начнет делать из них вино. Теперь, когда хлеб убран, она сможет подобрать на жнивье колосья для кур и снять черную смородину с кустов за свекольным полем, такую теплую от солнца и совсем спелую. Когда станет холоднее, она принесет хворост и затопит камин в заново оклеенной гостиной, где раньше топили только раз в год; они будут сидеть у камина, и она будет читать ему вслух газету, пока не настанет время идти спать. Спать они будут в ее комнате: там кровать получше и есть керосиновая лампа, при свете которой Эдна станет расчесывать волосы. И весь вечер он будет ждать этого – движений ее тела под ночной рубашкой, когда при свете лампы она расчесывает волосы; эти движения, и ее светлые, гладкие, точь-в-точь как солома, волосы, это и еще многое, многое другое и составляют его счастье.
Ему казалось, что такой большой скирды, как в этом году, он даже и не припомнит. Когда они кончали вершить, он, стоя на скирде, взглянул вниз и сказал стоявшему на телеге Эмету, что ему очень хочется показать скирду Эдне.
– По-моему, у нас никогда не было такой большой скирды, – сказал он.
– Свежая, она всегда кажется больше. Еще не осела.
– Да, но нынче хлеб был выше. Посмотри. – И он вдруг вытащил торчащую из скирды соломинку и протянул Эмету: – Почти шесть футов, ей-богу.
Он слез со скирды, всё еще держа соломинку в руках. По дороге к дому он машинально вертел ее и мял.
– Эдна! – позвал он. – Где ты?
Кухня была пуста. С минуту он постоял, продолжая Звать ее:
– Пойди посмотри на скирду. Где ты?
Ответа не было. Он вошел в комнату. Там было пусто. Подошел к лестнице и еще раз позвал Эдну. В доме было чисто, уютно, прохладно. Он пошел наверх, осторожно ступая на носки, так как помнил, что сапоги у него в грязи и соломе. Наверху он еще несколько раз позвал: "Эдна!" Но в комнатах никого не было, и, подождав немного, оп спустился вниз.
Он снова постоял в кухне, но уже не звал ее. Он пытался понять, где она может быть. Ему хотелось показать ей скирду – такую большую и такую хорошую, что, казалось, она воплощала в себе все перемены, всё благоденствие этого лета. Несколько соломинок, занесенных ветром, лежало на кухонном полу. Он наклонился и подобрал их.
Когда он выпрямился, его как будто что-то толкнуло. Только сейчас он заметил конверт на керосиновой плите. Очень медленно он взял его в руки и перевернул. На конверте стояло его имя. Наконец он вскрыл конверт и вынул письмо. Оно было написано бледным карандашом на тонкой бумаге. Том не двигался и даже не смотрел на письмо.
Только несколько минут спустя он сообразил, что не сможет прочесть его. Он еще долго стоял, уставившись на карандашные строчки. Его большое тело стало вдруг легким и пустым; кровь тяжело стучала в похолодевшем горле.
Потом, спустя много времени, он вспомнил об Эмете. С письмом в руках он подошел к дверям и позвал его. Тот слез с телеги и неторопливо зашагал через двор. Подойдя к Тому, он сплюнул.
– Эмет, я получил письмо. Мне его не разобрать.
– А где Эдна?
– В том-то и дело, – сказал Том. – Эдны нет.
– Нет?
– Ну да, – сказал Том. – В том-то и дело. Не знаю. Прочти-ка лучше письмо.
Не глядя на Тома, Эмет взял письмо. У него словно онемели руки. Том пошел на кухню и сел у стола, и Эмет пошел за ним и тоже сел у стола. Некоторое время Эмет сидел, рассматривая письмо, потом перевернул листок и прочел, что было написано на обороте. Как всегда в минуты волнения, у него начала дрожать нижняя губа. Наконец он расправил листок на столе, чтобы можно было читать, не отрываясь.
– Не так-то это просто, – сказал он.
– Не просто? Ты что, не можешь прочитать его?
– Нет, – ответил Эмет, – не в этом дело. Я могу его прочитать.
– Так в чем же дело?
– Она уехала, – сказал Эмет.
– Уехала? – переспросил Том. – Уехала? Куда уехала?
– Об этом она не пишет, – ответил Эмет. – Уехала, и всё. Совсем уехала. Навсегда.
– Навсегда? – переспросил Том. – Почему? Из-за чего она уехала? Почему? Она не пишет об этом?
– Нет, – сказал Эмет– – Только не так-то всё это просто.
– Не просто? А по-моему, очень просто. Мне только нужно знать, что там написано.
– Пожалуйста, – сказал Эмет. – Я тебе прочту, что там написано. Сейчас прочту.
Он положил письмо перед собой и разгладил его, потом крепко прижал ладони к деревянной крышке стола. Глаза его были опущены, и он ни разу не взглянул на Тома. Голос звучал негромко и хрипло, а на висках, под редеющими волосами, выступили капли пота.
– Она пишет: "Дорогой Том…"
– Дальше.
– "Дорогой Том", – она пишет, – "я знаю, тебе не понравится то, что я собираюсь сделать. Мне нужно тебе что-то сказать. Я уезжаю и не вернусь. Я занималась дурным делом". – Эмет помолчал, не подымая глаз. – "Я занималась дурным делом. Долго". – Казалось, он не читал, а говорил, сухо, отрывисто. – "Долго. Я брала себе деньги, которые Эмет отдавал за молоко. Я брала их себе и прятала". – Эмет перевернул страницу, словно на самом деле читал письмо, но глаза его не смотрели на листок, и он произносил слова всё так же несвязно. – Вот такой тут смысл, – закончил он. – Такой, в общем, смысл…
Уже не притворяясь, будто читает, он остановился на полуслове; во рту у него пересохло, и он провел по губам кончиком языка. Он не поднимал маленьких черных глаз, не отрывал рук от стола. Вытаращив глаза, он силился сообразить, что ему делать, если Том вдруг попросит его перечитать письмо. Казалось, глаза его застыли от страха, пока он тщетно пытался припомнить порядок слов.
Эмет всё еще сидел, не меняя позы, когда Том встал и вышел из кухни. В конце он уже не слушал Эмета, не смотрел ему в глаза. Его большие, коричневые от загара руки повисли бессильно, как плети. Он вышел из дома, пересек двор, прошел мимо скирды, даже не взглянув на нее, остановился у калитки, ведущей в поле, и уставился куда-то в пространство. Солнце бросало на жнивье белесые лучи, несколько облачков нависло над кустами черной смородины, в которых, как и в ореховом дереве, запутались сдутые ветром соломинки.
Он стоял, глядя на опустевшее поле, перебирая в памяти всё, что произошло этим летом. Он вспоминал круглый стол и яблоки, ее лицо и руки, почерневшие от солнца. Он вспоминал голубое платье, и какой она была, когда сняла его, и движения ее тела, когда ночью она расчесывала волосы при свете лампы. Он вспоминал, как она покрасила ему дом, и какой честной она была, и как он доверял ей.
Он стоял долго. Потом повернулся, точно собираясь домой, но передумал. Взгляд у него был сосредоточенный и тревожный. Двор совсем потонул во мраке, укрытый длинными вечерними тенями, и маленькая ферма словно вся съежилась под лучами заходящего солнца.
Грэм Грин
ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД
(новелла, перевод М. Шерешевской)
В этот вечер она, как обычно, прислушивалась к шагам отца, который перед сном обходил дом, проверяя, заперты ли окна и двери. Он был старшим клерком в экспортном агентстве Бергсона, и всякий раз, лежа в постели, она с неприязнью думала, что и дом у него точь-в-точь как контора: ведется на тех же началах, содержится в таком же дотошном порядке, словно отец – управляющий этим домом и в любой момент готов представить хозяину отчет. Он и представлял его в маленькой неоготической церкви на Парк-роуд, куда отправлялся каждое воскресенье вместе с женой и дочерьми. Они всегда занимали одну и ту же скамью, всегда приходили за пять минут до начала службы, и отец громко и фальшиво пел, держа громадный молитвенник у самых глаз. «С гимнами восторга и ликования» представлял он всевышнему свой еженедельный отчет (один домашний очаг огражден от зла и искушений), «в землю устремясь обетованную». Когда они выходили из церкви, она старательно отводила взгляд от того угла, где перед баром «Герб каменщика», чуть навеселе – «Каменщик» уже полчаса как был открыт, – всегда маячил Фред со своим обычным бесшабашно-ликующим видом.
Она прислушивалась: хлопнула задняя дверь, щелкнул шпингалет на кухонном окне, затем послышалось суетливое шарканье: отец шел проверить парадную дверь. Он запирал не только наружные двери: он запирал пустые комнаты, ванную, уборную. Он словно запирался от чего-то, существующего снаружи, что могло бы проникнуть сквозь первую линию его обороны; и поэтому, отправляясь спать, воздвигал вторую.
Она прижалась ухом к тонкой перегородке их наспех поставленного стандартного коттеджа; из соседней комнаты до нее глухо доносились голоса. Чем напряженнее она вслушивалась, тем яснее они становились, словно она поворачивала рычажок радиоприемника. Мать сказала: "...готовить на маргарине...", а отец: "...через пятнадцать лет станет куда легче". Потом заскрипела кровать, и она поняла, что в соседней комнате пожилая чета чужих ей людей, обмениваясь ласками, устраивалась на покой. Через пятнадцать лет, подумала она безрадостно, дом перейдет в собственность отца. Он внес за него первый взнос двадцать пять фунтов, а остальные выплачивал из месяца в месяц, как квартирную плату. "Конечно, – любил он говорить после сытного ужина, – я привел этот дом в порядок". И он ждал, что хоть одна из его трех женщин проследует за ним в кабинет. "Вот в этой комнате я сделал электрическую проводку. – Он семенил назад мимо маленькой уборной на первом этаже. – Здесь поставил радиатор". И наконец с чувством особого удовлетворения: "Я разбил сад". И если вечер выдавался теплый, он открывал в столовой венецианское окно, выходящее на крошечную лужайку, чистенько и аккуратно подстриженную, словно газон перед зданием колледжа. "Груда кирпичей, – говорил он, – вот чем все это было". Целых пять лет все субботние вечера и все ясные воскресные дни ушли на полоску дерна, на окаймляющие ее клумбы и на единственную яблоньку, на которой прибавлялось по одному пунцовому безвкусному яблоку в год.
"Да, – говорил он, высматривая, куда бы вбить еще гвоздь, откуда бы выдернуть сорную травинку, – я привел этот дом в порядок. Если бы нам сейчас пришлось его продать, мы выручили бы за него много больше, чем я выплатил компании". Это было не просто чувство собственности, это было чувство добропорядочности. Сколько людей, купивших дома у компании, только разрушили их да разорили, а потом съехали.
Она стояла, прижавшись ухом к стене, – маленькая, темная, гневная, совсем еще детская фигурка. В смежной комнате все стихло, но в ушах ее продолжала звучать симфония собственничества: стучал молоток, скрипела лопата, шипел пар в радиаторе, поворачивался ключ в замочной скважине, в стенку ввинчивался болт, – негромкий будничный аккомпанемент, под который люди возводят свои крепостные стены. Она стояла, замышляя предательство.
Часы показывали четверть одиннадцатого. У нее был еще целый час на сборы. Но столько ей и не понадобится. Бояться было абсолютно нечего. Они, как всегда, сыграли втроем партию в бридж; сестра в это время подновляла платье, которое собиралась надеть завтра на ганцы. Потом она вскипятила воду и заварила чайник; потом наполнила горячей водой бутылки и, пока отец запирал двери, разложила их по кроватям. Он и не подозревал, что в доме притаился враг,
Она надела шляпу и теплое пальто – по ночам все еще было холодно. Весна в этом году поздняя, как на днях сказал отец, разглядывая почки на яблоньке. Она не стала укладывать чемодан, с чемоданом все это было бы слишком похоже на воскресные выезды к морю, на семейные поездки в Остенде, откуда всегда приходилось возвращаться домой, а ей хотелось быть такой же удивительно беспечной, как Фред. На этот раз она не вернется. Неслышно ступая, она спустилась в маленькую заставленную переднюю и отперла дверь. Наверху все было тихо. Она прикрыла дверь за собой.
Она чувствовала себя немного виноватой из-за того, что оставила незапертой наружную дверь. Но это чувство развеялось, когда она дошла до конца выложенной разноцветными камешками дорожки; она свернула на шоссе, которое за пять лет так и не успели достроить, и зашагала мимо зияющих между коттеджами пустырей, где израненные поля с угрюмым упорством заявляли о себе чахлой травой, кучами глины и одуванчиками.
Теперь она быстро шла мимо вытянувшихся в длинный ряд низеньких гаражей, напоминавших гробницы на Португальском кладбище, которые так и будут стоять там до скончания века, украшенные выцветшими фотографиями своих обитателей. Холодный ночной воздух словно окрылил ее. И когда, повернув у светофора, она очутилась на главной улице с закрытыми железными шторами, витринами, ей уже все было нипочем, совсем как новобранцу в первые месяцы войны: выбор сделан, и можно отдаться удивительному, окрыляющему, небывалому приключению.
Фред, как и обещал, ждал ее на том углу, где улица поворачивала к церкви. Они поцеловались, и она ощутила запах спиртного. И прекрасно – никто не подошел бы для этого случая лучше, чем Фред. При свете фонаря его лицо казалось радостным и беспечным, и весь он был таким же волнующим и необычным, как предстоящее им приключение. Он взял ее под руку и повел в темный тупичок. Потом оставил на минуту одну, и вдруг из черной пустоты засияли две фары, облив ее мягким светом.
– У тебя машина?! – удивленно воскликнула она и тотчас же почувствовала нервное прикосновение его руки, подталкивавшей ее к дверце.
– Да, – сказал он, – нравится? – и со скрежетом включил вторую скорость, а когда они оказались на улице с зашторенными витринами, неумело переключил на третью.
– Еще бы! – похвалила она. – Поехали куда-нибудь подальше.
– Поехали, – сказал он, наблюдая за стрелкой спидометра, дрожавшей у сорока пяти.
– Значит, ты получил работу?
– Нет работы, – ответил он. – Была, да вся вышла, исчезла, как доисторическая птица дронт. Видела пичугу? – спросил он резко, включая фары, потому что они как раз проезжали перекресток, откуда начиналась дорога в район новой застройки. Миновав кафе ("Загляните к нам"), обувную лавку ("Покупайте туфли, которые носит ваша любимая кинозвезда") и лавку гробовщика, над которой парил большой белый ангел, освещенный неоновым светом, они вдруг очутились за городом.
– Нет, ничего не видела.
– Не видела, как она пролетала у самого ветрового стекла?
– Нет.
– Я чуть не расшиб ее, – сказал он. – Вот было бы гадко! Все равно что сбить прохожего и не остановиться. Ну как, остановимся? – спросил он, выключая свет на щитке; теперь они уже не видели, как стрелка спидометра поползла к шестидесяти.
– Как хочешь, – ответила она, упиваясь своими дерзкими мечтами.
– А ты будешь любить меня сегодня?
– Конечно, буду.
– И никогда не вернешься домой?
– Никогда, – сказала она так, словно заклинала стук молотка, звяканье задвижки, шарканье обутых в шлепанцы ног, совершающих обход дома.
Хочешь знать, куда мы едем?
– Нет.
Плоская, словно картонная, рощица въехала в зеленый свет и тут же умчалась вдаль. Кролик, показав куцый хвост, исчез за живой изгородью.
Он спросил:
– У тебя есть с собой деньги?
– Полкроны.
– Ты меня любишь?
Она ответила долгим поцелуем, вложив в него все, что ей приходилось терпеливо таить про себя, когда по воскресеньям она отворачивалась от Фреда или молчала, если за обедом при случае неодобрительно упоминали его имя. Она отдавала себя всю, прижимаясь к его сухим неподвижным губам, а машина мчалась вперед, и его нога продолжала нажимать на акселератор.
– Собачья жизнь, – сказал он.
И она повторила за ним, как эхо:
– Собачья жизнь.
– У меня в кармане виски. Хочешь глотнуть? – предложил он.
– Не хочется.
– Ну, тогда дай мне. Пробка отвинчивается. – Одной рукой он обнимал ее, другая лежала на руле. Он запрокинул голову, чтобы она влила ему немного виски прямо в рот. – Ты не возражаешь?
– Нет, конечно, что ты.
– Мне выдают десять шиллингов в неделю на карманные расходы. Много ли из них отложишь? Я и так изворачиваюсь как могу. Приходится чертовски ломать голову, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь. Полкроны на сигареты. Три с половиной шиллинга на виски. Шиллинг на кино. И еще три шиллинга остается на пиво. Беру что-то от жизни хоть раз в неделю – и точка.
Несколько капель виски скатилось ему на галстук, и маленькая кабина наполнилась запахом спиртного. Ей нравился этот запах – его запах.
– Старики все песочат меня за виски. Требуют, чтобы я нашел себе работу. Люди в их возрасте не понимают, что для таких, как я, нет работы. Нет и не будет никогда.
– Да, – сказала она, – они старые.
Как там твоя сестренка? – спросил он неожиданно.
Яркий свет сгонял с дороги испуганных птичек и зверьков.
– Собирается завтра на танцы. Интересно, где-то мы будем завтра?
На этот вопрос он не стал отвечать, у него был свой план, но он хранил его про себя.
– Как мне тут нравится!
Он сказал:
– Здесь, у дороги, есть загородный клуб. В помещении гостиницы. Мик записал меня в него. Ты знакома с Миком?
– Нет.
– Мик свойский парень. Если в клубе тебя знают, можешь пить там хоть до полуночи. Давай завернем туда. Повидаем Мика. А утром – ну там решим, когда опрокинем пару рюмочек.
– А тебе на это хватит денег?
Маленькая деревенька, уже крепко спящая за закрытыми дверьми и ставнями, проплыла мимо них под гору, словно оползень плавно уносил ее вниз, в иссеченную дорогами долину, откуда они ехали. Мелькнуло длинное серое строение – церковь в норманнском стиле, гостиница без вывески, часы, показывающие ровно одиннадцать.
Он сказал:
– Взгляни-ка на заднее сиденье. Там должен быть чемодан.
– Он заперт.
– Я забыл ключи.
– Что у тебя там?
– Так, барахлишко, – ответил он уклончиво. – Его можно будет заложить, а на вырученные деньги выпить.
– А где будем ночевать?
– В машине. Ты ведь не боишься?
– Нет, – ответила она, – нисколько. Все это так...– Но у нее не хватило слов, чтобы выразить все сразу – пронизывающий ветер, темноту, необычность, запах виски и несущийся сквозь мглу автомобиль. – Хорошо идет машина, – добавила она. – Мы, наверно, далеко отъехали. Здесь уже настоящая глушь. – Она увидела, как низко над вспаханным полем пронеслась на своих мохнатых крыльях сова.
– Настоящая глушь дальше. По этой дороге до нее так скоро не доберешься. Сейчас будет гостиница.
Она вдруг поняла, что ей ничего не нужно – только бы мчаться с ним сквозь мрак и ветер. Она сказала:
– Нам обязательно заезжать в клуб? Может, лучше поедем дальше?
Он искоса поглядел на нее; он всегда соглашался с любым предложением, словно флюгер, специально созданный для того, чтобы по прихоти ветра поворачиваться в любую сторону.
– Пожалуйста, – сказал он, – как хочешь. – И больше не вспоминал о клубе.
Минутой позже мимо них промчалось длинное, ярко освещенное одноэтажное здание в стиле Тюдоров, донесся гул голосов, мелькнул плавательный бассейн, почему-то набитый сеном. И сразу же все осталось позади – пятно света, сверкнувшее и исчезнувшее за поворотом.
– Вот сейчас, по-моему, уже действительно глушь, – сказал он, – дальше клуба обычно никто не ездит. В этом поле можно пролежать до самого Судного Дня, и никто даже не хватится. Разве что кто-нибудь из крестьян... и то, если они тут пашут.
Он перестал нажимать на акселератор и постепенно сбавил скорость. Кто-то забыл запереть ворота, за которыми начиналось поле, и он въехал в них. Подпрыгивая на неровной почве, машина прошла еще немного вдоль изгороди, потом остановилась. Он выключил фары, и они остались сидеть при слабом свете, падающем со щитка приборов.
– Тихо-то как, – сказал он с какой-то неуверенностью в голосе. Они услышали, как над ними в поисках добычи пролетела сова; у изгороди, прячась, зашуршал какой-то зверек. Они выросли в городе и не знали, как назвать то, что их окружает. Крохотные почки, распускавшиеся на кустарнике, были для них безымянными.
– Что это – дубы? – кивнул он в сторону темневших в конце изгороди деревьев.
– А может, вязы? – спросила она, и они скрепили свое обоюдное невежество поцелуем. Поцелуй взволновал ее; она была готова на самое безрассудное. Но по его губам, сухим, отдающим вином, она поняла, что он против ожидания не так уж взволнован.
И чтобы подбодрить себя, она произнесла:
– Хорошо здесь, за много миль от всех, кто нас знает.
– Мик, наверное, здесь. Сидит сейчас в клубе.
– А он знает?
– Никто не знает.
Тогда она сказала:
– Все так, как мне хотелось. Где ты раздобыл машину?
Он взглянул на нее с беспечной, бесшабашной усмешкой:
– Скопил. Откладывал из десяти шиллингов.
– Нет, правда? Тебе ее дал кто-нибудь?
– Да, – ответил он и вдруг толкнул дверцу: – Давай пройдемся.
– Мы с тобой никогда не гуляли в поле. – Она взяла его под руку и сейчас же почувствовала, что каждый его нерв отзывается на ее прикосновение. И это ей особенно нравилось в нем, – никогда нельзя было угадать, что Фред предпримет в следующее мгновение. – Отец говорит, что ты сумасшедший. Ну и пусть. Мне нравится, что ты такой. Что это за трава? – спросила она, ковырнув носком землю.
– Клевер, кажется, – ответил он. – Впрочем, не знаю...
Они чувствовали себя словно в чужой стране: непонятно, что написано на вывесках, на дорожных знаках, не за что ухватиться, ни тут не удержаться, ни там, и их вместе несет в черную пустоту.
– Включи-ка фары, – сказала она. – А то еще заблудимся. Луна совсем скрылась.
Она уже не различала машины. Очевидно, они далеко отошли.
– Ничего. Не заблудимся, – сказал он. – Как-нибудь. Не бойся.
Они дошли до группы деревьев в конце изгороди. Он пригнул ветку и потрогал липкие почки:
– Что это? Бук?
– Не знаю.
Тогда он сказал:
– Если бы было теплее, мы смогли бы поспать в поле. Уж в этом-то могло бы нам повезти, хотя бы на одну сегодняшнюю ночь. Так нет, холодно, и дождь вот– вот начнется.
– Давай приедем сюда летом, – предложила она, но он не ответил.
Она чувствовала: направление ветра изменилось, и Фред уже утратил к ней всякий интерес. В кармане у него лежало что-то твердое, все время ударявшее ее в бок. Она засунула руку к нему в карман. Металлический корпус, казалось, вобрал в себя весь холод их пронизанной ветром поездки.
– Зачем ты таскаешь с собой эту штуку? – прошептала она испуганно.
Раньше она никогда не давала ему заходить слишком далеко в его безрассудствах. Когда отец говорил, что Фред сумасшедший, она всегда только самодовольно улыбалась про себя, сознавая свою власть над ним. Но сейчас, ожидая ответа, она чувствовала, что это сумасшедшие все разрастается и разрастается, становится непостижимым, необъятным: у него нет предела, оно безгранично, и у нее столько же власти над ним, как над мраком или пустотой.
– Не пугайся, – сказал он, – я не хотел, чтобы ты нашла это сегодня.
Он вдруг стал таким нежным, каким никогда не бывал раньше. Он положил руку ей на грудь, и от его пальцев заструился огромный, мягкий, безмерный поток нежности. Он сказал:
– Разве ты не понимаешь? Это не жизнь, а ад. И мы ничего не можем сделать.
Он говорил очень ласково, но никогда еще она так ясно не сознавала, как велико его безрассудство. Он поддавался любому ветру, а сейчас ветер дул с востока, и слова его хлестали ее как мокрый снег.
– У меня нет ни гроша, – говорил он. – Без денег мы не можем жить вместе. А надеяться, что я получу работу, бессмысленно. – И он повторил: – Нет работы, нет и не будет. И с каждым годом, ты же знаешь, все меньше шансов, потому что все больше ребят моложе меня.
– Но зачем, – сказала она, – было ехать...
Он стал объяснять мягко, нежно:
– Ведь мы же действительно любим друг друга. И мы не можем врозь. А сидеть и ждать, когда нам улыбнется счастье, бессмысленно. Нам даже с погодой не повезло, – сказал он, протягивая руку и как бы проверяя, не каплет ли уже дождь. – Возьмем что можем сегодня ночью – здесь, в машине, а утром...
– Нет, нет! – крикнула она, отстраняясь. – Какой ужас! Я никогда не говорила...
– Ты ничего и не узнала бы, – сказал он ласково, но непреклонно.
Ее слова – теперь это было для нее ясно – никогда не оказывали на него настоящего влияния. Он поддавался им ровно столько же, сколько всему остальному, а сейчас, когда подул этот новый ветер, говорить с ним, спорить с ним было все равно, что кричать против ветра.
– Разумеется, в бога мы не верим, – сказал он,– ни ты, ни я, но все-таки кто его знает, а вдвоем как-то веселее. – И с удовольствием добавил: – Риск – благородное дело.
Она вспомнила, как много, много раз – больше, чем она могла бы сосчитать, – их последние медяки проваливались в щель игорного автомата.
Он обнял ее и уверенно сказал:
– Мы любим друг друга. Для нас это единственный выход. Поверь мне.
Он говорил как искусный оратор, владеющий всеми тонкостями логического доказательства. В его доводах было лишь одно слабое звено – утверждение: "Мы любим друг друга". Но, столкнувшись сейчас с его неумолимым эгоизмом, она и в этом усомнилась.
Он повторил:
– Вдвоем веселее.
Она сказала:
– Но должен же быть какой-нибудь выход...
– Почему должен?
– Иначе бы люди только это и делали всегда, везде.
– А они это и делают, – сказал он с таким торжеством, словно ему важнее было убедиться в непогрешимости своих доводов, чем найти выход, – да, найти выход, чтобы жить. – Стоит только открыть газету, – продолжал он. Он говорил шепотом, мягко, любовно, словно считал, что сами звуки его слов так нежны, что рассеют все ее страхи: – Это называется "двойное самоубийство". Так кончают очень многие.
– Я не могу. У меня не хватит мужества.
– А тебе ничего и не надо делать, – сказал он. – Я сам все сделаю.
Его спокойствие ужаснуло ее.
– Ты хочешь сказать... ты мог бы убить меня?
Да, – ответил он. – Я достаточно люблю тебя для этого. Тебе не будет больно – клянусь. – Он словно упрашивал ее сыграть с ним в какую-то глупую и неприятную ей игру. – Мы всегда будем вместе, – и тут же скептически добавил: – Конечно, если оно существует – это всегда.
Внезапно любовь Фреда показалась ей блуждающим огоньком на поверхности бездонной трясины – его беспредельной, непроходимой безответственности. Прежде он нравился ей таким, но теперь она поняла, что его безответственность не знает границ; перед нею открылась бездна.
– Послушай, – взмолилась она, – ведь мы не можем продать вещи. Вещи и чемодан.
Она знала, что он развлекается, наблюдая за ней, что он заранее знал все ее доводы и на все приготовил ответ: он только делал вид, что принимает ее всерьез.
– Что же, мы, возможно, выручим шиллингов пятнадцать, – сказал он. – День на это прожить можно – и то не слишком весело.








