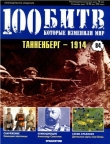Текст книги "Йокенен, или Долгий путь из Восточной Пруссии в Германию"
Автор книги: Арно Зурмински
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Дядя Франц был тогда видный мужчина с веснушками на носу и руками крепкими, как железные перила на набережной Прегель.
– Почему вы больше не ездите в Кенигсберг? – поинтересовался Герман.
– Что ты, милый, – отвечала она. – Ведь сейчас война. Никому нельзя разъезжать просто так. А сколько всего нужно сделать дома: гусей кормить, уток, кур, свиней, телят. В огороде сорняков нарастет выше головы.
Тетя Хедвиг разложила на платке бутерброды с колбасой и предложила Герману поесть. Маленький паровоз собрал на сортировочных путях пассажирские вагоны и подтащил их к деревянной будке с красным лимонадом.
– Когда будет мир, поедем в Берлин, – сказала тетя Хедвиг, но сказала так, как будто до этого мира еще далеко-далеко.
Посадка. Втащить в вагон все кульки и сумки. Герман стоял у окна и держался за латунные рукоятки. Этот поезд – настоящее живое существо. Как он дышит и дрожит. А толчки штоков паровоза – как удары сердца. Лимонадная будка вдруг окуталась облаком белого пара. Герман видел, как черный от копоти кочегар сыпал в брюхо чудовища бурый уголь.
Маленькие вагончики тронулись и покатили. Герман впервые испытал захватывающее дух ощущение скорости, с которой проносились мимо дома, повозки, поля ржи, почувствовал освежающий дорожный ветер, заносивший в купе семена чертополоха, пыль от молотилки, заблудившихся бабочек и сажу. В Вендене подцепили вагон с ранним картофелем.
– Хочешь еще чашечку? – спросила тетя Хедвиг, показывая на бутылку со смородиновым соком.
Растенбург, настоящий город! Наверное, двадцать тысяч человек. Поезд протащился мимо сахарного завода. На северо-востоке шестиугольная башня. Выцветшая вывеска: "Литейня чугуна и колоколов бр. Решке". А где же крепость? Конечно, есть и крепость, даже хорошо сохранившаяся, выходит прямо на Грубер, скромную речку, текущую на запад. На вокзале висел огромный плакат с призывом:
Катите, колеса, к великой победе!
Несколько месяцев спустя какой-то остряк испортил полотнище, приписав:
А дети, растите для новой войны!
Удивленный Герман стоял перед плакатом, пока тетя Хедвиг не потащила его дальше. Никакого уважения к плакатам и призывам. Может быть, разве что к колесам, если бы они только не катились по ногам дяди Франца. А победы? А что это такое? Для нее это было так же чуждо, как и названия мест, где сейчас эти победы одерживались. Как уродятся в этом году огурцы? И будем надеяться, что морковь не поедят черви. Победить сорняки – вот где был мир тети Хедвиг.
Она целеустремленно направилась к красному кирпичному зданию за прудом, не обращая внимания ни на белые лилии в воде, ни на красиво разбитые клумбы, на лебедей, которые здесь были гораздо спокойнее, чем дикая пара на йокенском пруду. Тетя Хедвиг торопилась доставить весь свой груз яиц, варений и колбас к постели больного.
Герман же высматривал фюрера. Он не обнаружил ни украшенной флагами улицы, ведущей к штаб-квартире фюрера, ни солдат в парадной форме, только маленький аэроплан, пролетевший над растенбургским прудом и снижавшийся для посадки. Впрочем, встретили и лимузин Майбах с берлинским номером и флажком со свастикой. На растенбургской булыжной мостовой.
В то время как Герман смотрел вслед машине, тетя Хедвиг уже была у подъезда больницы. Она поставила сумки на скамейку, высморкалась, нажала на ручку двери и очутилась перед висящим на стене убедительным плакатом: "Здоровье – самое ценное достояние немецкого народа!" Что правда, то правда.
Наверх, на шестой этаж. С вареньем это было нелегко. Герман тоже тащил одну сетку.
Палата номер 17, кровать у окна. Там лежал дядя Франц, гладко выбритый, как бывало только по большим церковным праздникам. Герман заранее смирился с возможностью, что тетя Хедвиг и дядя Франц будут целоваться при встрече. Ничего подобного. Она положила свою распухшую от работы руку на одеяло и сказала сквозь слезы:
– Какой ужас!
Она имела в виду залитую в гипс ногу, лежавшую на подставке.
– Хорошо, что ты тоже пришел, Германка, – сказал дядя Франц.
Герману разрешили бить кулаком по гипсу, пока тетя Хедвиг разворачивала свои пакеты. Она отрезала в одном месте кусок колбасы, взяла в другом ложку студня и стала кормить дядю Франца. Он вроде бы сопротивлялся, но тем не менее исправно открывал рот под напором тети Хедвиг, достававшей ему из сумок все новые и новые лакомства. Нужно есть. Еда – это здоровье! Горячий супчик у постели больного делает чудеса. Ветчину и яйца перед отходом ко сну. А на завтрак лучше всего сковородку жаркого.
Герман смотрел с шестого этажа на растенбургские крыши. На юго-востоке сплошной лес с несколькими пятнами воды: Мазурские озера. Может, таинственный бункерный город где-то там в лесу? Он осматривал горизонт, не слушая, что за его спиной тетя Хедвиг рассказывала о Йокенен, об индейке, которая не могла вытащить голову из ограды и задохнулась, о кроте, добравшемся до грядок с луком – было так плохо, что Антону пришлось взять лопату и устроить засаду – про то, как Антон опять, как и каждый год, добросовестно старался свозить урожай – что они решили скосить овес за прудом пораньше. Тогда лучше растет оставшийся под овсом клевер, и коров можно будет осенью выпустить на жнивье. И так во все время визита.
Катите, колеса, к победе! На обратном пути Герман увидел этот призыв с другой стороны. Растенбургская узкоколейка катила и катила к далекой победе, по долгому повороту дороги перед вокзалом в Вендене, мимо отцветших картофельных полей, через речку под названием Любовь, въехала в дренгфуртский вокзал и опять остановилась перед лимонадным киоском, где Антон в ожидании курил свои самодельные сигареты.
Грозы, приходившие со стороны Мазурских озер, были хуже всех. Они не спешили, долго набирали силу над водами Спирдингского озера, а затем обрушивались на равнинные поля на севере, валили рожь на полях и дубы на Ангербургском шоссе. В тот день, 17 августа 1943 года, гроза начала собираться уже с обеда. На принадлежащем поместью поле овса, примыкавшем к усадьбе Ленцкайм, еще работала молотилка. Русские таскали охапки соломы в скирду, выделявшуюся среди ландшафта огромной желтой горой. Микотайт был возле мешков, там, где из молотилки лилась благодать полей. Он взвешивал и считал мешки, вычислял, сколько центнеров получилось с гектара. Первый порыв ветра мазурской грозы опрокинул ряд составленных в суслоны снопов. Микотайт велел остановить молотилку. Русские сбежали со скирды и стали помогать натягивать над мешками с овсом брезент. Затем поспешное бегство. Караульный Йегер построил пленных по-трое в ряд и маршем двинулся по жнивью мимо йокенской мельницы в деревню. Дождя пока не было. Грозовые облака повисли над прудом. Ветер затих. Гром грохотал от Дренгфурта до Норденбурга, как будто кто-то ехал с тачкой по половицам склада поместья.
– Запевай, Никита! – крикнул караульный Йегер длинному русскому в первой шеренге. Это стало обычаем: при входе в деревню русские пели. Никита начал высоким голосом, остальные подхватили. Как орган в соборе. Меланхолические песни, песни из татарских степей, песни о волжских баржах, о Стеньке Разине. Обычно, когда пленные пели, йокенцы открывали окна или выходили на улицу, но в этот раз, в грозу, все остались в домах. Гроза здесь была страшной стихийной силой, перед которой человек должен был склониться. Боженька сердится. Небо темнеет, как на Голгофе. Древний страх поднимается из расщелин земли. Сидеть в грозу у окна – чистое кощунство. Лучше всего взять молитвенник. Кто может петь благочестивые песни, пусть поет. В печи не должен гореть огонь. Запрещается прикасаться к железу и смотреть на молнии. Подобает смирение и покорность.
Пленные дошли до самого въезда в поместье, не замочив ног. И тут хлынул дождь. Они побежали к близлежащему складу, встали под карниз крыши, а мимо них по гладким камням двора уже несся поток воды, задержался ненадолго на деревенской улице и наконец вылился через выгон в пруд. Здесь караульный Йегер сообразил сделать то, что упустил впопыхах на поле: пересчитать пленных. Он сосчитал раз... другой... одного нехватает! Отсутствовал молчаливый Петр из Рязани, который всегда что-то бубнил себе под нос. Дородный Йегер вышел из себя. Он погнал пленных под дождем в их квартиры в зарешеченной прачечной и запер дверь.
Потом повесил винтовку за спину, вскочил на свой велосипед и помчался наперегонки с водой вниз по двору поместья. Молчаливый Петр наверняка зарылся в скирду переждать непогоду.
Не успел Йегер скрыться из виду, как через двор бегом примчался Микотайт, поднялся на террасу замка и затрубил в пожарный рог. В деревню ударила молния. Работники, надев на лошадей сбрую, поскакали сквозь стену дождя к пожарному сараю рядом со школой. Микотайт бежал следом. Молния подожгла дом Вовериши на опушке леса! Опять, уже в третий или четвертый раз. А ведь в актах Восточно-прусской страховой кассы против ее имени уже был поставлен крест. Йокенская пожарная команда понеслась через парк, мимо кузницы, по размокшей дороге вдоль полевого сарая. За болотом виднелся дым, поднимавшийся из хлева Вовериши и смешивавшийся с черными грозовыми облаками. Так, теперь развернуть орудие! Раскатать шланг до заросшего водоема. И поехали! Шестеро мужчин качали воду насосом, а Микотайт направлял струю в гущу дыма, так что вода шипела и вылетала облаками пара.
Нет, хлев было уже не спасти. Коровы с раздувшимися животами лежали под рухнувшими, еще горящими, балками. А где же старуха-хозяйка? Ее нигде не было видно. Что она, лежит вместе с коровами?
Вовериша притягивала молнии, это знали все в Йокенен. Под ее двором наверняка проходила водяная жила. Или тут действовали какие-то магические силы. Старая Вовериша предсказала все пожары Европы, от Сталинграда до Дрездена. Не знала только, что сгорит ее собственный хлев.
Микотайт передал шланг кучеру Боровскому с указанием поливать сарай и хозяйский дом, чтобы не дать переброситься огню. Сам он тем временем отправился искать старуху. В доме, в сарае, наконец в саду. Микотайт орал как оглашенный. Может быть, она от страха убежала в лес? Или на самом деле лежала в хлеву рядом с воняющими, вздувшимися коровами?
Когда дождь прекратился, она пришла. Старая Вовериша вышла из леса, ведя за веревку козу, мокрая, как вытащенная из воды утопленница. Коза при виде огня заупрямилась, взбрыкнула несколько раз, но не смогла сбить старуху с ног.
Когда они вошли в сад, рухнула, разбрасывая во все стороны искры, восточная стенка хлева. Вовериша стояла в дыму среди кустов ревеня, не шевелясь. Что она видела? Все еще огонь? Она не говорила ни слова, стояла рядом с насосом и смотрела, как вода медленно брала верх.
Для Йокенен это был волнующий день. Эта убийственная мазурская гроза. Сгорел двор Вовериши, а караульный Йегер безуспешно ковырял соломенную скирду штыком в поисках своего пленного: молчаливый Петр успел сбежать. Ничего не оставалось делать, как доложить о случившемся. Йегер сообщил о происшествии по телефону из конторы поместья и был вызван на следующий день для доклада в Дренгфурт. В Йокенен он уже не вернулся, потому что в Дренгфурте сочли за лучшее подыскать для него другой театр военных действий. Йегер не смог даже получить удовлетворения от известия, что беглого Петра через три недели подстрелили на картофельном поле за Гродно в Литве.
Не меньше, чем Вовериша и караульный Йегер, пострадала от этой мазурской грозы мать Петера. Ей опять пришлось спать одной со слепой бабушкой и Петером в убогом и затхлом жилище. Но кого это волновало?
В конторе Штепутата настроение становилось угрюмее. Отпускники уже не рассказывали о штурме вершин Кавказа, о взятии Севастополя, о наступлении на Валдайской возвышенности. Сейчас говорили о планомерном отходе, защите плацдармов и высот. У Штепутата сложилось впечатление, что конец этого горького периода уже просматривается. Россия истекала кровью. По рассказам отпускников перед немецкими позициями громоздились горы замерзших трупов, а по этим горам карабкались новые меховые шапки, с криком бросались на немецкие пулеметы.
– Нужно их подпускать поближе, не стрелять слишком рано.
– Многие пьяны, бегут под наш огонь без всякого прикрытия!
– Некоторые без оружия, ждут, чтобы взять винтовки убитых!
– Да и голодные они, бедняги русские!
– О раненых не заботятся, те кричат всю ночь, пока мы их не успокоим очередью из пулемета.
– Бегут по снегу волна за волной. Не успеешь оглянуться, снег уже покрыт черными пятнами. Некоторые еще дергаются.
Герман слушал эти рассказы, разинув рот. Было ясно, что в России скоро не останется людей. Когда-то война должна кончиться, ведь на востоке не найдется столько черных пятен, чтобы покрыть бесконечные белые просторы.
В сообщениях с запада такого кровопролития не было. Зато западные отпускники больше знали. Среди них ходили слухи о новом оружии, вторжениях, неизлечимых болезнях фюрера, они передавали слова знаменитых генералов, стойко удерживавших какие-то позиции. Только доильщик Август, отпускник в черной форме, ограничивался многозначительной улыбкой, никогда не говорил о своих боевых заданиях, все время бродил один по полям, стрелял из пистолета по консервным банкам и каждый раз по прошествии двух недель отпуска на родину отбывал в неизвестном направлении.
Удивительно, но никто не приезжал в отпуск с юга. Йокенские солдаты больше годились для утопающей в слякоти или заметенной снегом России, никто не прислал в Йокенен открытки с южных берегов Италии, даже толстый учитель Клозе попал после подготовки в Россию. И уже не осталось никаких шансов для Йокенен дать бойца для Африки. Потому что Африка пала! Но все это мало что значило: Африка, южная Италия, Атлантический вал. Для Восточной Пруссии было важно, что происходило в бескрайних просторах восточнее Мемеля. Штепутат ежедневно прикладывал свой сантиметр к карте России и пересчитывал снятые мерки в километры. С удовлетворением отмечал, что между красными флажками линии фронта и Йокенен еще оставалась территория шире, чем весь великогерманский рейх. Немецкие армии были гораздо дальше в глубине России, чем в течение всей большой войны четырнадцатого-восемнадцатого года. Но в этот раз все и шло быстрее – и победы, и потери.
Герман весь ушел в изучение орденов и медалей, которые приносили домой отпускники. Расспрашивал о подвигах, которые нужно было совершить, чтобы заслужить это бренчащее серебро. За этот орден нужно было подбить в болоте танк Т-34, а этот кружок металла был получен за опасный прорыв в ударной группе, из которого вернулась обратно только половина. К медали "За зимнюю кампанию на Востоке" добавился Крымский орден в виде щита "В память о героических боях за Крым". За защиту кубанского плацдарма фюрер учредил "Кубанский щит", а крестьянин Беренд, вышедший с несколькими царапинами и легкими ранениями через рукав Демянского котла, носил Демянский щит "В память о многомесячной героической защите стратегического района Демянск от значительно численно превосходящего противника".
Подошло время резать свинью у Штепутата. Бедной животине ничего не давали есть еще накануне, чтобы Марте не пришлось выскребать из кишок слишком много дерьма. Рано поутру через замерзший пруд пришел мясник Ламперт, со страшным скрежетом точил свои длинные ножи, следил, чтобы Марта приготовила достаточно кипятка. Свиное корыто стояло рядом с дверью сарая. Марта таскала на двор ведра и миски для сбора крови, а Герман, как только появился Ламперт со своим ножом, убежал из дома. Он спрятался за заснеженными кустами у пруда в ожидании первого визга, чтобы тут же заткнуть пальцами уши. И все это называлось убойный праздник. Ламперт покрутил свои усы и привязал беспокоящейся свинье к левой задней ноге веревку. Открыл дверь сарая. Свинья не хотела выходить, и не удивительно – в такой холод. Ламперту пришлось помочь ей дубинкой. Он крепко держал веревку в руке, чтобы свинья, чего доброго, не миновала дороги в коптильню Штепутата, вырвавшись в открытое поле. Как только свинья оказалась в снегу, начался тот убийственный визг, из-за которого так трудно забивать свиней в незаконное время. В Йокенен было невозможно зарезать свинью, чтобы не услышала вся деревня.
У корыта Ламперт отдал веревку Штепутату. Сам он взял топор, обошел один раз слева, потом справа, выбирая удобную позицию. Потом оглушающий удар обухом, в то время как Штепутат рывком сбил свинью с ног. Она еще визжала, когда Ламперт приставил острый нож под левую переднюю ногу и воткнул. Раздался булькающий звук, струей хлынула кровь, свинья лежала на боку и судорожно дрыгала ногами. Снег окрасился кровью. Марта, ожидавшая возле двери дома, подбежала с тазом и поварешкой, чтобы собрать красную жидкость для кровяной колбасы. Она мешала сначала поварешкой, потом рукой. Ламперт качал передней ногой убитого животного, и с каждым его движением в таз Марты выплескивалась струя крови. Потом они перетащили животное в свиное корыто. Марта понесла кровь в кухню, а навстречу ей мазур Хайнрих нес полные ведра кипятка. Хайнрих вылил бурлящую воду на лежащую в корыте свинью. Ламперт и Штепутат схватились за скребки сдирать щетину со свиной кожи, пока Хайнрих продолжал носить воду. Когда свинью переворачивали, горячая, смешанная с кровью, вода выплеснулась через край корыта, оставив в снегу широкий красный след. Ламперт проделал в задних ногах дырки и протянул через них веревку. Потом подняли свинью на приставленную к стене дома лестницу. Ободранная туша, истекая кровью, повисла на январском морозе. Наступил момент, когда Марта должна была выйти с бутылкой шнапса. Так уж было заведено в Йокенен, что, когда свинья висит, нужно выпить. Ламперт принял стопку, еще одну, покрутил усы и взрезал свинье живот.
В тот момент, когда внутренности сыпались в снег, подъехал на велосипеде жандарм Кальвайт из Дренгфурта. По делу незаконного убоя скота. Но у Штепутата все было в полном порядке. Три центнера весила свинья, может, немного меньше, а свинью в три центнера каждому йокенскому хозяйству разрешается забивать ежегодно, не вступая в конфликт с законом. Кальвайт прислонил свой велосипед к стене дома, тоже выпил стопку и остановился перед свиньей.
– Хорошая свинка, – проворчал он.
Тут Ламперт показал, на что способен бывалый восточно-прусский мясник. Он вырезал из свиньи кусок свежего сала, насадил его на нож и начал есть, как будто это была копченая колбаса на вилке. У него даже хватило дерзости предложить кусок еще теплого сала должностному лицу Кальвайту. Согревшись, Кальвайт перешел к делу. К нему поступил донос. По поводу незаконного убоя. Не на Штепутата, а на одну женщину из Йокенен. Кальвайт вытащил из сумки листок бумаги. На крестьянку Эльзу Беренд. Польский рабочий тайком убил для нее свинью в сарае. Польская работница Катинка была на него сердита и донесла. Так это неприятное дело попало к Кальвайту.
– С женщиной еще все обошлось бы, – сказал Кальвайт, – потому что у нее дети и муж на фронте. Но поляку это так не пройдет.
Штепутату пришлось оставить свинью висеть на лестнице и идти на хутор спасать, что еще можно было спасти. Они задержались на дворе Беренда довольно долго. Эльза плакала. Кальвайт принял суровый официальный вид и размахивал в воздухе листком бумаги. Да, она на самом деле зарезала перед Рождеством трехцентнерную свинью, хотя ее квота на пропитание семьи на 1943 год была уже исчерпана. Почти половина этих трех центнеров ушла в Растенбург в обмен на материал на платья и вельветовые штаны для детей. Штепутат прикидывал, как можно было бы уладить дело, причем так, чтобы и Кальвайт мог записать в бумаги разумный довод. Если бы свинья была зарезана после 31 декабря, тогда не было бы никаких возражений. Конечно, это подтвердил и Кальвайт. Потому что, само собой разумеется, Эльзе Беренд и на 1944 год полагается свинья на пропитание. Значит, оставалось только превратить свинью, убитую на Рождество 1943 года, в свинью 1944 года. Смотря по обстоятельствам, могло случиться так, что свинью 44 года пришлось убить еще в старом году. Но Кальвайту необходимо точно знать эти обстоятельства, ему нужно занести их в документ, ясно же. Вот можно, например, сказать, что в начале января 44-го намечалось молотить хлеб. А молотьба крайне важна для немецкого народа! Тот, кто собирается молотить, не может отвлекаться на забой свиньи. Поэтому пришлось борову умереть еще до молотьбы, в старом году. Да, это пойдет, это звучало убедительно и для Кальвайта.
Поляк Станислав прислушивался к разговору издалека. Когда он сообразил, о чем речь, ему стало ясно, что всю эту кашу заварила Катинка. Станислав попятился в хлев. Он прошлепал мимо лошадей, свиного закута, поднял, проходя, сломанную рукоятку от вил, валявшуюся в углу. С дубинкой в руке он добрался до коровника и обнаружил в конце хлева Катинку, поившую телят. Станислав продолжал двигаться тихо. Оказавшись позади Катинки, он бросился на нее, положил себе на колено, поднял юбку и стал бить сломанной рукояткой от вил. Она не закричала. Она вцепилась зубами в его бедро. Обхватила его ногу, повернулась перед ним на колени, залезла головой между его ногами. Она держала его крепко и не отпускала. Он бросил дубинку, потащил ее на овсяную солому, приготовленную на корм коровам, упал на нее, скрыл ее всю под собой. Коровы спокойно лежали и безучастно смотрели на солому, в которой барахтались Катинка и Станислав.
В конце февраля Штепутата прихватил такой сильный прострел, что ему пришлось на время лечь в кровать. Он лежал, обмотанный тряпкой, на горячей картошке, которую Марта меняла каждый час. В эти дни лесник Вин развозил на санях поместья заказанные дрова.
– Я пришлю тебе пару русских, они распилят и расколют, – сказал камергер Микотайт.
В воскресенье утром пришли четверо пленных. Двое несли топор, самый маленький тащил на плече длинную пилу. Они подошли и встали у двери дома Штепутата. Штепутат приковылял на костыле и показал им работу. Герман смотрел из окна, как русские принялись за штепутатовы чурки. Поленья так и разлетались.
– Выглядят как разумные люди, – заметил мазур Хайнрих.
Ничего удивительного, Микотайт наверняка прислал самых лучших.
Вскоре Герману стало скучно сидеть на подоконнике. Он вышел на двор и остановился на приличном расстоянии, чтобы на него не летели буковые поленья. Один из них что-то крикнул. Звучало как: "Ну что, малыш, хочешь нам помогать?" По-русски, конечно.
Герман засмеялся. Один, с бородой, так клал полено на чурбан, что оно после удара топором летело, кувыркаясь, в воздух. Он повторил это несколько раз. Каждый раз, когда полено взлетало над головами почти до крыши дома, он кричал: "Бум... бум... бум!" Ага, это он изображал, как сбивать деревянные самолеты.
На завтрак Марта позвала русских за кухонный стол. Они смущенно стояли в передней, продолжая скрести свои потрепанные сапоги. Марте пришлось несколько раз приглашать их сесть за стол. Они сидели молча и смотрели, как Марта у кухонной плиты разливает кофе. Свежий домашний хлеб, масло, колбаса, даже стакан меда от штепутатовых пчел, и сколько угодно топленого сала и жира. Чего только душа желает. Ну, начали! Герман стоял поблизости. Маленький, улыбаясь, протянул ему под нос тарелку с хлебом и колбасой. Герман покачал головой – он не хотел есть то, что предназначалось для пленных. "Жуют, как нормальные люди", думал Герман. Может быть, с б*льшим аппетитом.
Бородатый обжег горячим кофе губы. Он ругался точно так же, как ругался, уколовшись иголкой, мазур Хайнрих. А остальные смеялись над бородатым.
"Они совсем не такие, какими описывают русских", – думалось Герману. Трудно представить, как можно стрелять в таких людей. Вблизи все выглядит гораздо человечнее. Какие-то чуждые идеи приводят к тому, что люди убивают людей. Идеи делают мир злым.
Русские запалили свои самодельные папиросы, предварительно спросив у Марты, можно ли курить. Вонь была сильнее, чем после Хайнрихова самосада. Марта принесла еще бутербродов и свежего кофе. Один что-то рассказывал, и когда он говорил, все четверо поглядывали на Германа. Он наверняка говорил о каком-то маленьком мальчике, которому тоже девять лет и который живет где-нибудь в степи или на Урале. Ах, нужно бы чаще садиться вместе и есть хлеб с колбасой за отскобленными кухонными столами. Близость так хороша.
Марта подозвала Германа к себе.
– Не подходи так близко, – прошептала она. Да, да, Марта Штепутат все время боялась. Может быть, вшей, может быть, заразных болезней. И ведь Микотайт наверняка прислал к Штепутату самых чистых, самых аккуратных, самых надежных. Все равно, когда пленные опять отправились на работу, Марта скребла стол и стулья тщательнее, чем обычно. К обеду расколотые дрова были сложены за сараем. Штепутат дал каждому по новой марке, Марта выделила твердую копченую колбасу, которую маленький аккуратно спрятал под шинелью.
Дети принадлежали родителям до десяти лет, потом великий Ваал призывал их на жертву. Герману удалось сократить этот срок до девяти лет. С тех пор как группа гитлеровской молодежи с песней "Бурный горный поток" прошла через Йокенен, разбила лагерь на лугах за прудом, ночевала в палатках, варила на костре картофельный суп, а днем устроила в парке спартакиаду, Герман уже не знал покоя. Двадцатого апреля 1944 года фюрер принял его как подарок на день рождения. Ввиду военной обстановки вся Германия в этот праздничный день работала, и только детей отпустили из школы для принесения присяги фюреру.
Как Герману пришлось уговаривать Петера, чтобы он наконец согласился пойти вместе с ним! Петеру-то уже давно исполнилось одиннадцать, но на дудочку Крысолова он еще не попался. В Йокенен все-таки не воспринимали все это всерьез. На собственный отряд гитлеровской молодежи в деревне было недостаточно гитлеровской детворы, но в общем-то хватило бы на маленькое звено. Но не было никого на должность вожатого йокенских коричневых рубашек. Герман спал и видел, что в один прекрасный день он станет председателем совета округа Северный Растенбург, может быть, году в 1950-м или 1952-м.
Марта задолго до 20 апреля поехала в Дренгфурт, раздобыла без карточек и талонов черные штаны и коричневую рубашку. Только с портупеей ничего не получилось, их не было нигде. Фюрер показал свою широкую натуру по отношению к бедным и военным сиротам: Петер получил форму Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии даром.
– Да, это хорошие люди, – сказал Петер и согласился раз в неделю отдавать два часа своей свободы на занятия.
Торжественный прием в Союз гитлеровской молодежи в день рождения фюрера. Они поехали – вдвоем на штепутатовом велосипеде – в Дренгфурт в актовый зал большой школы. Город на реке Омет был в этот день во власти маленьких коричневых рубашек дружины Северный Растенбург. Жарко было в этот день в апреле 1944 года, и в трактире "Кронпринц" бойко торговали льдом с лимоном по гривеннику за стакан. Флаги со свастикой вяло свисали из окон. Перед каменными плитами парадного подъезда школы стояли четырнадцатилетние с флагами и знаменами. Лица без улыбок. Исполненные решимости. Стоять смирно! Смотреть прямо перед собой! Знамя это наша жизнь!
Еще не подошло время присяги, а Петер уже испачкал коричневую рубашку соком лимона. О Боже, такое могло случиться только с Петером! Впрочем, Петер, нисколько не расстроившись, с наслаждением высасывал сладкий сок из рукава рубашки. В актовом зале флагов, как в день провозглашения кайзера. На фоне резкого красного цвета полотнищ строгие глаза фюрера смотрят на длинные ряды скамеек. Под портретом фюрера украшенная венками трибуна, тоже окруженная застывшими как камень знаменосцами. Немецкая молодежь! Фюрер призывает вас! Германия нуждается в вас! Вы – будущее страны! Вожатый выкрикивал свою речь в лесу знамен. Петер продолжал растирать мокрое пятно на рукаве. Когда он шел к присяге, пятно было почти совсем сухое и ускользнуло от строгих глаз фюрера. Вытянуть руку вперед. Крепкое рукопожатие. Взгляд прямо в глаза. Хайль Гитлер. Теперь они принадлежат фюреру. Заключительное пение хором:
Дрожат замшелые кости
Всех стран перед новой войной.
А мы разорвали оковы
И стали великой страной.
По старого мира развалинам
Мы двинемся маршем своим.
Сегодня нас слышит Германия,
А завтра услышит весь мир.
И наконец песня о Германии: От Мааса до самого Мемеля... Выше знамя... Мальчики у трибуны на самом деле рванули свои знамена вверх.
На школьном дворе дымила полевая кухня. Женщины из Национал-Социалистического Женского Союза раздавали колбаски. Петер был в восторге: "Они и пожрать дают", – зашептал он Герману и толкнул его в бок.
Но все было не так просто. Прежде чем они добрались до колбасы, их остановил загремевший на весь двор голос вожатого. Что это за цыганский табор? Всем построиться. Смир-рно! Смотреть вперед! Будущее Германии стояло на школьном дворе, вытянувшись в одну слегка волнистую линию. Вожатый прошел по всему фронту, наступая на вылезающие носки, убирая животы и выпрямляя грудные клетки. Вот так, а теперь в строгом порядке к полевой кухне.
– Юный гитлеровец Штепутат просит разрешения получить еду!
И не бегать, как дикие, с колбасой по всему двору. Это не ярмарка. Образовать кружок. Стоять чинно вместе. После этого разобраться в три шеренги. Строем по городу с оркестром сапожников впереди. Вот это был праздник! Мы двинемся маршем победным! Умрем за фюрера! За Германию. Энтузиазму не было конца.
Каждую среду после обеда в Йокенен приходил вожатый из Баумгартена. Политзанятия проходили под большой дикой грушей за парком.
– Когда родился наш вождь Адольф Гитлер?
– Как долго был наш фюрер в заключении в крепости? (Нужно было знать с точностью до месяца.) – Когда партия взяла власть?
История партии была основой воспитания. Кроме того, вожатый позаботился, чтобы на йокенском выгоне вырыли яму для прыжков в длину (Герман в первой попытке прыгнул на три метра). Со склада гитлеровской молодежи он получил секундомер, с помощью которого выяснилось, что Петер пробегает сто метров быстрее всех в Йокенен. После занятий гитлеровская детвора Йокенен маршировала по деревне с песнями "Там вдали под Седаном" или "Погрузив все богатства Востока". Вожатый с портупеей и походным ножом шел сбоку, следил, чтобы шагали в ногу и держались прямо. Кто бы ни проходил мимо – дядя Франц, поляк Антон или старый коммунист Зайдлер, – вожатый вскидывал руку в немецком салюте и провозглашал здравицу фюреру: "Хайль Гитлер!". Только Петер довольно скоро навлек на себя гнев вожатого, потому что его форма пришла в полную негодность. Не удивительно – он в почетном облачении фюрера ходил и чистить кроличьи клетки, и ловить рыбу в пруду. В глубине души Петер рассчитывал, что фюрер пришлет ему новую форму.