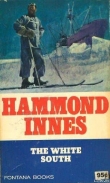Текст книги "Плавучая станица"
Автор книги: Антон Данилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Тогда секретарь обкома (в его кабинете, как в штабе фронта, сходились десятки телефонных проводов и круглосуточно принимались сотни оперативных сводок и донесений) предложил на заседании бюро бросить в поле весь автомобильный парк города.
И по дорогам помчались тысячи новых трехтонок, полуторок, «пикапов». В степь выехали шоферы различных городских учреждений: трестов, банков, магазинов, складов, типографий, фабрик.
Караваны железных барж, плашкоуты и паузки один за другим подходили к речным элеваторам, а составы крытых товарных вагонов – к степным, и бесконечным шумным зернопадом сыпалась в баржи и вагоны пахучая пшеница.
В поле соревновались бригады, колхозы, районы, области, республики. Весь Советский Союз убирал хлеб.
Груня не поднималась к голубому небу на стратостате, но с каждым днем крепла ее вера в свободный труд объединенных людей, и с того степного холма, на котором она работала, ей видно было все, что делалось вокруг.
Теперь она уже не жалела о том, что рыбаков оторвали от строительства завода. Захар Петрович Бугров дал слово Антропову, что по окончании уборки колхозники помогут рыбакам достроить завод.
На седьмые сутки Голубовский полеводческий колхоз закончил уборку колосовых и сдал государству весь причитающийся с него хлеб. А еще через три дня секретарь райкома Назаров послал в обком молнию о том, что район завершил хлебопоставки и сдает зерно сверх плана.
Глава шестая
1
В конце лета в придонских садах налился и созрел виноград. Подвязанные к высоким жердевым подпорам, в два человеческих роста, высились виноградные кусты, и на них, под сенью разлапистых листьев, тронутые сизой паутиной, висели, роняя тонкие нити сока, тяжелые, липкие кисти. Точно сгущенный в пахучих ягодах солнечный луч, просвечивал светлой желтизной ладанный виноград – гордость донских садоводов; налитый алым соком, багровел красностоп золотовский; затянутый матовой дымкой, изумрудом красовался продолговатый пухляк; лиловели крупные, с туманным налетом, ягоды венгерских, молдавских, французских лоз: их в стародавние времена, приторочив тонкие чубуки к седельным саквам, привезли на Донщину казаки платовских полков; ярким воском светился шампанчик, крупными сливами свисал, оттягивая лозы, красный с голубизной желудевый; поблескивал из-под листьев иссиня-черный сильняк.
За пристанью, на крутом яру, там, где белели цехи Голубовского винпункта, в шесть этажей выстроились шеренги стоведерных бочек. Как железо, звенели их стянутые крепкими обручами дубовые клепки, а рука винодела уже чертила на темных днищах новые цифры. Из распахнутых настежь двустворчатых дверей слышалось журчание текущего в чаны сока, и над берегом стоял запах молодого вина.
Веселые девчата с утра до ночи резали виноград, накладывали в плетенные из талы корзины и на быках отвозили в винпункт. Девчата пробовали там вино разных сортов и потому, возвращаясь в сады, ладно пели казачьи песни и хохотали.
Впрочем, вино пробовали не только девчата: колхозники, рыбаки, шлюзовые рабочие, лесники привозили на винпункт свой, выращенный на усадьбах виноград, и улыбающийся винодел Нестор Антоныч, флегматичный казак с красным носом, сразу выдававшим его профессию, радушно угощал клиентов молодым вином. Каждый пил с непьянеющим Антонычем, и каждый уходил от него, слегка покачиваясь и напевая первую пришедшую на ум песню.
Как раз в эти дни голубовские рыбаки закончили строительство рыбоводного завода. Грунина мечта наконец сбылась: на высоком берегу реки стоял высокий, крытый белым этернитом дом, и в его окнах, отражая лучи солнца, радужно светились разноцветные стекла.
На открытие завода приехали низовые и верховые рыбаки, представители Рыбвода, Рыбаксоюза, районных партийных организаций, соседних полеводческих колхозов. Люди ходили по усыпанным песком дорожкам, осматривали бетонированные бассейны, деревянные садки для рыбы, рыбоводные аппараты.
После короткого митинга хозяева и гости разделились на группы и заговорили о своих делах. Не имея возможности поговорить с Груней, окруженной толпой девчат, Василий бесцельно побродил по двору и подошел к сидевшим на бревне рыбакам, которые слушали Архипа Ивановича Антропова.
Одетый в чистую, пахнущую нафталином рубашку и черный пиджак, Архип Иванович вытирал платком вспотевшее лицо и говорил глуховато:
– Вот гляжу я на этот завод и вспоминаю, как в царское время мы хозяйновали на реке. Я тогда в гирлах ловил, годов пять рыбалил в ватаге у Яшки Валухи.
– У того самого Яшки? – спросил дед Малявочка.
– У того самого. Яшку по всей реке знали, он потом стал первым среди крутьков.
– И его, кажись, убили?
– Полковник Шаров поймал его, привязал канатом до столба и посек с пулемета. Сорок восемь пуль всадили в Яшку шаровские пихрецы. Мы после считали. Так и пропал Яшка Валух…
Архип Иванович, покашливая, затянулся махорочным дымом:
– Ну, так вот. Ходила наша ватага по всем гирлам, а рыбу у нас забирал Митронька Данилов. Богатейший был прасол. Говорят, у него сто тысяч золотом захоронено было. Наша ватага плавала на Митронькиных дубах, ловила его неводами, а он драл с нас три шкуры, копейки за рыбу платил. И вот, как сейчас помню, одной весной здорово селедка пошла. Цельными горами выгребали мы ее на берег, наловили столько, что Данилов уже не успевал эту селедку засолить, потому что тары у него не хватало и соли не было. Так вы думаете, он пропустил хоть одну паршивую сельдь в верховья? Ни одной! «Ловите, – говорит он нам, – и в песок зарывайте, нехай лучше сгниет в песке, чем верховым прасолам достанется, а то собьют, говорит, цену, и я только потеряю на этом деле».
– Так и зарывали? – спросил молодой рыбак.
– Так и зарывали, – махнул рукой Архип Иванович. – Вывалим ее с баркасов, притрусим песком, она и гниет… На всех ериках, помню, дурной запах всю весну стоял. Зато Митронька Данилов хватил на проданной селедке пятнадцать чи двадцать тысяч и цену свою на базаре удержал… Вот так и хозяйновали в ту пору наши рыбаки.
– То время уже не вернется, Архип Иванович, – серьезно сказал Степан Худяков.
– Да, Степа, не вернется, – кивнул Антропов, – оно утекло каламутной водой…
Василий, покуривая, слушал рыбаков, и в душе его все больше росло ощущение важности того, что произошло на берегу. Построенный голубовцами рыбоводный завод был только частицей того нового, что все более властно входило в жизнь станицы. Даже в старых рыбаках Василий заметил важную перемену: они уже говорили не только о лове, но и о разведении рыбы, о нерестово-выростных площадях, о спасении рыбной молоди. «Это уже совсем другие люди, – думал Василий, – теперь никто из них не зароет в песок сотни тонн сельди и не устрашится конкуренции, они все делают большое общее дело и с каждым днем лучше и лучше работают…»
Только вечером, когда разъехались прибывшие на открытие завода гости, Василий и Груня остались одни. Они засмеялись, взглянув на дремлющего на пороге сторожа – инвалида Игнатьевича, обнялись и пошли между деревьями.
На виноградниках, за пахнущим свежей сосной забором, пели девчата. Их звонкие голоса неслись над заалевшей вечерней рекой. Две старухи внизу, под яром, перебраниваясь, носили на коромыслах воду и поливали зеленеющие в лунках кочаны поздней капусты. Вспорхнула в кустах желтая иволга. Над садами, сверкая лазурным оперением, пролетела сизоворонка. На ветвях раскидистых старых яблонь, чуть заметная, трепетала паутина – первый знак близкой осени.
– Ну как, Груня, довольна? – спросил Василий.
– Довольна, Вася! – ответила девушка. – Теперь мы начнем работать по-настоящему.
Она, скосив глаза, взглянула на него и спросила неожиданно:
– А ты будешь меня любить?
Василий привлек ее ближе к себе:
– За что ж тебя любить?
Не говоря ни слова, он стал целовать Груню, а она, подчиняясь его ласке, прижалась к нему и улыбалась счастливо, думая о нем, о себе – обо всем, что произошло в последние месяцы в станице, и хотя ничего особенного как будто не произошло, но Груня знала, что и этот рыбоводный завод, и то, что на степных холмах работали партии геологов, гидротехников, землемеров, и в особенности приезд Василия Зубова – все это входило в ее, Грунину, судьбу чем-то неизведанно-радостным и заставляло жить по-новому.
– Знаешь, Вася, – исподлобья поглядывая на Зубова, сказала Груня, – в станице все говорят, что мы с тобой поженимся.
– Правда? – засмеялся Василий. – Кто ж говорит?
– Да все! Куда ни пойдешь, каждый одно знай спрашивает: когда, мол, будем на свадьбе гулять? Ехала я со шлюзовскими ребятами на Пески, так Егор Талалаев пристал, скоро ли, дескать, вы с инспектором поженитесь? Говорит, а сам ребятам подмаргивает. А на Песках твоя хозяйка Марфа разговор со мной завела: «Вы, говорит, Груня, должно быть, моего квартиранта к себе заберете?»
– Так и сказала?
– Так и сказала.
– Еще что Марфа говорила? – поинтересовался Василий.
– Больше ничего не говорила. Сказала только, что ты хороший человек и любишь меня…
Поглаживая Грунину руку, Василий сказал:
– А знаешь, Илья Афанасьевич тоже называет тебя моей невестой.
– Правда?
– Честное слово. Разговаривал со мной недавно и сказал: «Я сегодня встретил вашу невесту».
Он засмеялся, но потом вдруг стал серьезным и сказал тихо:
– Грунечка, а ты бы согласилась быть моей женой?
Груня, освободив руку, помолчала, разглядывая тронутый желтизной яблоневый листок.
– Ты мне нравишься, Вася, – сказала она. – Но знаешь что? Давай подождем немного.
– Зачем же нам ждать?
– Пройдет время, мы лучше узнаем друг друга.
– А разве мы сейчас не знаем?
– Знаем, конечно, но все-таки… Объясняй потом, что не сошлись характерами… Я этого не хочу.
– Я тоже не хочу.
– Вот видишь, – обрадовалась Груня, – значит, нам надо подождать…
– Долго ли? – усмехнулся Василий.
Груня, краснея, легонько ударила его по руке:
– Ну, хотя бы… до зимы…
Он проводил ее домой, а когда они простились, Груня остановилась у калитки, подождала, пока Василий свернул в переулок, и пошла на остров, откуда доносилась протяжная песня девчат. По голосам Груня узнала Иру и Асю, и ей захотелось посидеть с подругами.
Вечерело. По высохшему, заросшему бурьяном руслу речушки брели телята. В мелких, густо покрытых зеленой ряской лужицах копошились утки. За молодой вербовой рощей сверкали огоньки стоявшего у пристани парохода. Во дворах, у жарких, чисто выбеленных печей хлопотали женщины. Оттуда тянуло горьковатым дымком. А с острова, из-за высоких, неумолчно шелестящих тополей, плыла тихая девичья песня.
Все это с детства было знакомо Груне: и мерцающие на реке огоньки, и кряканье уток под бурым глинистым яром, и запах дымка на станичных улицах. Но сегодня она как будто впервые увидела погруженное в синие предвечерние тени надречье и, удивляясь этому, вдруг поняла, что в ней самой что-то изменилось, стало не таким, как было раньше.
На лесную поляну, туда, где сидели девушки, Груня подошла медленно, сунув руки в карманы старенького синего жакетика, усталая и счастливая.
– Девчата, пропажа нашлась! – взвизгнула Ира.
Сидевшие тесным полукругом девушки зашевелились.
– Садись, Грунечка! – заторопили они наперебой.
– Вот самое лучшее местечко, под тополем!
– Садись, рассказывай, как он тебя голубил!
Подобрав кружевные подолы праздничных юбок, девушки расселись, давая место Груне, и она, все так же устало и счастливо улыбаясь, прилегла на примятую, остро пахнущую траву, сняла тесные тапочки и в блаженстве вытянула ноги.
– Ну, рассказывай, Грунечка! – нетерпеливо затеребила ее Ира.
– Что рассказывать? – засмеялась Груня.
– Чего он тебе говорил?
– Кто?
Ира всплеснула руками:
– Поглядите на нее! Вроде она ничего не знает!
– Ай-ай, Груня, как не стыдно! – отозвался кто-то из девчат.
– Признавайся, чего у вас там было!
– Небось про свадьбу уже говорили?
«Откуда они знают?» – удивилась Груня. Она положила голову на колени молча улыбающейся Асе и сказала тихо:
– Говорили…
– Ой ты-ы-ы! – с восторженным удивлением вскрикнула Ира. – Когда же свадьба, Грунечка?
– Зимой, – отозвалась Груня.
Ира разочарованно махнула рукой:
– Тю на тебя! Чего ж дожидаться зимы! Самый бы раз осенью свадьбу играть: виноград поспеет, люди вина надавят, яблок будут целые горы, мед откачают…
Груня ничего не ответила, и девушки, поняв, что ей, должно быть, не хочется говорить, сразу притихли. Только Ася, ласково поглаживая Грунины волосы, обронила тихо:
– Это все равно, что осенью, что зимой, что летом… лишь бы жили хорошо и понимали один другого…
Прижавшись горячей щекой к плечу Груни, Ира заговорила с хитроватой усмешкой:
– А ты переменилась, Грунечка. То, бывало, днем и ночью со своим дурацким ружьем по лесам да по озерам бегала, а теперь, видать, твое ружье заржавело и тебе на него глядеть неохота. С чего бы это такая перемена, а, Грунечка?
«В самом деле, – подумала Груня, – Ира правду говорит. Какая-то я другая стала…»
– Еще, чего доброго, совсем тихоней сделаешься, – не умолкала Ира, – хотя бы на улицу по вечерам выходила, а то все дома и дома…
«Нет, правда, что ж такое случилось? – сжимая руку подруги, думала Груня. – Отчего у меня по-другому все получается? Ведь есть же все-таки причина…»
И мысли Груни, независимо от ее желания, снова и снова возвращались к Василию.
Она вспомнила все, что увлекло ее и заставило забросить ружье и веселые прогулки по займищу: появление прозрачных живых рыбьих личинок в старом амбаре; запах свежей сосны и ласковый блеск цветного стекла на только что построенном заводе; горящие глаза и крепкие руки Василия, когда он, держа острый скальпель, добывал волшебные белые крупинки, которые, умирая, вызывали появление множества новых жизней.
Да, это было то новое, веселое, живое, что пришло в станицу и привлекло Груню своей покоряюще-светлой силой. Конечно, оно, это новое, пришло бы и без Василия, как приходит теплая, многородящая весна, но то, что именно Василий повел Груню за собой и показал ей и другим, что и как надо делать, было особенно радостным…
– Ну, чего ж ты молчишь, Грунечка? – опять всплеснула руками Ира. – Признавайся, чего там у тебя случилось? Почему ты стала такая, вроде тебя подменили?
Между темными стволами деревьев багряно засветилась большая луна. Легким холодом потянуло от реки, терпко запахли тронутые росой чуть присохшие травы.
– Нет, девчата, никто меня не подменил, – тихо сказала Груня, – я какой была, такой и осталась. Только в жизнь мою вошло то, чего я ждала, а понять не умела…
Она помолчала и добавила еще тише:
– Он показал мне, куда надо идти, и я пошла за ним…
Ася обняла ее в темноте, щекотнула волосами щеку:
– Он хороший парень, настоящий…
Притихшие девчата поднялись, отряхнули с юбок траву и, обнявшись, пошли по испещренной лунными пятнами лесной дороге.
– Начинай, Ирочка, нашу любимую, – сказала Ася.
Маленькая Ира, отделившись, запела так, как поют птицы, слегка запрокинув голову и чуть прикрыв глаза:
Как да вече-е-ерней порой туман поднимается…
И девушки подхватили, сжав друг другу руки:
Как да вечерней порой туман поднимается,
Ой да как и утренней порой туман расстилается,
Ой да как повадился лебедь по ночам летать,
По ночам летать, по зорям кричать…
Где-то на улице запели парни, их сильные голоса, словно перекликаясь с нежными девичьими, взмыли к звездному небу, и сжимающая сердце, повторенная звонкими откликами леса, полетела казачья песня над золотыми лунными озерами, над притихшей в ночном безмолвии степью…
Открыв окно, высунулся и замер на подоконнике старый Щетинин.
А сидевший на приступке дед Малявочка горделиво покачал седой головой:
– Поет станица…
2
Изыскательские партии, работавшие на степном левобережье и на пойме, в междуречье, установили за станицей палатки и там жили, чтобы не отдаляться от своих участков. Но количество рабочих в различных партиях и отрядах с каждым днем все увеличивалось, и потому часть людей переселилась в Голубовскую, сняв квартиры у колхозников и рыбаков.
По вечерам, когда усталые геологи и гидротехники возвращались в станицу, голубовцы собирались вокруг них и задавали бесконечные вопросы о строительстве, которое началось в верховьях реки. Больше всего голубовцев беспокоили неясные разговоры о том, что будущие гидросооружения настолько изменят водный режим реки, что береговым жителям придется переходить к другим видам хозяйства.
Разговоры были разные: кто-то слышал о том, что уровень воды в реке поднимется якобы метров на десять, и потому все прибрежные станицы и хутора будут затоплены, а жителей переселят на донецкие высоты; кое-кто, наоборот, утверждал, что проложенный между двумя реками канал приведет к обмелению русла; одни говорили, что теперь навсегда исчезнет рыба и пропадут веками растущие на заливных местах виноградники; другие радовались тому, что река станет одной из главных водных трасс страны.
Василий Зубов знал о строительстве больше других, так как профессор Щетинин в связи с предстоящим зарегулированием стока реки разрабатывал мероприятия по рыбному хозяйству и потому постоянно консультировался с инженерами-строителями. Вечерами, сидя на крыльце правления рыбколхоза, Щетинин рассказывал рыбакам о гигантском водохранилище, которое будет сооружено выше плотины, о системе гидроузлов, о судоходных шлюзах, об ирригационных каналах.
– Река станет жить иной жизнью, – задумчиво говорил профессор, пыхтя прокуренным мундштуком, – изменятся ближние береговые пейзажи, и даже самые глубинные степные районы нам трудно будет узнать.
Он развертывал на коленях исчерченную цветными карандашами карту и, помолчав, продолжал:
– Через какой-нибудь десяток лет мы вообще не узнаем нашей области. В самые засушливые районы из нового, созданного нами моря потечет по каналам вода. Взгляните сюда, на карту: тут сейчас видны только пятна солонцов с черной полынью. Кроме типчака, мхов да лишайников, в этой засушливой степи ничего нет. Вода принесет сюда жизнь. Мощные тракторы поднимут п-пласты непаханой целины. На м-мертвых солонцах зазеленеют сады, заколосится пшеница… В-высокие лесополосы оградят новые поля от суховея. П-по всей степи заблестят пруды, т-тысячи прудов. Это изменит не только пейзаж, но и климат: он станет более мягким и влажным…
Дымя махорочными скрутками, рыбаки слушали Щетинина, а он, загораясь, хмуря седые брови, говорил вдохновенно:
– Это не сказка, не фантазия. И нам, рыбникам, надо по-настоящему приготовиться к новой жизни реки. А это не так п-просто, как представляется на п-первый взгляд. Во-первых, сооружаемая на среднем участке реки новая плотина навеки п-преградит путь к нерестилищам б-белуге, рыбцу и другим рыбам. Значит, мы должны вмешаться в их судьбу и обеспечить их размножение. Во-вторых, зарегулирование весеннего паводкового стока резко изменит гидрологический режим реки и уменьшит вынос пресной воды в залив. Это п-повысит соленость Азовского моря и, конечно, изменит условия развития п-полупроходных рыб. В-третьих, у нас навсегда прекратятся паводки, и, значит, займища наши останутся б-без воды. А залитые займища – это п-постоянные нерестилища сазана, леща, судака, то есть самых важных промысловых пород. Кроме того, вода постоянно уносила с плодородных займищ в море множество необходимых для питания рыбы органических веществ. Теперь этого не будет. 3-значит, перед нами стоят задачи п-перестроить все рыбное хозяйство реки в соответствии с новыми условиями.
– Нелегкое это дело! – покачивали головами рыбаки.
– Шутка ли сказать – по всей реке рыбу зачать перевоспитывать!
Архип Иванович, вслушиваясь в отрывистые разговоры рыбаков, говорил негромко:
– А как же колхозники кур выращивают или же, к примеру сказать, новый сорт пшеницы выводят, а теперь лесополосы садят на тысячи километров?
– Тут, Иваныч, другое дело, – хмурился дед Малявочка. – Колхозник этого курчонка сам с инкубатора вынимает, на руках его держит, глядит на его и каждое перышко на нем видит. Обратно же и с зерном и с деревом так: ты его могёшь пощупать, качество его определить, наблюдение за ним вести. А с рыбой как? Она ить под водой ходит, и ее не проверишь, навроде курчонка или дубового саженца. Рыба глазу твоему не дается и в руки до тебя не идет. Это, брат Иваныч, не телочка.
– Мы не пробовали с рыбой хозяйновать, потому и тревожимся загодя, – настаивал Архип Иванович, – а ежели наш рыбак за дело возьмется и ученые путь ему укажут, так же как наш товарищ Лысенко полеводам дорожку определяет, то ничего страшного не будет, управимся…
– Это правильно, – кивал головой Щетинин, – мы в ближайшее время рассмотрим вопрос о рыбопропускных сооружениях на плотинах, заведем свою рыбохозяйственную гидроавиацию и будем п-перебрасывать п-производителей на самолетах… Около п-плотины мы построим одну рыбоводную станцию, в д-дельте – вторую… Установим тысячи аппаратов и начнем инкубировать миллиарды икринок. Соорудим д-десятки выростных прудов и организуем свои рыбхозы. Все это в наших руках, а п-правительство пойдет нам навстречу и даст все, что нужно.
В темноте лениво зудели комары. Сидевшие вокруг крыльца люди слушали стариковский голос Щетинина, старались представить то, что будет на реке, но представить это было очень трудно, потому что никто не знал, как можно пересилить природу, поломать установленные веками законы рыбного хозяйства и построить его по– новому.
Кое-кому казалось, что это новое не пойдет дальше разговоров и совещаний, но оно властно заявляло о себе караванами загруженных лесом барж, брезентовыми палатками появившихся на займище гидротехников, деревянными бараками, которые выросли на среднем участке реки, строительством рыбоводного завода в Голубовской – всем тем, что пришло в станицу после войны и потребовало беспокойства, внимания и заботы.
Почти все рыбаки начали понимать, что старому приходит конец и что надо искать пути к новому. Но были в станице и такие, как Егор Талалаев, который привык к легкой наживе на реке и не хотел думать ни о чем.
Ночная удача на излучине окрылила Егора: рыбу, которую он поймал, Анисья частями увозила с хутора Атаманского в город и продавала на базаре. На вырученные ею деньги Егор справил себе кожаное пальто и сапоги, а рыжий Трифон купил баян и заказал в городском ателье модный, цвета беж, костюм. Анисье за ее хлопоты Егор подарил пятьсот рублей, и она купила шелку на платье и прозрачные, «стеклянные» чулки, которые и надевала по воскресеньям.
После такой удачи Егор Талалаев решил повторись лов и выпросил у начальника шлюза быков, якобы для того, чтобы перевезти оставшееся на займище сено. Трифон обратился с такой же просьбой к заведующему сельпо, и тот разрешил взять пару быков и арбу. Парни сговорились ловить в ночь под воскресенье, зная, что молодежь по субботам смотрит в клубе кино, а старики пораньше укладываются спать.
Егор предпринял попытку привлечь к лову Пимена Гавриловича, но тот, к удивлению племянника, не только наотрез отказался ехать на Лучковую, но и сказал с явной угрозой в голосе:
– Гляди, дружок, ты до чего-нибудь доскачешься. Зачнешь тогда локти себе кусать, да поздно будет!
– Ничего мне не будет до самой смерти! – тряхнул головой Егор.
– Ну, гляди, гляди…
– А чего?
– Ничего, – отрезал Пимен Гаврилович. – Ты знаешь, кто до Зубова в помощники идет заместо Прохорова?
– Кто же?
– Этот, брат, не станет ушами хлопать, как Иван Никанорыч. Он день и ночь на реке пропадает и живет в лесу.
– Да кто ж такой? – насторожился Егор.
– Тезка твой, Егор Иванович, охотник.
– Правда?
Пимен Гаврилович пожал плечами:
– Разговор такой по станице идет, будто Зубов до себя Егора Иваныча приглашает и Егор вроде согласие дает. «Я, говорит, этих голубовских волчков, как клопов поганых, в два счета выведу…»
Поглядывая на примолкшего племянника, Пимен Гаврилович сказал строго:
– Такой на самом деле спуску не даст. Он ведь каждый кустик тут знает, каждую косу на реке. От него не схоронишься. На войне он первым снайпером был и в разведку, говорят, ходил в самое пекло.
Помолчав немного, Пимен Гаврилович счел нужным добавить:
– А тебе, племяш, давно пора за ум взяться. Дюже уж ты разболтанный стал. Это до добра не доведет. И рыжий твой такой же. У него только девки да водка в голове.
– Ладно, дядя Пиша, – сухо сказал Егор, – я сам себе хозяин.
После встречи с Пименом Гавриловичем у Егора шевельнулась мысль о том, что предприятие на Лучковой тоне может закончиться плохо, но он был настолько уверен в себе, что решил не поддаваться беспокойной мысли.
Егор Талалаев не знал только одного: в пятницу его двоюродная сестра Анисья, угощая у себя на хуторе лесника Антона Белявского, Тосиного брата, проговорилась о том, что парни здорово подработали на рыбе и снова собираются ловить. Анисья была пьяна и рассказала веселому Антону, как Егор и его подручные сыпанули на излучине и как ей, Анисье, пришлось неделю подряд продавать в городе рыбу. Антон, не придавая этому большого значения, при встрече с Тосей похвастался тем, что Анисья угощала его портвейном, и не счел нужным скрывать от сестры, откуда Талалаевы добыли деньги. В тот же день, то есть в субботу, Тося рассказала об этом Зубову и сообщила, что в ночь под воскресенье на излучине готовится очередной браконьерский лов.
– Хорошо, – сказал Зубов, – на этот раз они от меня не уйдут.
– Глядите, Василь Кириллыч – предупредила Тося – брат говорит, что они берут с собой на баркас железные занозы от ярма.
– Ну и что? – спросил Василий.
– Как бы у вас там чего-нибудь худого не получилось, – заволновалась девушка. – Вы хоть людей побольше возьмите с собой. Вы ж знаете Егора – ему море по колено.
Василий внимательно посмотрел на Тосю.
– Ладно, Тосенька, – сказал он, – волков бояться – в лес не ходить. Вы только никому не говорите о нашем разговоре, а то ваши подруги растрезвонят это на всю станицу.
– Я никому не скажу, – пообещала Тося.
Когда она ушла, Зубов в раздражении прошелся по комнате. Вокруг горячего стекла коптящей лампы вились легкие бабочки, Витька постукивал в соседней комнате молотком. На подоконнике, сладко потягиваясь, мурлыкал рябой кот.
Василий открыл дверь и сказал Витьке:
– Сбегай, Витя, к мотористу и к Егору Ивановичу, пусть оба они сейчас придут сюда. Скажи – срочное, мол, дело и инспектор просит не задерживаться.
– А чего? Волчков ловить поедете?
– Каких там волчков! – с деланным равнодушием махнул рукой Зубов. – Мотор у нас в лодке барахлит, надо разобрать и поршни проверить.
Пока Витька бегал за Яшей и Егором Ивановичем, Зубов сидел у стола, положив голову на руки.
– Ах, сволочи! – сказал он в сердцах. – Ну, ничего, я у вас отобью охоту к грабежу, вы у меня сегодня попляшете!
Между тем Егор и Трифон, не зная о нависшей над ними угрозе, сидели у Анисьи на хуторе Атаманском и дожидались темноты. Поглядывая в окно на жующих сено быков, Егор молча пил водку и слушал, как Трифон поет под баян бесконечную песню про умершего в море кочегара.
О своей беседе с Антоном Белявским Анисья не сказала Егору, так как успела забыть о ней и не считала ее важной.
3
Тося Белявская тоже не сдержала слова, данного Зубову. Антон рассказал ей, что Егор и Трифон часто пьянствуют на хуторе Атаманском, и она, зная горячность Зубова, испугалась того, что он встретит яростное сопротивление пьяных парней. Не зная, как предотвратить неминуемую стычку на излучине, Тося побежала к Груне Прохоровой и, волнуясь, стала говорить о поездке Василия.
– Знаешь, Грунечка, – торопясь и глотая слова, сказала Тося, – я боюсь за Василия Кирилловича. Егор давно уже хвалился, что расправится с ним. Нужно что-то сделать, Грунечка, а то там получится такое…
– Они еще не уехали? – бледнея, спросила Груня.
– Кажись, уехали, только в другую сторону, куда-то за шлюз.
– Чего ж мы будем делать? – заволновалась Груня.
– Может, сбегаем до Архипа Ивановича?
– Его нет дома, они с Мосоловым в сетчиковой бригаде.
– Давай, Грунечка, возьмем в правлении дрожки и поедем туда!
– Куда?
– До Архипа Ивановича.
Едва успев накинуть на себя платок, Груня выбежала вслед за Тосей, и обе они прямо по огородам побежали к правлению. Растормошив дремавшего на лавке завхоза, они потребовали коня, запрягли его в дрожки и помчались на озера, где работала сетчиковая бригада деда Малявочки.
Опасения девушек были не напрасны. Собравшиеся у Анисьи парни к полуночи перепились и, еще не выезжая на лов, стали бахвалиться своей силой, ловкостью и молодечеством.
Слушая пьяное хвастовство брата и Егора, Семка Жучков только улыбался. На его глуповатом, заросшем отроческим пушком лице застыло выражение блаженной лени. Он не вмешивался ни в какие разговоры, за весь вечер не сказал ни слова и, умильно поглядывая на вспотевшую Анисью, отпивал из стакана смешанное с водкой мутноватое молодое вино.
– А ты чего молчишь, Семушка? – подмигивая Егору, спросила Анисья. – Иль ты только пить умеешь?
Пухлые щеки Семки зарозовели, он смущенно отодвинулся от пышущей жаром женщины и пробубнил невнятно:
– Мне чего? Мне чего скажут, я то и делаю…
Было уже близко к полуночи, когда Егор, ненадолго выйдя из хаты, вернулся и сказал коротко:
– Пора!
Проходя через темные сенцы, Егор нащупал в углу железный ломик, которым зимой сбивают лед на крыльце, и, потянув за рукав идущего впереди Семку, спросил шепотом:
– Инспектора Зубова знаешь?
– Который на моторке ездит? – обернулся Семка.
– Во-во!
– Знаю.
– Он-то и есть самая первая сволочь, – дыша в лицо Семке водочным перегаром, зашептал Егор. – Так гляди: ежели чего – задержи его, а то и приласкай маленько…
Ничего не ответив, Семка молча взял из рук Егора ломик и пошел вслед за другими к излучине. Когда Трифон разулся в темноте и, подвернув штаны, полез на баркас, Егор шепнул ему:
– Нехай Семка останется на берегу, а то ненароком кого-нибудь черт поднесет…
– Нехай останется.
Оттолкнув баркас от берега, Трифон с Егором начали выметывать невод. Семка постоял, послушал тихое плескание воды, потом отошел в сторону и уселся под вербой, не выпуская из рук потеплевший от ладоней ломик.
В это самое время, обойдя за огородами хутор Атаманский, Василий Зубов по вытоптанной скотом прибрежной тропке пробирался к излучине. На тоне Таловой он усадил в лодку Егора Ивановича, приказал Яше тихонько, не запуская мотора, на веслах идти вниз по реке, а сам, справедливо полагая, что браконьеры в случае опасности кинутся к левому берегу, пошел пешком, чтобы встретить их баркас.
Проплутав среди заросших лебедой бахчей, Василий выбрался на песчаную косу, остановился и услышал шум весел. Браконьерский баркас, уже освобожденный от невода, подходил к берегу. В десяти шагах от Василия стояли две пары быков, возле которых крутился их погоныч, невысокий парнишка в белеющей в темноте рубашке…