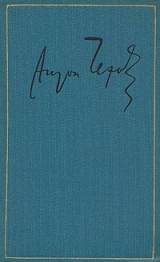
Текст книги "Том 18. Гимназическое. Стихотворения. Коллективное"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Посмотрел Роман на козака и спрашивает:
– А ты, козаче, часом «с глузду не съехал»? [29]29
«С глузду съехать» – сойти с ума. – Прим. В. Г. Короленко.
[Закрыть]
Не слыхал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.
– Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял!..
– Ну, – говорит ему Опанас, – ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Не умный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, прямиком пойдешь по лесу… Да поскорее сюда [ возвращайся].
– Добре, – говорит Роман. – Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медведя.
Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и подчивает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выпьешь – душа радуется, другую выпьешь – сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.
Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьет он из панских рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом черным поводит. Пан даже осердился.
– Вот же вражий сын, как здорово горелку хлещет, а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, еще усмехается…
Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек с горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.
– А с чего ж мне, – Роман ему отвечает, – плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы таки и начал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай лучше мои вороги плачут…
– Значит, – спрашивает пан, – ты доволен?
– Эге! А чем мне быть недовольным?
– А помнишь, как мы тебя канчуками сватали?
– Как-таки не помнить! Ото ж и говорю, что не умный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.
– Ладно, ладно, [ – пан ему говорит.– ] За то и ты мне услужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.
– А когда ж это пан нас на болото посылает? – спрашивает Роман.
– Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да и с богом.
Посмотрел Роман на него и говорит пану:
– [ Вот уж это и трудно:] пора не ранняя, до болота далеко, а еще вдобавок и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?
А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро буря», – и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами – все и стихли.
Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, [ с бандурой песни петь,] стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:
– [ Опомнись,] милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за птицей гонять?
Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он – вольный человек, козацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый козак-бандурист с Украины. Там, хлопче, люди что-то нашумели в городе Умани. Вот старому козаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот старик умер, – Опанас при дворе и вырос. Любил его новый пан, тоже и терпел от него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.
Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он козака ударит, а после говорит Опанасу:
– Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули…
[ Вот он какую загадал загадку! А козак-таки сразу и понял. И ответил козак пану песней. Ой, кабы и пан понял козацкую песню, то, может быть, его пани над ним не разливалась слезами.]
– Спасибо, пане, за науку, – сказал Опанас, – вот же я тебе за то спою, а ты слушай.
[ И ударил по струнам бандуры.
Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гоняет. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят.
И опять ударил по струнам бандуры.
Эй, хлопче,] не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему все и скажет; как темный бор в непогоду шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шепчет на высокой козацкой могиле.
Ой, пане, ой, Иване!..
Умный пан много знает…
Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает…
Ой, пане, ой, Иване!..
А того ж пан не знает,
Как на свете бывает, —
Что у гнезда и ворона ястреба побивает…
Плачет пани, плачет,
А над паном, над Иваном черный ворон крячет.
– Ну, а что же случилось с другими? – спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.
– Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал козак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам, да по панским усадьбам. Такая козаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил, – всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож[ , хотя они уже тем людям не сыны, а внуки]… Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу…
А шумит же лес крепко, – будет буря!
А.К. Гольдебаев. В чем причина? *
Ссора
[1]
[ Сава Хлебопчук, помощник машиниста, человек, начитанный от Писания, знал из священных книг, что нет более душеспасительного дела, как душу свою положить за други.
Когда же он, поссорившись с машинистом Маровым, отряс – по Писанию – прах с ног, уехал навсегда из Криворотова, где ему так было хорошо жить и служить, тогда, в вагоне, пришлось ему думать, скорбя и вздыхая, что не всякое доброе дело ведет непременно к добру. Бывают в жизни, – думал Сава, – и такие добрые дела, которые совершаются не иначе как при участии адских сил, исконным человеконенавистником – дьяволом на пагубу людей творятся. И ведут людей к потере счастия!
Разве он, одинокий и нелюдимый чужанин, не привязался всей душой к своему машинисту Василию Петровичу Марову, не полюбил его как родного отца, брата, друга… И вот что вышло после совершенного ими доброго дела! Он покинул Криворотово, где ему было так хорошо, где он рассчитывал остаться навсегда; едет в далекий неведомый край, с разбитым сердцем, с набегающими на глаза слезинками… Не говорил он только, не признавался никому, как полюбил он своего сурового машиниста, которого все помощники ненавидели за придирчивость, а он, Сава, души в нем не чаял!.. Радовался, что Маров полюбил его; гордился даже, что ему выпала удача ездить около полугода бессменно с лучшим из машинистов депо Криворотово, с которым ни один помощник не мог проработать дольше месяца… Дружба меж ними была, как будто выросли вместе, как будто и родила их мать одна! Вмешался дьявол в их добрые отношения, искусил их дружбу добрым делом, кинувши промежду них невинного ребенка, и – рухнуло все… Редкое сердечное согласие двух друзей превратилось во вражду непримиримую.
– Обидел ты меня, Василий Петрович, – шепчет Хлебопчук, ворочаясь на жесткой койке вагона, – так обидел, как никто никогда меня не обижал!.. Обманул ты мое расположение, доверие к тебе душевное не оправдал! Я ничего не скрывал от тебя, все тебе говорил откровенно, как перед богом, – всю жизнь раскрыл, все мысли мои доверил, религию объяснил. Ты же скрыл от меня в ту ночь, когда мы спасли эту девчонку, что думал, что знал, о чем замыслил. Бог тебе судья, Василь Петрович, – а обидел ты меня.
– Эх, кум… Плюнь, кум, – примется утешать его приятель, расплескивая вино повсюду, где не видится рюмок. – Выпьем да спать, кум… У тебя паровоз на промывке, а мне завтра с шестым ехать. Пей, кум.
Пьет Василий Петрович и смутно соображает, что все это глупости – водка там, глупые разговоры с кумом и все такое прочее… С Савой, – думает он, – было совсем по-другому…
Но отдадим читателю полный и верный отчет обо всем, что произошло между машинистом Маровым и его помощником Хлебопчуком.]
Василий Петрович Маров, первоклассный машинист депо Криворотово, сорокапятилетний мужчина высокого роста, сухощавый и желчный, с небольшими, но строгими глазами, с реденькой клинообразной бородкой, непредставителен с первого взгляда, но при ближайшем с ним знакомстве внушает к себе большое уважение. Говорит он медленно, с трудом, особенно когда волнуется и начинает заикаться, но речь его весьма основательна и охотно выслушивается [ даже] [ начальником.] Его очень ценит начальство и уважают сослуживцы. Непрочь он с старыми приятелями выпить в свободное время, пображничать на семейных празднествах, [ – в Криворотове что ни старожил, то родня остальным, сват, кум, свояк, – на именинах, кстинах, смотринах;] но на службе, на деле Маров трезв, строг к себе и к помощникам, а добросовестен как никто из сослуживцев. Среди первоклассных машинистов депо Криворотово есть люди старше Марова по летам, по выслуге, но Маров превосходит их служебной аккуратностью, знанием дела, способностью сохранять хладнокровие в опасных случаях, столь частых, столь обычных в ответственной службе машиниста. Поезда чрезвычайной важности, когда с ними едут особы, чаще всего поручаются Марову, и у него имеются благодарности со стороны иноземных и отечественных особ, благополучно проследовавших с Маровым мимо Криворотова. С своим начальством всех чинов и величин Маров держится почтительно, но с достоинством, без заискивания, в глаза забегать не любит и режет правду.
Но прямота и независимость Василия Петровича не вредит ему [ во мнении ближайшего начальника, ценящего в нем добросовестность, знание дела, трудолюбие.] Строгий начальник участка тяги, Николай Эрастович Чернозуб, инженер очень дельный, на похвалу скупой, так отзывается о Марове, [ когда ему случается аттестовать начальнику тяги своих «вверенных»:]
– Маров? Лучший машинист мой! Маров и Стратанович несравненные работники! У меня, слава богу, около дюжины безукоризненно отличных машинистов, но Стратанович и Маров – украшение депо Криворотово!
В особенную заслугу Марову [ начальник] став[ и] ят его честность. [ У Василия Петровича нет рокового недостатка большинства наших криворотовских машинистов: он не жаден и скуп, почему вполне довольствуется правильным заработком, не ищет темных препентов [31]31
Так в тексте.
[Закрыть] . Всем известно, что раздатчики топлива большие плуты, всегда готовые за трешницу утопить чивого механика вместе с паровозом в казенной нефти. И право, жаль, даже стыдно, что среди наших криворотовцев-деповцев находятся бесстыжие люди, тайком покупают топливо, ради больших премий, в ущерб и во вред товарищам-сослуживцам. Но Маров гордо гнушается сделок с казнокрадами, и бессовестные сослуживцы его побаиваются.] Он гордо гнушается сделок с казнокрадами, и бессовестные сослуживцы его побаиваются.
[ Остальные же] А те,кому нет особенной надобности смущаться презрительно прищуренных серых глаз Василия Петровича, любят его, несмотря на его придирчивый ворчливый характер, уважают в нем [ стойкого защитника общих интересов,] справедливого человека и верного в слове товарища. Вне службы, в компании, Маров, правда, ворчлив, но онбеззлобен [ он], терпеть не может ссор, дрязг, пререканий [ , почему] иготов лучше уступить вздорному забияке, чем поднимать шум [ и оскандаливать себя]. За полтора десятка лет, пока он служит на нашей дороге, у него не было ни одной крупной ссоры, а стычки с движенскими, неисправимыми кляузниками и сутягами, были лишь самые незначительные. Только в собственной своей семье, с женой, с детьми, к которым Василий Петрович относится так же сурово и строго, как и к служебным обязанностям, он становится неуступчиво требователен, тверд до безжалостности. – «Дай бабе волю, она возьмет две», – говорит Василий Петрович и потому не дает воли почтенной Агафье Михайловне, боящейся его как огня. Детей же, как исстари известно, надо учить, пока они поперек лавки укладываются; когда же лягут вдоль, – сами учить примутся. [ И дети, хорошо выученные еще в поперечном возрасте, боятся строгого родителя и в долевом положении].
– Как угодно, господин начальник, а с господином Маровым работать невозможно!.. Лучше последним слесарем в депе быть, чем у господина Марова в помощниках…
[ Николай Эрастович морщился, пожимал плечами и делал распоряжение назначить к Марову новую жертву, а сбежавшего – поместить на время в кочегары (соглашались и на это, лишь бы не быть у Марова!), или же, если была вакансия, поместить к другому машинисту.] Забракованный Маровым помощник, переместясь к другому машинисту, менее придирчивому и умеющему смотреть сквозь пальцы на дело, оказывался сносным работником, исправно служил, выходил в дело. [ Далеко не один из наших машинистов, имеющих в настоящее время класс, были в прошлом у Марова помощниками, браковались им и аттестовались как безнадежные шалопаи. Но замечательно, что редкий из них хранил злобу против Марова. Достигнув звания, которое их несколько равняло с Маровым, его бывшие каторжане и недруги охотно с ним дружили и наверное уважали его гораздо больше, чем других, менее придирчивых и строгих машинистов.]
Сослуживцы-старожилы, люди солидные и, конечно, кумовья, сватья, свояки Василья Петровича, время от времени пытались его усовещевать.
– И как это ты, Василь Петрович, не найдешь человека себе по нраву? Меняешь ты помощников что месяц, себя изводишь, обременяешь начальника! Ведь ты всю молодежь супротив себя восстановил!..
– Ничего поделать с собой не могу! – сокрушенно сознавался Маров. – Не люблю беспорядка, лености на службе, недоглядок… Лучше я сам все сделаю, всю грязную работу, лучше найму парня из депо вымыть, вычистить, чем грешить с каким-нибудь негодяем, шалопаем… По-моему – как? Взялся ты за дело – сделай его так, чтобы комар носу не подточил! Ведь наша работа, други мои, – огонь, беда! Ведь не навоз, а души человеческие возим, и ответ на себя принимаем перед богом, перед совестью!.. Потому и обязаны каждый болтик, каждую гаечку обнюхать, облизать, проверить… А ведь они что, лентяи? Языком болтать их дело, баклуши бить, да за сельскими девками бегать!.. О службе и не думают! Нет того сознания, что в каждую поездку сотню душ человеческих на верную смерть, быть может, везем!.. Терпеть не могу!..
[3.] 2
Явился он в Криворотово откуда-то с юга – из Херсона или из Житомира, и поступил в депо слесарем, сдавши пробу сразу на рубль с четвертаком. А месяца два спустя, присмотревшись к людям и к порядкам нашего депо, новичок-слесарь улучил минуту, когда на паровозе серия «Я», номер 40, началась обычная история с помощником, чуть ли не сто пятидесятым по порядку, и отправился к начальнику проситься к Марову в помощники. Николай Эрастыч ушам не поверил, когда услышал беспримерную просьбу.
– К Марову? – спросил он, вскидывая глаза на понурого смуглого парня, стоявшего в почтительном отдалении у стола в начальническом кабинете. – Гм!.. А тебе известно, что Маров очень строгий и даже тяжелый человек?
– Да, господин начальник, – спокойно ответил Хлебопчук.
Инженер Чернозуб встал из-за стола, прошелся по линолеумовой дорожке взад-вперед и дал себе время подумать над необычайной просьбой слесаря.
«Работник превосходный, по отзывам монтера, – думал он о Хлебопчуке, – работник, каких не много… Если он оборвется у почтеннейшего Василия Петровича да, – что очень возможно, – смутится от неудачи, – уволится, пожалуй, и депо лишится полезного слесаря, каковых у меня весьма маловато…»
– Что же, послушай, Хлебопчук, тебе такхочется на паровоз?
– Да, господин начальник, – признался хмурый парень.
– Так повремени до осени, когда усилится товарное движение, – тогда можно будет тебя поместить на какой-нибудь паровоз.
Но это обещание, по-видимому, не удовлетворило просителя: он потупил глаза и не трогался с места, а на его смуглом и черном от копоти лбе заходили морщины [ , свидетельствующие об усиленном движении в мозговой коробке].
– Тебе хочется непременно к Марову? – спросил Николай Эрастыч.
– Так точно, – с живостью ответил слесарь, морщины которого быстро разгладились. – Жеконский у него непрочен, – добавил он вполголоса.
– Гм! К Марову хочешь! Что ж, – отлично, – согласился начальник усмехаясь. – Жеконский действительно непрочен и, вероятно, на днях откажется ездить с Маровым. Но поладишь ли тыс ним?
– Да, господин начальник, – твердо ответил Хлебопчук[ , глядя на начальника прямым и немигаючим взглядом]. Судя по твердости тона и по уверенности взгляда, следовало заключить, что этот угрюмый, но бравый парень хорошо обдумал свою просьбу.
– Я был бы очень рад, знаешь… В сущности Маров далеко не злой человек, лишь строг и нервен. Угодить ему трудно, но при желании возможно: стоит только заниматься делом добросовестно, не лодырничать, точно исполнять инструкции.
– Я знаю, что это так, господин начальник.
– Хорошо. Ты уже работал на паровозе?
– Так точно. На Жабинко-Пинской… Паровоз я знаю, господин начальник.
– Ну, отлично, – поезжай с Маровым. Я скажу ему, когда уйдет Жеконский от него.
– Слушаю, господин начальник.
Хлебопчук отступил к выходу с довольным видом, с ясным лбом. Чернозуб нашел не лишним, однако, остановить его для нового предупреждения, которым как бы закреплялось приятное для начальника соглашение.
– Только послушай, помни, что ты некоторым образом дал обещание твердо держаться на месте. Ты сам просишься к Марову, почему сам же будешь обязан заботиться о прочности своего положения.
– Так точно, – согласился Хлебопчук с этим выводом, глядя начальнику прямо в глаза серьезн[ ым] ои уверенн[ ым] о[ взглядом].
Дня через три он начал ездить с Васильем Петровичем и приводить своей беспримерной прочностью всех в изумление, которое росло с каждой новой неделей его несменяемой службы у сурового, требовательного, ворчливого, невыносимого, капризного, грозного машиниста.
– Хохол точно опел, околдовал этого лютого пса! – говорили помощники, вызнавшие по личному опыту «маровскую каторгу». – Так обмяк, людоед, так притих, присмирел, – точно и нет его! Просто шелковый стал, злой черт! И уж на паровозе не торчит, как бывало прежде, – стал святого лодыря праздновать, собака цепная… Даже, гляди, улыбаться выучился, рожа его злющая просветлела… Видно, – калугуром своим понурым доволен.
– Колдуны они, эти калугуришки, – вот в чем вся суть, голова. Тут как хочешь, дело нечисто. Просто-напросто опоил Марова чем нибудь хохол [ , вот он и покорился ему. А ежели бы не такая штука, разве ездил бы с нашим бешеным чертом хохол!!!] Ведь, помни, пятый месяц ездит, и не то что ссориться или бы жаловаться друг на друга – водой их не разольешь!.. Тут не без колдовства, братцы!
И на самом деле, при виде Марова, значительно изменившегося к лучшему [ за последнее время при наблюдении завидных отношений, весьма быстро установившихся между машинистом-людоедом и его последним помощником], мысль о колдовстве приходила сама собой в голову даже и тем из молодых криворотовцев, которые обучались в техническом и зачерпнули из кладезя неверия, вместе с геометрией и геодезией.
Василий Петрович, что ни день, становился все благодушнее. Его сухощавое нервное лицо стала освещать приятная, несколько ленивая улыбка, глаза почти разучились щуриться [ с задорными искорками сквозь вздрагивающие веки], а в походке, в движениях появилась солидная неторопливость человека, вполне уверенного, что его бездеятельность к худым последствиям не поведет. Угрюмый слесарь в совершенстве выполнил обещание угодить Марову, и Николай Эрастыч вздыхал спокойно: наконец-то у его любимого машиниста нашелся достойный помощник. Встретится он где-нибудь у мастерской, на платформе с украшением «депо Криворотово» и задаст ему веселый вопрос:
– Ну что, Василий Петрович, довольны своим помогалой?
– Н-ничего, – сдержанно ответит Маров, точно боясь сглазить [ избытком похвалы] своего Саву, – пока бог милостив, Николай Эрастович.
Но эта легкая досада, приятная тоска бездействия была только в первую минуту и больше уже не повторялась, уступивши место чувству довольства, которое росло с каждой новой «турой» при участии добросовестного помощника. «Злая собака» Маров был отныне кроток как ягненок [ «людоед» превратился в сентименталиста-мыслителя].
Строгого работника [ , как он ни жесток, ни бессердечен в своей требовательности,] ничем так не разнежишь и не смягчишь, как добросовестным отношением к делу: Василий Петрович, благодаря деловитости своего нового помощника, стал неузнаваем даже для самого себя – спокоен, ровен, ясен, тих. С течением времени он до того обмяк и разнежился, что начал вдаваться в поэзию и[ , за отсутствием необходимости злиться, скрежетать зубами, метаться от крана к котлу,] стал посвящать свои досуги мечтам, задушевным беседам о таких вопросах, какие прежде ему и в голову не приходили, – о далеких странах и о порядках в них, о чувствах и предчувствиях, о звездах и беспредельности божия мира, о судьбе человека здесь и на том свете…
Подчас, сидя в зале первого класса, – а за последнее время у него, благодаря Хлебопчуку и свободе, нередко являлось желание покичиться перед сослуживцами своей бездеятельностью и посидеть, в ожидании звонка, за бутылкой пива, – подчас он подвергался незлобивым насмешкам кумовьев и сватьев, и не прищуривал глаз, не метал искорок, не гневался, как это было раньше, но спокойно выслушивал насмешки, зная, что его удаче завидуют.
– Сидишь? – подмигнут на него машинисты. – Паровоз-то бросил?
– Сижу, – ответит не торопясь Василий Петрович. – Не все вам одним лодырничать, пришел и мой черед.
– Крепостного нашел!.. Ва-ажничает!.. «Я ли, не я ли, гуляю в вокзале»… Беги скорее к машине! Савка твой паровоз на кругу свалил.
Почему? В чем причина?..
Среда, воспитание, трудовая жизнь с малых лет, ответственная служба, полная роковых возможностей, – все эти условия не приучили Василья Петровича к самоуглублению, к умению находить объяснение сложным явлениям мира внешнего и внутреннего, давать самому себе последовательные ответы, которые удовлетворяли бы собственную любознательность, успокаивали бы тревогу сердца и ума, подчас тяжелую и неразрешимую. За свои сорок пять лет машинист Маров, как и всякий поживший человек, немало сталкивался с необъяснимыми случаями, с явлениями, которые ставили в тупик, с собственными чувствами и побуждениями, сила которых была и ясна и властна, а происхождение загадочно; но, как и большинство из нашего брата, криворотовцев, – разгадок найти не мог и отходил к своему будничному делу с налетом недоумения на душе. Там прервал счастливую жизнь пулей богатый молодой человек, тут разошлись прочь муж и жена, прожившие душа в душу полсотни лет; там у почтенного, всеми уважаемого отца вырос сын негодяй [ и каторжанин], тут богобоязненный муж и примерный семьянин, честно доживши до старости, начал пить и развратничать… Отчего? В чем причина?
Так же не мог он объяснить и своей уверенности в Хлебопчуке. Чувствовалось ему, что меж ним и его последним помощником возникла связь, нисколько не похожая на обычную приязнь с кумовьями, сватьями, сослуживцами и добрыми собутыльниками; чувствовалось, что не нужно о ней рассказывать добрым собутыльникам, так как и не расскажешь им толком, в чем вся суть, в чем заключается непонятная и самому ему приятность общения с «хохликом», задушевной с ним беседы, касавшейся таких предметов, о которых Василию Петровичу еще не приходилось рассуждать с кумовьями-сослуживцами… Надо сознаться, что всем, знавшим Василья Петровича за человека очень умного, – по нашей, криворотовской мерке, – очень «сурьезного», казалась странной, удивительной, чуднойего необыкновенная нежность к угрюмому хохлику, ведущему затворническую жизнь, избегавшему общества, вина, табаку, женщин, читавшему какие-то книги, – к человеку «маленечко того», одним словом, не в полном рассудке [ находящемуся]; и эта общественная оценка не ускользала от сознания Василья Петровича, педагогически невозделанного, но очень чуткого; и она оказывала свое влияние, затрудняя попытки найти ответ на вопрос: в чем причина, что ему так мил и дорог его последний помощник, и – почему он так хочет верить, что с Хлебопчуком они неразлучны?
[5.] 4
Возвращаясь домой, в Криворотово, «снявшись» с паровоза, они замолкали для этих бесед на все время, пока домовничали, и каждый из них вел свою отдельную жизнь, почти не встречаясь друг с другом. Но тем охотнее, тем любовнее стремились оба к другу-паровозу в предписанный нарядом час их поездки, тем сердечнее было их торопливое, как бы стыдящееся собственной теплоты рукопожатие, которым они молча обменивались, сойдясь у котла их паровоза, после целых суток разлуки. И они снова говорили, говорили, опьяняя друг друга музыкой голосов, согретых обоюдной симпатией. И их сердца бились повышенным, облагороженным ритмом.
Из этих интимных и задушевных бесед выяснилось между прочим для Василья Петровича, что его помощник не нашей веры, что недавно еще он был счастлив в жизни и что в настоящее время у него разбито сердце: дифтерит отнял у него жену, которая была ему «по совести», и двоих детей, которых он «так любил»… Когда Сава, глуша волнение порывистой возней с поддувалом, выжимал из горла признания в неутешном горе, Василий Петрович не сумел побороть досадной «бабьей» слабости и высунул голову на волю, чтобы смигнуть слезы… Среди продолжительного молчания, наступившего за этой гнетущей минутой, у Василья Петровича впервые появилась теплая мысль утешить как-нибудь разбитое сердце бедного сироты… И, лучше всего, утешить таким способом, который закрепостил бы это сердце ему, Василью Петровичу – выдать за Саву старшую дочь Лизурку, когда ей выйдут года, то есть года через полтора. [ Мысль эта зрела и лелеялась до самой роковой минуты, превратившей в непримиримую вражду их сердечную взаимность.] Сообщать Хлебопчуку этот план Василий
Петрович до поры до времени не желал; но мысль породниться с симпатичным человеком пришлась так по душе, что не останавливала православного христианина-церковника даже перед соображениями о разнице вероисповеданий.
«Нет слов, они навряд ли попадут в царство небесное, – хоть бы Хлебопчук и другие прочие, его веры… В церькву не ходят, живут без причастья, хоронят – не отпевают, детей растят некрещеных… Ну только то сказать, что все это – дело их совести, на все на то, чего они не исполняют, у них есть резон, в ответе же перед богом не кто иной, как они сами. Что же касается остального прочего, то люди они такие, каких поискать – не найдешь. Взять хоть бы Саву опять же: что добрый, что скромный, что трудящий… Поищи-ка таких среди наших, православных! [ Что из того, что он молится господу богу не по-нашему, ежели он ведет богобоязненную жизнь! – может быть, он больше угоден богу, чем архиерей иной… Ничего этого нам неизвестно, и в чем причина, – господь ведает!»]
Всего же больше нравилось Марову в Хлебопчуке то, что Сава был так ли сяк ли сведущ во многом, чего совершенно не знал Василий Петрович, и о чем ему приходилось впервые думать и рассуждать лишь при разговорах с его последним помощником. Чужанин-раскольник, угрюмый и молчаливый со всеми, кроме Марова, жил и в Немцах, и в Турции, и среди венгерцев, сталкиваясь с людьми разных стран и наций, степеней развития и политических окрасок, а, между прочим, и с теми из русских, кому вольготнее живется, по их политическим или религиозным особенностям, у соседей, чем дома. Таким образом, землепроходу Саве было о чем порассказать любознательному другу-домоседу, с которым так приятно складывалась беседа, так хорошо думалось вслух. Сава описывал Василию Петровичу, насколько сам это знал, по слухам и по книгам, как живут люди в разных землях, в Америке, даже в Австралии, как там понимают рабочего человека, какие там существуют веры, обычаи, нравы и диковины. Сообщал иногда, к разговору, такие факты из текущей жизни России и из ее истории, которые в газетах не напечатаны, в хрестоматиях и летописях не упомянуты, но которые, дойдя окольным путем до слуха нашего брата-криворотовца, заставляют воскликнуть: «Та-та-та!.. Во-от оно в чем штука-то!..» [ Но подобного рода восклицания, так и самые факты, вызывающие почти испуг, допустимы лишь при разговоре с друзьями и к откровенности с собутыльниками не поощряют, почему Василий Петрович и не вынес ни разу сору из избы даже тогда, когда с Хлебопчуком разошелся навеки…]
Когда он в первый раз, под впечатлением разговора о вселенной, отдался мысли о страшной бездне, называемой пространством, ему пришлось распроститься с мыслью [ о необходимом] оботдыхе и провздыхать всю ночь [ , ворочаясь с боку на бок! – он боялся, что к утру сойдет с ума от мучительной думы].
– Ну, хорошо, – рассуждал он сам с собою, среди темноты и тараканьего шороха, – ну, пускай, оказался конец этому пространству – коробка этакая громадная[ , цилиндр, в котором мы, земля с луной, солнце и все прочее… И хорошо бы оно, кажись, спокойно, ежели оказался конец, – голова не ноет. Так вот нет же! стой! погоди!]. А за коробкой что?.. Опять пространство, которому конца нет?..
Тупая тоска [ отчаяния] леденила сердце. Василий Петрович шептал[ , стеная]:
– Как же это так?! Почему же?.. В чем же причина?
Две-три «туры», захватывающие ночное время, он боялся наводить беседу на страшные вопросы, не смел поднять глаз к таинственной бездне, разверзавшейся над ним и над землей в торжественно грозном уборе неисчислимых загадок-светил, сиявших как крупные бриллианты, – тогда как Земля, по словам Савы, была видна жителям тех далеких миров лишь едва заметной бледно-голубой звездочкой… [ Но влечение к бездне побороло ужас перед нею, и у Василия Петровича снова возникло желание муки для ума, жажда фантасмагорий о неселенных светилах, которые указывал поименно его мечтатель-помощник.]








