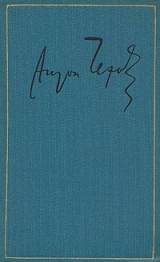
Текст книги "Том 18. Гимназическое. Стихотворения. Коллективное"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Господи, твоя воля! – говорил Василий Петрович уже без трепета, с тихой покорностью человека, примирившегося с неотстранимым ужасом, и следя за указующим перстом Савы[ , подъятым над его головой.]. – Творец всемогущий!.. Неужели же – и там… Такие же, к примеру, люди, города, луга, рощицы?.. И поезд, быть может, так же стоит на станции, и механики, как мы, которые смотрят на нас и разговаривают о бледной [ миниатюрной] звездочке!.. Ума помраченье!.. Неужели же, Сава Михайлыч, жительствуют и там божьи твари?
– Для человека невозможно, для бога же все возможно! [– устранял Сава священным изречением последние крупицы неверия своего начальника-друга.]
– Ну, страшно подумать обо всем об этом, Сава Михайлыч! [ – снова поднимал голову Маров.– ] Взять хошь бы то: нет конца!.. [ Что за чудо такое?] Как это мы об этом не подумаем, не вспомним, не закручинимся?! Живем себе[ , суетствуем] и не замечаем… Взяли бы хоть то в соображенье, – поезжай, к примеру, курьерским сотни, тысячи лет, и все – пространство, пространство, и нет ему конца!.. В чем же причина, господи ты, боже ты мой?
– Сокрыто от нашего ума создателем! – отзывался на этот тоскливый вопрос Сава и, глубоко вздохнувши, принимался за работу у котла. Разговоры прерывались гулким шумом бегущего паровоза, до следующей остановки, ко времени которой прикапливались в голове Василья Петровича новые вопросы, новые сомнения и тревоги души, терявшей равновесие.
– А как же, Сава Михайлыч, теперича с сошествием Христа на землю? – встревожится вдруг Маров, глубоко обеспокоенный религиозными сомнениями. – Неужели и тамто же самое было? – укажет он на звезды. – И, опять же, кончина мира, второе пришествие… Там-то как же?
– И это сокрыто господом от ума человека! – ответит Сава с новым вздохом сокрушения и смирения.
– Гм!.. Мученье, да и только, как начнешь думать!.. Ну, а что же в книгах касательно этого пишут?
– Что же можно писать о том, чего никто, кроме бога, не знает! Понаписано, известно, всякое… Книги от людей, от ума человеческого, а он слаб и короток. Многое от него сокрыто, и, разумеется, для того ради, чтоб не оробел…
Заметивши же, что его ответ, не устраняющий и его собственных сомнений, нисколько не удовлетворил тревожной пытливости товарища, Сава добавит, хмуря брови:
– Грешно и пытаться дознать, что́ отец наш небесный поволил сокрыть от нашего разума!
– Ну, как же так грешно, Сава Михайлыч, – протестует Маров кротко. – Почему же грешно?.. Взять, к примеру, с э[ с]тими самыми жителями на звездах: тоже ведь нет от господа бога никаких разъяснений, что там существа существуют, а вот дознались же!
– Не дознались, Василь Петрович, – поправляет его Сава, – не дознались, а выходит так по нашему разуму.
Потому как невозможно, чтобы всемогущий не насоздал иных прочих планет и тварей, лучше нас во много крат… И в Писании говорится: «Утверди воды превыше облак». А ежели – воды, то и все прочее должно быть. Потому как вода – жизни начало. Хочется думать, что создатель, ради своей славы, без конца творил… [ Не одних же ж таких гадин, как мы многогрешные, сотворил всемогущий, да и успокоился!
– Дай-то боже, дай-то боже! – благоговейно молит Маров[ , всегда готовый отвести в своем сердце самое просторное место всем мыслям и словам симпатичного человека.
«И очень даже просто! – убеждает сам себя Василий Петрович, размышляя о возможности «в предбудущем» людей «как ангелы». – Почему бы и не так? Один, другой начнут появляться хорошие люди, – гляди и набралось!.. Разговаривать промеж себя станут, задумываться… И – все об умственном, о божеском, а не об одних только поверстных или о волкодаве, о выпивке да, к примеру, о том еще, кого из молодежи у Немцевичихи ее муж застал… Теперь, пока что, вот они – двое, с Хлебопчуком; а там, глядишь, пойдут присоединяться и прочие, которые из машинистов получше: Курунов, хоша бы, Шмулевич, Кроль, Стратанович опять же… И – пойдет, и пойдет… Будут калякать, допытываться, – как? по какому случаю? в чем причина?.. А в последствии времени скажут друг дружке: «И что это, братцы, мы все одними пустяками живем? Пьянство да пересуды, карты да дрязги!.. Давайте примемся жить вот так и вот этак…» Ну и будет все по-новому, по-другому, по-божески… И очень просто!»
Такие мечтания, навеянные поэмами Савы о лучшем будущем,] Такие разговорыусугубляли мирное блаженство Василья Петровича, [ с признательным чувством] сознававшего, что его собственная жизнь при новом помощнике идет по-другому, по-новому, – более по-божески, чем раньше, при целой сотне прежних помощников; самая наличность Савы, одно лишь появление такого примерного человека уже служило порукой, что жизнь может быть гораздо приятнее, чем она есть, что не все люди сплошь «так себе», «пустельга одна», как это думал Василий Петрович раньше, наблюдая кумовьев Куруновых, мученски мучась с прежними помощниками. Не могло быть даже и сравнения никакого между этим, и умным и дельным, по-внешности хмурым, неласковым, душой же как ребенок нежным хохликом, и теми, до него мелькавшими тут, как частокол. Те ведь – что? болтают, бывало, глупости, сальности разные… А надоест слушать, да оборвешь – нахохлятся, грубить, задирать машиниста начнут… Вместо того, чем бы дело делать, примутся высчитывать, сколько пробегу нагнали, да скверноматерски лаять счетоводов, что будто бы они всегда врут в списках на поверстные… Ну, соображают, да по пальцам кумекают, заместо дела, а форсунка гаснет, а в потолке того и гляди пробки расплавятся… Как же не грех-то с ними, с негодяями с подлыми?.. Изозлишься, возненавидишь – бить готов подлеца!.. Супротив своей души вынужден иной раз подать рапорт, что помощник к черту не годится!.. В болезнь, мерзавцы, вгонят, совесть, душу испоганят всю, жизни, детям не рад станешь, бывало!.. А ведь этот, Сава – чистый ангел божий!.. Теперь, с ним – что в пути, что после туры, дома, как после теплой молитвы сознаешь себя… На душе легко, дурных мыслей нет, все люди приятны… Даже о выпивке в голову не приходит… Идешь домой как от обедни!.. Да и дома-то, в семье, все стало по-другому при нем, при Саве, – тихо, дружно… Инда жена, Агафья, стала дивоваться, хе-хе!.. А ввиду чего? А все ввиду того, что сам не раздражен, не бесишься, землю не грызешь, ну и снисходишь…
– А что, Сава Михайлыч, – поставил вопрос ребром Василий Петрович [ как-то незадолго уже до их разрыва]. – На что вы располагаете в предбудущем? Я к тому, что вот теперь, с проведением Китайской пути, вся молодежь вообще на эту путь устремилась… Заработки там, слышь, [ а]громадные, народ, манжурцы эти самые, простой да праховый… Так что, говорят, можно большие капиталы без труда в тех местах приобрести… Известно, ежели в душе совести нет, а у рук пальцы загребистые… Так вот и – того?.. Как, мол, вы касающе этого? Может, на новую путь располагаете в скором времени?
На этот вопрос, и хитро-хладнокровный, и ревниво-жесткий в одно и то же время, Хлебопчук дал твердый ответ, без тени колебания, приведя им в восхищенье Василия Петровича, тревога которого сразу уступила место душевному довольству. [ Сава начал издалека, с критики положения, высказанного «предыдущим оратором».]
– Оно, видите ли, какая штука, Василь Петрович, – начал Сава, нравоучительно хмуря брови на масленку с длинным носиком, – в рассуждении того, что без совести на новых местах легко деньги заробить, то оно везде так, не токма в Манжурии. Человеку ж, который душой дорожит и бога боится, можно без греха, с пользой для людей и души коротать век и там, в той сам[ исеньк]ой Манжурии: народы там темные, истинного бога не знают, веры не имеют ни настоящей, ни испорченной. И коли есть доброе желание у человека, он может там апостолом своей святой веры стать. Дело это великое, богу угодное… Только то сказать, – Сава понизил голос и опустил голову, – не каждый вместит… «Могий вместити да вместит…» [ А коли есть который человек игоистом, тот о себе, о своем несчастье думает и вместить того не может. Игона том человеке сатанинское, и шкодит оноему.]
[6.] 5
Отправились они – все так же удачно – в обратную с экспрессом после обеда, когда зной был еще нестерпим. Но в открытую настежь дверь и окно будки рвался резвый ветерок, поднятый быстрым ходом, и приятно освежал голову: зноя для них не существовало. Удача буквально преследовала их в этот день; счастье, неизменный их спутник в течение шести месяцев, сегодня прислуживалось с подозрительным вниманием: у них не произошло даже малейшего пререкания с станционными, им не представлялось надобности говорить с зазнаишкой-обером[ , взъерошась, как рассерженный индюк], так как и начальник станции и поездная бригада в этот исключительный день умели только приятельски улыбаться, отпускать милые шуточки. Очень хорошо, удачно вышло и то, что скорый, принятый ими, пришел в Сухожилье с опозданием на час двадцать семь минут, что давало возможность молодецкой бригаде сорокового – машинист Маров, помощник Хлебопчук – отличиться ловкостью, нагнавши время в пути до Криворотова при непременном условии, чтобы аристократический поезд[ , ведомый удальцами] не заметил [ бы] собственной быстроты. Далеко не со всяким помощником рискнешь на попытку, которая легко может вызвать беспокойство у пассажиров [ с раздутым самомнением], любящих составлять телеграммы министру при малейшем толчке их вагона! но с Савой да не рискнуть? [ С такой-то правой рукой, у которой все начеку, все необходимое готово задолго до надобности?]
И экспресс шел, летел, как по воздуху. Поршни молодца-паровоза, любимца, балованного сына наших друзей, частили своими штоками, как иглой швейной машины, которую пустила в ход резвая и нетерпеливая молодая ножка; назойливый для всякого машиниста немчура-гаусгельтер вел свой пунктир почти без размахов выше восьмидесяти… А удалая бригада оставалась спокойной, как ни в чем не бывало! Посиживал, улыбаясь, машинист около своего крана; с усмешкой, не спеша делал дело помощник, лаская вентильки, умасливая лубрикатор… И оба еще имели смелость предаваться размышлениям, вспоминая поучительные места их сегодняшней беседы.
Вдруг его мысли прервало резкое движение Савы. Рука инстинктивно впилась в рукоять, глаза поднялись на помощника: Хлебопчук, далеко вытянув шею, приник тревожным взглядом к полотну, плавно уходящему влево.
– Что там такое, Сава Михайлыч? – вскочил на ноги и машинист.
– Глядите, глядите!..
Далеко на полотне, саженях в двухстах, если не обманывало зрение, что-то белое и небольшое трепещет между рельс[ , засиявших от последнего луча двумя изогнутыми полосками бронзы]; но – что именно? – глаза отказываются различить… Зоркие глаза Василия Петровича изощрены долголетним упражнением, но им и утомлены: уже явилась необходимость восполнять иногда недостатки глаз догадками, головой работать, где не возьмешь глазами. Так и сейчас: Василий Петрович, судя по величине и движениям отдаленной беленькой точки [ среди двух сходящихся полосок светлой бронзы], полагает, что это – ком бумаги, быть может смятое стенное расписание, выброшенное из окна казармы; подхваченный вечерним ветерком, этот смятый лист [ мельтешит] мелькаеттам вдали, подпрыгивая на месте.
Но зоркий Хлебопчук, молодые глаза которого еще не натружены, полагает иное.
– Гусь! – говорит он решительным и спокойным голосом, опускаясь с носков на пятки, за спиной Василья Петровича.
Пожалуй, и действительно гусь. Теперь, после убежденного заявления Савы, стало заметно, что беленькая точка, прыгая на месте, взмахивает как бы крыльями…
Гусь же и есть! продолговатый… движется тяжело… Ну, конечно, уйти не успеет и будет прирезан!
– Са… Сава, – хрипит задыхаясь Маров, дергая кран дрожащей, закоченелой рукой. – Не гусь!.. Ребеночек!.. Ради бога!.. Скорее!.. Скорее!..
Голос его визжит, как визжат и бандажи, врываясь в рельсы; глаза застилает черный дым, рванувшийся из топки; но, отпрыгнувши в сторону Савы, Маров уже не видит его в будке: Хлебопчук уже скользнул на землю, скрылся. Маров спрыгивает за ним, не щадя ног. Уголком правого глаза он охватывает изогнутый ряд вагонов, зловеще блещущих под красным лучом синевой, желтизной зеркального лака, уловляет заглушенный расстоянием тревожный крик, визг, взрывы детского плача… Но – все равно! в эту минуту ему не до тревоги пассажиров. В голове молнией сверкает мысль: «Успел ли?» И, если успел, – как успел? прыгнул?.. Ведь одна лишь секунда!.. И он сам в три прыжка достигает голову паровоза, тележки, под красными бегунками которой барахтается черная масса с белым комочком… И его вдруг оставляют силы…
Паровоз трепещет крупной дрожью, он прыгает с неподвижными колесами, он еще движется, скользит, производя режущий скрежет; Василий Петрович роняет пылающую голову на жгучую обшивку цилиндра и ждет… Не мелькнуло и минуты с того мига, как он понял отчаяние матери в конвульсиях человека, крутившегося по косогору, как неистово рванул ручку крана… Но ему сквозь жгучую тоску отчаяния в собственном своем сердце кажется совершенным пустяком та непостижимая бесконечность, кажется не длиннее этой минуты, не имеющей границ… – Что он там… Зачем он там так долго!..
[ В темноте под бегунками ничего не видно… Но вот черная масса с белым комочком судорожно ползет прочь от бегунков, пытается встать, припадает, снова встает… Бессознательно движется и Василий Петрович за цилиндром, царапающим ему лоб и покорно думает о гибели всего: кран повернулся сам собою назад, паровоз снова сорвется с места и, если не задавил еще ребенка, то сейчас задавит… Задавит Хлебопчука, его задавит, задавит и всю его семью, если уж случилось первое несчастье, – жену, мать, Петю, Лизу… до крохотной Катюрки!..]
– Скорее! – кричит он бешеным голосом, кидаясь вперед. – Чего ты там, прости господи, мямлишь?! Двигается ведь!.. Прочь беги, прочь, дьявол!.. Карамора!..
Он не помнил себя, охваченный безумным ужасом, он накричал бы без конца ругательств, если бы в эту минуту не подбежали к нему люди, – главный кондуктор, проводник международных вагонов, а за ними, поспешая вдали, – офицеры, иностранные господа в белой фланели, дамы. Его окружили, требуя объяснения, шумя, грозно жестикулируя. Уже слышались возбужденные голоса, протестующие [ против безобразий наших костоломок], грозящие кого-то проучить, что-то вывест[ ь] ина чистую воду. «Министр», «телеграмма», «жалоба» и другие грозные слова носились вокруг Василья Петровича[ , как рой ос и шмелей.]. Но он ничего не слышал, ни на кого не обращал внимания, не спуская глаз с Савы, подходившего к нему колеблющейся походкой с ребенком на руках. Маров рванулся из толпы[ , грубо оттолкнувши какой-то мундир] и подбежал к Саве[ , лицо которого, заметил он вскользь, стало черно и угрюмо.].
– Жи… жива? – спросил Маров, задыхаясь от радости и протянув руки к ребенку, к пучеглазой толстушке лет двух, с голыми ножонками, не прикрытыми с самых коленочек, пухлых и белых. Девочка выросла из своей белой рубашонки, служившей ей, быть может, в день рождения; но откровенный костюм нисколько не смущал ее, как не испугала, по-видимому, и возня под паровозом: она очень доверчиво и покойно положила головенку на сальное плечо своего спасителя, державшего ее на руках с материнской нежностью. Быть может, она уже набегалась за долгий день и теперь уже хотела бай-бай…
– Цела? Не ушиблась? – с радостным смехом спрашивал Василий Петрович, снова пытаясь взять у Савы ребенка. Но Хлебопчук отстранился, не дал ему свою находку, еще крепче прижал ее к себе…
[ Удовлетворивши любознательность в торопливых и бестолковых расспросах, убедившись почти, что с разочарованием в отсутствии повода лишний раз напомнить о себе там, в Петербурге, кучка грозных, строгих россиян-пассажиров потянулась к вагонам: ей] Пассажиры потянулись к вагонам: имсообщили, что поезд сейчас тронется, так как все благополучно [ ; среди удаляющегося разноголосого говора выдался женский голос, дивно красивый, контральтовый, сильно грассирующий и сказал плохим русским языком что-то о «эроизме», другой голос, гнусавый тенорок, отозвался: «А, вуй, мм-зэль, сэ ль-мо…» и все голоса, красивые и гнусавые, солидные и игривые, потонули вдали.]. На месте происшествия остались лишь агенты: обер, красивый и толстый усач с лакейски надменным лицом, щупленький проводник-бельгиец в щегольских желтых туфельках да паровозная бригада: растерянно ухмылявшийся Маров и унылый Сава, все еще прижимавший к груди крошечную толстушку. Они вчетвером наскоро выяснили подробности случая. Хлебопчук, посланный машинистом, который принял меры к остановке поезда, поспешил спрыгнуть на ходу и чуть-чуть успел предупредить наезд, пр[ я] ыгнувши под паровоз, под бегунками которого что-то забелелось. Но, пока он ловил это что-то, его сильно ударило в плечо и шею цилиндром, едва не сбило с ног… А потом уж он и не помнит, как все было и каким образом удалось ему выкарабкаться с деточкой из-под паровоза. Думалось одно только: «треба ратовать»…
– Вы что, Сава Михайлыч? – спросил он.
Сава не ответил. «Смотри, обиделся, что я ругался, – подумал Василий Петрович с раскаянием. – И что это я за собака, на самом деле! – упрекал он себя. – С чего поднялся лаяться на человека, который, надо говорить, спас ребеночка от смерти!..»
– С опасностью для жизни, – отрапортовал издали голос обера, который уже покончил допрос и на ходу репетировал совместно с проводником донесение по начальству.
Сава явственно всхлипнул, Маров нахмурился, мучась раскаянием и сердясь на помощника: «Ну, какого черта хнычет?.. Взял бы да облаял сам!.. По-товарищески!.. Терпеть не могу, когда дуются!..»
– Форсунка погасла, Хлебопчук, – сказал он сухим тоном начальника, вспомнивши впервые за полугодие фамилию Савы Михайлыча. – Надо освободить топку от газов, в предупреждение взрыва и затем уже бросить туда зажженую паклю, – распорядился он, как по инструкции, хотя и не сомневался, что все это известно помощнику и без него, что он напрасно, лишь в сердцах, учит ученого, обижая его еще больше.
Хлебопчук тотчас же встал и молча принялся за дело. Когда заревела форсунка и осветила лицо нагнувшегося к топке Савы, Василий Петрович увидел на этом лице, печальном и озабоченном, что-то мягкое, теплое… И поспешил снова спросить вкрадчивым полушепотом:
– Вы что это, Сава Михайлыч?.. О чем это вы?
– А ну! что там!.. Так оно, дурости! – смущенно усмехаясь, отвечал Хлебопчук. [ То немовля, донечка та малая…] Думки пришли, как держал ее. Тепленькая да беленькая, ноженьки толстые… Что она мне?.. А вынулвот чужую из могилы, а своих туда уклал!..
Он махнул рукой и горячо принялся за дело. Спешной работы прикопилось у обоих много, пока шли без паров, пока стояли. Минут с десять прошло у них в горячей работе, пока явилась возможность ответить на нетерпеливые вопли кондукторов: «Готово ли?»
– Готово!
Затрелил свисток обера, рявкнул трехголосным басом паровоз, оба повторили на иной лад эту музыку, и поезд тронулся, простоявши в степи с полчаса. «Вот тебе и нагнал время!» – подумал Василий Петрович. Былого настроения, бодрого и светлого, не осталось и тени, всё начало складываться худо: паровоз шел гадко, капризничал, дергал; где-то в шиберах стало хлябать… Но всего хуже и стеснительнее было то, что Сава продолжал хмуриться. [ Суровый по внешности, самолюбиво-задирчивый на словах, гордый «прищура» был нервно восприимчив, как институтка, чувствителен к настроению соседа, особенно того, кто, как друг и любимец Сава, был дорог, близок его сердцу. Василий Петрович, и досадуя и грустя, раздумывал о причинах хмурости помощника.]
[8.] 7
– Это насчет чего же? – спросил Маров.
– Да все касаемо этой остановки на 706 версте! – с притворной досадой воскликнул кондуктор.
– Что же… Остановка как остановка… Со всяким может произодти, не с одним со мной. А со мной еще реже, чем с другими прочими, – ворчал Василий Петрович, вращая кран и дергая ручку свистка. – Ежели что кому не нравится, могут записать жалобу.
– Нет, не в тем, Василий Петрович, – заторопился с объяснением кондуктор. – А как, стал быть, относительно энтой самой девчурки… Ну, известно, как, стал быть, большие господа, – оченно интересно, дескать, как оно?.. И все прочее. Как можно, приказывали! И сами Карп Ильич, наш обер, значит, строго-настрого велели: «Без механика, чу, и не являйся, Слепаков!..» Пожалуйте, уж!..
– Не велика фря ваш обер, – спокойно заметил Василий Петрович, осаживая паровоз под трубу.
– Да не в тем… Обер – что!.. Тут, понимать надо, иной разговор. Все господа… Самые генералы… Баронесса одна… Как ее? Запамятовал! [ Фамилье-то такое, нерусское… Говорят, при дворе… Самая, что ни на есть!.. Важнеющая, одно слово!..] Так она, пуще всех, вишь: «Привести да привести машиниста»… Уж пожалуйте, сделайте милость, Василий Петрович!
– Вот привязался!.. Ну, чего я там пойду делать?.. Не умею я разговаривать с э[ с]тими господами важными.
– Христом-богом прошу! – взмолился кондуктор. – Пожалуйста, Василий Петрович!.. Господ изобидите. Потому – все желают и оченно дожидаются… Большой скандал даже может произойти…
– Какой такой скандал? – злобно прищурил глаза Маров. – Что ты меня скандалом пугаешь, [ куроцап]? Я свое дело знаю!.. А ты вот не имеешь понятия, что машинист не вправе оставить паровоз при маневрах…
– Оченно понимаем, Василий Петрович! не первый год служим… Только в этом разе [ чу] такая история [ что важнеющие пассажиры… Может которые из них с министром – чашка-ложка… И приказы… Просют! – поправился кондуктор]… Оченно уж просют!.. Идите, ради бога! не теряйте время…
– А, черт! – выругался Василий Петрович. – Пойти, что ли? – спросил он, не оборачиваясь к Хлебопчуку. Но Сава или не слышал его [ вопроса], или, быть может, опечалился, что Василий Петрович и спрашивает, и как бы не спрашивает его; только не отозвался ни звуком на этот вопрос, чем еще сильнее обозлил Марова. [ «Вишь, ехидна!» – обругал друга в душе окончательно расстроившийся] Не получив ответа,Василий Петрович [ к великому удовольствию посланца] [32]32
Вместо этих слов было вписано, а затем зачеркнуто: окончательно расстроившись.
[Закрыть]быстро шагнул на ступеньку.
[ Но дамы, перекидывавшиеся вполголоса небрежными замечаниями, старались придать своим улыбкам и взглядам на это живое пятно грязи благоволение, снисходительность, теплоту… Прекрасные создания, предназначенные самой природой на дело кроткого милосердия, смягчили бы, конечно, суровость приговора своих непрекрасных половин, если бы в глазах преступника этому не мешали их переглядывания, их насмешливый полушепот на каком-то картавом и гнусавом языке, казавшемся Марову скорее мерзким, чем музыкальным.] Он горел, обливаясь холодным потом, и злился на свое неумение прилично держаться, [ с достойным самообладанием] прямосмотреть в глаза этим людям – «ведь, пойми, все таким же людям, как и ты сам!» – стыдил он себя… Горшей пытки он не переносил еще никогда в жизни!
[ Когда все эти «лица», изрешетив взглядами свою жертву, вполне насладились казнью – она длилась не более
двух минут, но показалась Марову бесконечностью, уже второй за сегодняшний день, – тогда их глаза, утратив убийственность, обратились к тонкой, хотя и величественной и изящной, хотя и пожилой даме, сидевшей посредине букета, и эта дама произнесла царственно-слабым голосом, несколько в нос:]
– Н-нет… [ Б-]благодарю вас, господа!
Произошло новое движение голов [ и эполет – снова назад, к Марову. Пронзительные], взгляды приковались снова к нему, но уже с испугом, почти с ужасом. Хриповатый бас издал кряканье продолжительное и грозное, а обладатель этого баса, толстый седоватый офицер [ вскинул плечи с толстыми эполетами и] сказал Марову.
– Э… послушай… Ты что же это? Возьми, братец, если дают!
– Не хочу! – крикнул Маров, гневно глядя в самые глаза офицеру.
[ Движение, происшедшее вслед за этим дерзким криком машиниста, напоминало катастрофу:] Задвигались стулья под гул голосов, выражавших ужас [ на иностранном диалекте], смешались в группы белые кители [ с расшитыми мундирами с яркими цветами распавшегося букета]; со звоном упал серебряный поднос от чьего-то изумленного жеста… Полный офицер склонился над изящной пожилой дамой, по-видимому желая утешить ее [ в неудаче] парою теплых слов. Маров услышал эти [ теплые] слова офицера:
– Эх, баронесса, охота вам было!.. Стоило беспокоиться!..
Но продолжения [ его слов] Василий Петрович не слышал, воспользовавшись сумятицей, чтобы уйти.
На самых ступеньках вагона его настиг один из офицеров [ в замшевом кителе, гибкий как жердь и такой же длинный]. Он [ , извиваясь лебяжьей шеей над головой Марова] поймал его за локоть и торопливо заговорил.
– Послушайте, однако… Какого это вы черта?.. Почему вы не взяли ту безделицу, странный вы человек?.. Право же, вы поступили…м…м…неумно, мой друг! [ Знаете что? Вы поломались, отказавшись от крупной для вас суммы и нанесли неудовольствие баронессе.] Право же, вы поступили, мой милый, необдуманно!.. Идите, послушайте, возьмите ваши деньги…
– Идите вы возьмите… мой милый! – ответил Маров, едва владея собой.
Офицер несколько опешил от этого тона [ . Он остановился с широко раскрытыми глазами и ощупал правой рукой левое бедро. Но не нащупав там ничего, кроме голой замши, вернул себе благоразумие] и сказал [ гневно]:
– Послушайте, вы – как вас? Я вам говорю по участию, черт возьми! Как вы не хотите понять!.. Поймите же, что вы натворили глупостей с этой вашей фанаберией!
– Ну, что же делать! – насмешливо воскликнул Маров, спеша к паровозу.
[ – Да поймите, – приставал офицер, – вы могли бы извлечь большую пользу, если бы не заломались… Мы, поймите, мы все, тем более баронесса, сообщили бы о вашем поступке там, в Петербурге, и вы бы, может быть, стали… Но теперь, поймите, когда вы так дерзко… Теперь нам всем приходится только забыть о вас!
– Ну и забудьте!.. А то мне недосужно с вами бобы-то разводить!]
– Фу, какой, однако, нахал! – крикнул офицер вслед Марову [ , уже взлетевшему в свою будку]. Поругавшись еще с секунду, [ жердеобразный] юнец исчез в ночной темноте. Василий Петрович дрожал с головы до ног от волнения, не мог владеть руками. Он действовал свистком и краном как автомат, не отдавая себе отчета.
– Какое он имел право говорить мне «ты!» – разрешился наконец он бешеным криком, после долгого молчаливого пыхтения. – Он тыкай солдат своих в швальне, а не меня!.. Я ему не подчиненный!.. Мне сам начальник тяги не говорил никогда «ты»!.. Сам он не позволит говорить «ты» заслуженному машинисту!.. Да и никому!.. [ Свиная рожа! Дрянь, черт!]
[ Этот взрыв бешенства закончился сравнительным улучшением в настроении Василия Петровича: разрядившись в брани, начатой криком и перешедшей в воркотню, он кончил тем, что харкнул в сторону бегущих за ним вагонов, где ему пришлось провести десяток мучительных минут, и порешил, что не стоит и думать о расфуфыренных дураках и дурах «высокого давления», теперь покойно спавших в своих купе, на мягких диванах. А порешив забыть о дураках и о нанесенном ими оскорблении,] Маров снова занялся тем, что было всего ближе его сердцу, – упрямым молчанием и хмуростью Савы.
Хлебопчук точно воды в рот набрал. Делал свое дело в ненарушимом молчании и как-то рассеянно, без обычной своей ретивости и ловкости, вяло копался там, где нужна была быстрота работы, забывал то, что нужно делать, так что приходилось напоминать ему жестом, кивком головы, и как будто всего более заботился о том, чтобы не производить шума, быть незаметным, прятаться в тень… Когда же его лицо освещалось красным пламенем топки, у которой Сава присаживался на корточки, чтобы понаблюсти за горением, тогда взгляд Василия Петровича находил на этом хмуром лице, багрово-красном, сатанинском, отблеск нехороших мыслей, угрюмую злобу, и очень сердился, скорбя о неожиданной и неприятной перемене с Савой. Только сознаться не хотел он, как ему было тоскливо в одиночестве, как ему хотелось бы поговорить с другом о дамах и господах вагона-ресторана… Он рассказал бы, как он отделал их, мотнувши головой «вот этак», сверху вниз, когда ему предложили кучку денег, как они все [ , гордые дураки,] зашевелились, за[ лопота] говорили на разных диалектах, увидевши, что чумазый машинист плевать хочет на их [ бешеные] деньги… «Так, стал быть, и понимай: вы без трудов богаты, а мы от трудов горбаты! Ну, только то, что и промежду рабочего класса тоже бывают иные которые, кому своя трудовая копейка милее вашего пригульного алтына!» И Сава Михайлыч, ежели бы послушал про все про это, непременно уж похвалил бы, сказал бы что-нибудь от Писания… Поговорили бы, глядишь, развлеклись бы, – дурь-то бы и прошла. – «Наплевать, дескать, на них, чертей надутых! не ими живем!..» А он молчит [ да сопит], рыло воротит… Э, да черт с ним, ежели так!..
Скверно чувствовалось Василью Петровичу, скучно, тоскливо, жутко… Только, повторяю, сознаться было совестно в том, как бы хотелось ему положить конец тяжелому молчанию, вызвать друга на разговор! обругаться бы к примеру, для начала… «Как-ко́го, дескать, черта, на самом деле!..» Сознаться было совестно.
И чем дальше ехали, тем все тяжелее становилось чувство стеснения и росла досада. Совсем изгадилась и езда: паровоз, точно сговорившись с помощником, дурил, не хотел слушаться тормоза, дергал. На станциях, при коротеньких остановках, где, казалось бы, и можно и должно было бы обменяться парой слов, выходило еще хуже, чем в пути: почувствует Василий Петрович, что глаза Савы впились ему в спину, оглянется в надежде, что тот хочет сказать что-нибудь и… взвыть готов от негодования, заметивши, как опустит Хлебопчук глаза, потупится, отвернется!.. «Ах ты, хитрый дьявол!.. Что он там задумал, хохол коварный?»
Чем ближе становилось Криворотово, тем сильнее и нетерпеливее желал Маров, чтобы Хлебопчук сбросил с себя эту свою угрюмую печаль и заговорил бы с ним… Ну, поругался бы хоть, если сердится на что-нибудь, ворчать бы что ли начал, как, бывало, ворчали другие помощники! было бы к чему придраться, поднять шум, а там, гляди, и выяснилось бы что-нибудь… Так нет же – молчит, хмурится, смотрит исподлобья, вздыхает… И придраться не к чему. Что дела не делает – беда невелика; во-первых, все налажено за первый сорт им же самим… Потом же и то, что его ушибло цилиндром, вследствие чего он, быть может, и не в состоянии работать. Придраться не к чему, чтобы завести разговор, а заговорить так, без всякого [ намека] поводас его стороны [ да после всего того, что он всю ночь пробычился,] – еще как он примет этот разговор… Чужая душа потемки, недаром молвится, и – с другом дружи, а камешек за пазухой держи: быть может, у него в душе такая ненависть собралась [ су]против товарища, что огрызнется да к черту пошлет, ежели заговоришь…








