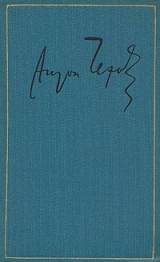
Текст книги "Том 18. Гимназическое. Стихотворения. Коллективное"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Пожал плечами Николай Эрастыч, покрутил седой головой и представил начальству донос Савы, надписав на нем.
Но, окончив и прочитав новое донесение, показавшееся длинным, так как работа над ним утомила до боли в спине, Василий Петрович усомнился, удалось ли ему напеть: писал как будто долго, а чего-то не хватало!.. [ Движимый этим сомнением, он отправился к машинисту Шмулевичу, который в молодости обучался в пансионе и потому был большой мастер составлять донесения.
– Самого дела ты не изложил, понимаешь, – сказал Шмулевич, выпутывая из непроходимого леса своей аароновской бороды проволоку очков, сквозь которые он читал сочинение Марова. – Твой друг Хлебопчук…
– Не друг он мне! – отрекся Василий Петрович глухим, но решительным тоном. – Он низкий обманщик, предатель!..
– Ну, не знаю там, дело ваше, – усмехнулся в густую бороду старик. – Я говорю, понимаешь, что он просит себе медаль на том основании, что это он, понимаешь, а не ты спас малютку…
– Слов нет, это пущай правда, – чистосердечно подтвердил Маров.
– Ага! Тогда о чем же и хлопотать… Пусть себе достает и носит свою медальку, – сказал Шмулевич, смеясь одними глазами и сохраняя серьезную мину первосвященника-советодателя.
– Ни за что! – воскликнул Василий Петрович. – Как? После всех подлосте[ в] й , которые допущены[ е] им[ су] против меня?! Он ценить не умел, как к нему относится человек!.. Напакостил, ушел от меня, марает в глазах начальства меня! Таких подобных низких обманщиков в тюрьму, а не медали им за их за коварство!.. Нет, уж ты обмозгуй, Исак Маркыч, как бы так изложить, чтобы ни мне, ни ему ничего не вышло!
– Гм?.. Ну, хорошо, давай обмозгуем. Надо оформить так, как будто он и спасал, и не спасал малютку, понимаешь?.. Гм!.. Ну, хорошо. Он, говоришь ты, твердил: «Гусь, гусь».
– Да как же! Гусь, говорил, и – кончено дело!.. И как он это сказал, мне в ту пору и самому казаться начало – гусь!.. Вижу, – крыльями машет, бежит вперевалку, ни дать ни взять по-гусиному!.. Ведь вот ты история-то, братец ты мой!.. Точно он глаза отвел мне,
околдовал меня!.. Как сказал, так и я сам начал понимать! гусь – и больше ничего…
– Сам черт их не разберет, чего им надо! – ругался бедный Николай Эрастыч, представляя на благоусмотрение и этот рапорт.
Начальник тяги, потратив немало времени на чтение всей этой переписки, махнул рукой на свое ходатайство о награде [ за спасение ребенка], от которой упорно отказывались оба спасителя, и все последующие донесения их помечал не читая: «К делу».
«Дело о наезде на человека на 706 версте» располнело на зависть другим своим соседям в синих папках; но полнота его была водяночная и кроме кончины ничего не обещала.
Последним вздохом безнадежно больного дела была последняя бумага, вшитая в папку журналистом и содержавшая прошение Хлебопчука об увольнении от службы. Изложив обычную формулу прошения об увольнении «по семейным обстоятельствам», Хлебопчук не преминул присовокупить в конце прошения [ страстную мольбу и угрозу:] следующее:
А.С. Писарева. Счастье *
Посвящается дорогой А. К. Острогорской
– К Тимофеевой пришли. Кто Тимофеева? – спросила, входя в платную палату № 17, дежурная акушерка [33]33
Изменено: спросила дежурная акушерка, входя в платную палату № 17.
[Закрыть].
– Сюд[ ы] а, сюд[ ы] а! Мы – Тимофеевы, к нам! – ответила, приподнимая голову с подушки, крупная рыжая женщина [, широкоплечая, с большим поднимавшим одеяло животом, точно она не родила вчера, а только должна была родить двойню].
[34]34
Абзац помечен Чеховым.
[Закрыть]Лежавшая ближе к дверям молоденькая больная [ курсистка-бестужевка], казавшаяся совсем девочкой рядом со своей соседкой, с любопытством посмотрела на дверь. Вошла старая женщина в большом платке и темном подтыканном платье; [ за] а сней [ шла, отставая и оглядываясь на первую кровать и на акушерку,] маленькая закутанная девочка. Женщина остановилась в нескольких шагах от кровати; [ и] глядя на больную с тем выражением, с каким смотрят на мертвого, [ молча] онасморщила лицо и всхлипнула.
– Ну, здравствуй! Чего плачешь-то? Да поди поближе!
– Вот тебе булочек… – почти шепотом, сквозь слезы сказала посетительница.
[ – Да куды их? Думаешь, здеся нету? «Полосатка»] Феня в розовом платье и с красным бантиком на шее, с [ преобладающим у нее] выражением глупой радости на лице, принесла ширмы и закрыла от молоденькой больной соседей, а с нимии светлое окно, с видневшимся в него голубым осенним небом [35]35
Изменено: в которое видно было голубое осеннее небо
[Закрыть].
Елена Ивановна (в отделении [ как-то] не знали ее фамилии, ребенок был незаконнорожденный [ и отца его записали в билете для посетителей первой попавшейся фамилией Петров или Иванов]) была одна из самых симпатичных [ всем] больных, что редко бывает между платными.
Она вела себя «первой ученицей», как выразился о ней молодой доктор-немец, приходивший в палату каждое утро. Это название так и осталось за ней.
Новая больная, Тимофеева, была жена портного. [ ; у нее были вторичные очень трудные роды, и она] Целый день до прихода мужа онарассказывала Елене Ивановне, как ей дома вступило, [ «в живот – в поясницу, в живот – в поясницу»,]как было трудно рожать, как один доктор не позволил ей походить, а другой позволил… [ и «кабы не он – умереть бы мне и с ребеночком».] До двух часов она только и делала, что поминутно кормила свою крупную крикунью-девочку; а после двух к ней начали приходить посетители: муж, очень скромный веселый человек, [ низко кланявшийся в сторону кровати Елены Ивановны,]и целая толпа родственниц в платочках, с кульками булок и винограду, боявшихся швейцара и не решавшихся садиться на венские стулья; они ходили до самого крайнего срока приема, а вечером, уже после 8 снова пришел муж «на одную минуточку» и тоже принес винограду.
К Елене Ивановне в этот день не пришел никто. И только ученицы, бывшие при ее родах, [ и другие, которым о ней рассказывали,]забегали в палату № 17 и подолгу говорили с [ Еленой Ивановной] ней.Они заставали ее всегда все в той же спокойной позе, с задумчивым счастливым лицом, и снова желание сказать что-нибудь ласковое, приятное больной являлось у каждой, с кем говорила Елена Ивановна [36]36
Изменено: и снова у каждой, с кем только говорила Елена Ивановна, являлось желание сказать что-нибудь ласковое, приятное.
[Закрыть].
Уже после восьми в палату вошла Поля – швейцарка, полная, важная женщина, получавшая очень много на чаи; [ и, став в полуоборот к кроватям, небрежно спросила:]– «В [ 17-ую] семнадцатуюпалату Петров звонили в телефон, – сказала она, – к кому это?»
Елена Ивановна [ (] – она в это время кормила девочку [ )] – вспыхнула и [ слегка двинув головой к двери, точно этим движением она могла через палаты, коридоры и через весь огромный город, разделявший двух людей, говоривших по телефону, приблизиться к тому человеку,] ответила:
– Это ко мне.
– Спрашивают, как здоровье?
– Скажите, что здорова… и…
Она остановилась, посмотрев на девочку, которая, перестав сосать, вдруг полуоткрыла мутный темный глазок и сердито, точно предостерегая, взглянула на мать, – почти шепотом прибавила:
– Больше ничего.
Так прошел первый день. Сегодня солнце светило особенно радостно и празднично. Елена Ивановна лежала, повернув голову ко входной двери, и невольно слушала разговоры за ширмами.
– Дохтур, милый, говорю я ему, дозвольте мне разочек пройтиться, моченьки моей нету! Нет, говорит, нету такого правила!
– Положить бы тебя рожать, так ты бы узнал!
– Да как же можно! Ну, известно, немец, нехристианская душа. Другой пришел, старенький, тот и дозволил, дай ему бог здоровья!
[ – Ишь какую принесла (в добрый час сказать, в худой промолчать) большую, белую!
– А гла́зы-то черные, в папа́ньку! У нас ведь и у мужа черные глаза, это у моей природы белые… Кушай, матушка, кушай, динечка!
О чем бы ни говорили женщины, через несколько минут разговор снова попадал на прежнюю колею, и опять жена портного подробно и с какой-то любовью описывала свои роды.]Эти разговоры [37]37
Изменено: Разговоры эти
[Закрыть]не надоедали Елене Ивановне, не раздражали ее, – наоборот, ей была понятна и близка радость этой женщины; [ ее негодование против доктора, ее полная жалости любовь к ребенку; ей было понятно все это не только потому, что она сама пережила нечто подобное, а еще и оттого, что] все существо ее было теперь полно какими-то новыми хорошими чувствами, [ какой-то] любовью ко всем людям. И [ сейчас] она думала о том, как будет она теперь жить с этими новыми прекрасными чувствами? Как сделать, чтобы огромная любовь к ребенку и еще к одному человеку не помешала ей [ быть справедливой] относиться[ хорошо] [ любовно] справедливоко всем другим людям? [ И как согласить переполнявшую ее душу любовь и желание счастья с тем злом, которое существовало и, вероятно, будет существовать и в ней и кругом нее? В детстве она переживала такое состояние после исповеди. Да, есть зло, есть несчастные, больные, забытые люди, есть сильные и слабые,] Икак же вообщебыть [ с этим], когда так хорошо, светло, так небесно-радостно на душе? Елена Ивановна [ глубоко вздохнула и] готова была почему-то заплакать, но в это время в маленькой кроватке под белым пологом послышалось кряхтенье, и готовые навернуться слезы мгновенно исчезли [ куда-то. Елена Ивановна]. Онаподняла голову и чуткоприслушалась – кряхтенье затихло.
– Нет, Лелик, я не могу, тут чужие! – сказал он мягко, [ но решительно,] и его печальные глаза без слов попросили у нее извинения за этот отказ. – Ну, что же, как ты себя чувствуешь?
– Сережа, посмотри ее! Ма-аленькая! Посмотри, она там спит. Ах, Сережа, Сережа! Как много надо бы сказать тебе!..
Он подошел к маленькой кроватке, поднял полог и все с тем же печальным выражением долго смотрел на маленькое серьезно-спокойное личико, повязанное белым платочком и от этого казавшееся совсем стареньким. Что думал он – неизвестно! Елена Ивановна с кровати тоже смотрела на ребенка, но ее глаза сияли одной только ясной радостью. Потом он опустил полог и сел на стул около кровати. [ Он сидел в позе усталого человека, подперев голову рукой.]
– Что же, Лелик, ты очень страдала?
– Представь, Сережа, не очень, – с оживлением заговорила Елена Ивановна, – я не поверила, когда все кончилось, все время можно было терпеть… И потом все это произошло так быстро!
– Да, разумеется! Рассказы об этих муках преувеличены. Нормальные женщины почти не страдают.
Елена Ивановна посмотрела на него пристальным, слегка потухшим взглядом и опустила глаза. Она много готова была перенести для ребенка и действительно ожидала худшего [ чем это было на самом деле], но слова Сергея: [ задели ее] почему-то не понравились ей.
Помолчали.
– Сережа, а как мы ее назовем? Что ты так смотришь на меня? [ – перебила они себя.]
– Ничего.
Елена Ивановна была хороша и миловидна в эту минуту; глаза ее, щеки, рот – все горело возбуждением, [ точно] какой-то внутренний огонь зажегся за этим лицом и освещал его своим светом. Но он своим мужским взглядом [ видел] уже приметилту перемену, [ котор] какую налагают на женщину первые роды: [ что-то] молодое, чувственно[ е]-задорное исчезло с[ о знакомого] ее милоголица, [ и] появилось взамен этого [ нечто] что-тоновое, духовное, что в эту минуту красило лицо, но в то же время и старило его.
Тебя серенький волчок,
Он ухватит за бочок.
– А что же у вашей знакомой было? – спросила она.
– Рак.
– Отчего?
– От неприятности. Немцы они; ну, конечно, и приехала к ней сестра гостить из-за границы. Он это и поиграй с ней маленько, а она и увидай в замочную скважину. От этого с ней и случилось. А стали резать, и зарезали до смерти.
– Еще станете? – спросила Феня.
– Нет, видно убирай, больше не стану.
Феня унесла чайники.
– Да, дохтора хоть кого так залечат, – продолжала Тимофеева, зевая. – А вот, кажется, и простое дело от пьянства вылечить, а ведь не могут! Вот и мой-то, как я замуж за ево вышла, два года пил.
– Теперь бросил?
– Бросил. Дохтора ничего ему помочь не могли; а приехал странник один, я и стала его просить, чтобы к нам пришел, уговорил бы е[ в] го. Ну, он стал говорить: нехорошо, мол, Гриша, люди вы молодые и должны вы из-за этого друг друга потерять. Стал ему писание читать, в церковь его водить почаще. Говел с ним раза четыре. Ну, потом Гриша и бросил. [ Почесть семь лет жил у нас странник этот, обували мы, одевали его на свой счет.]
Тимофеева опять зевнула и продолжала рассказывать о своем первом ребенке, который умер, о мастерской мужа, о том, как вступило…Елена Ивановна закрыла глаза и тотчас же задремала. Действительность смешалась со сном. Тимофеева еще говорила, а ей отвечал Сережа.
– Тесно у нас, – говорит Тимофеева. – Тут и мастерская, тут и спальня, такое стесненье!
– Нельзя стеснять свободы, – возражает Сережа.
– Я и не буду стеснять, – говорит уже Елена Ивановна. – Но ведь онамаленькая, как же ты ей объяснишь?
– Теперь поздно говорить об этом, – говорит Сережа. Елена Ивановна не видит его лица, но чувствует, какое оно должно быть недовольное в эту минуту.
– Спите? – раздается над ней молодой голос, который тотчас же покрывается тоненьким живым криком: «Ла-а! Ла-а!» Елена Ивановна просыпается всем существом, сон мгновенно отлетает. Над ней стоит стриженая молоденькая бледная девушка [41]41
Изменено: девушка, бледная
[Закрыть]в белом переднике [ со смешно падающими, как у мужика, волосами]. В руках у нее маленький, аккуратно сделанный сверточек, издающий крики.
– Покормите-ка своего птенца, – важно говорит барышня, встряхивая короткими прямыми волосами.
[42]42
Абзац помечен Чеховым.
[Закрыть]Она следит за тем, как Елена Ивановна взяла девочку, как она, волнуясь, устраивала ее у груди, пока та сердито тыкалась в мягкую грудь, сопя носиком, и когда наконец нежная щечка стала мерно вздуваться и опускаться от сосанья, а Елена Ивановна подняла на дежурную свои сияющие глаза, – та невольно спросила ее:
– Ну, что, хорошо?
– Да.
– А не скучно?
– Нет, нисколько, – почти шепотом ответила ей Елена Ивановна, кося глаза на девочку.
– А то попросили бы разрешение у доктора, я бы вам достала что-нибудь порядочное почитать – «Воскресение», например.
Елена Ивановна представила себе читанный ею роман, и он показался ей теперь таким невыносимо-трогательн[ о] ым,прекрасным, что слезы сжали ей горло. Она отрицательно покачала головой [ и, сдержавшись, ответила]:
– Нет, спасибо, мне право не скучно.
– Я у вас нынче дежурю. Насытится, так позвоните меня.
И дежурная вышла в коридор.
Елена Ивановна осталась одна со своим счастьем. Если бы она не стеснялась выражать свою любовь, [ она бы] тоглядя на пушистое маленькое личико, с волосатым лобиком и приподнятыми вверх закрытыми глазками, такое нежное, крошечное [ , что казалось невероятным то, что она может каждую минуту поцеловать его], – она бы тоже, как соседка, говорила [ ей]: «Голубчик мой беленький, желанная моя! Скоро домой поедем, ро́дная. Папа ванночку купит, колясочку!» Но вместо этого бесконечного ряда ласковых [ имен] словона только шепчет: «Дружочек мой…» и не может продолжать, потому что, скажи она еще одно слово – слезы хлынут у нее из глаз неудержимым потоком. Она замолкает, и только сияющие коричневые глаза говорят о всей ее любви и нежности. Елена Ивановна смотрит на плавно поднимающуюся и опускающуюся щечку, это мерное движение убаюкивает ее, и через несколько минут она дремлет, прислонясь щекой к маленькой черной головке. Одна рука ее обхватила маленькое тельце, другая лежит на одеяле. На белой подушке резко выделяются темные волнистые волосы, нежное лицо и темная тень ресниц. Лицо ее спокойно и счастливо, дыхание мерно и ровно.
Два дня тому назад без криков, почти молча она родила крошечную живую девочку. Было что-то торжественно-радостное, хорошее и достойное уважения в этих молчаливых родах; и это сознавала и акушерка, добродушная маленькая некрасивая женщина, и стоявшие полукругом молоденькие ученицы, и молодой доктор, державший больную за руку и глядевший на нее с какой-то грустной нежностью. Когда же [ это молчаливое страданье окончилось] роды окончились,и раздалось сначала точно кряхтенье, а потом тоненький, но живой крик: «Ла-а! Ла-а!», и акушерка виноватым голосом сказала: «Девочка!» (она знала, что Елене Ивановне хотелось мальчика [ , и было как-то совестно за эти терпеливые роды не наградить ее так, как ей хотелось]), – все придвинулись к кровати, и у всех было одно желание – сказать больной что-нибудь хорошее [ и], ласковое.
– Да неужели конец? – спросила Елена Ивановна слабым радостным голосом; и выражение ее коричневых сиявших радостью глаз и всего лица с нежно разгоревшимися щеками было такое, [ точно] как будтоона не страдала, а пережила что-то хорошее, к чему хотела бы вернуться. – Мне было совсем не трудно!
Одна из учениц, толстенькая розовая девушка [ купеческого типа] со множеством браслеток и с нарядными золотыми часиками поверх халата, не выдержала и расплакалась.
– Милая, милая вы моя, – сказала она, лаская тонкую руку Елены Ивановны.
И после родов больная слушалась доктора, не просила лечь на бок, не беспокоила дежурных звонками, на все вопросы отвечала, что ей хорошо и ничего не нужно. И то, что ей было хорошо, и она действительно не нуждалась не только в лекарствах, но вообще ни в чем [ внешнем], чувствовалось без слов при одном взгляде на нее, спокойно лежавшую на спине под белым одеялом, в белой казенной слишком широкой [ ей] кофточке, с вытянутыми поверх одеяла тонкими руками без колец и глубокоспокойным, задумчивым и нежным лицом.
Назавтра после родов Елены Ивановны, рано утром, когда «полосатки» еще мыли полы и в коридорах, борясь с дневным полусветом, желтовато-красными пятнами горели лампы, – по лестнице и в коридоре раздалось тяжелое топанье и затем двое огромных мужиков внесли на носилках новую больную; [ за ними] потомученица внесла ребенка. Платных рожениц не кладут по двое, и акушерка долго объясняла Елене Ивановне, что это отступление от правил были вынуждены сделать, так как мест мало, извинялась, убеждала, что лежать вдвоем еще лучше, веселее, а Елена Ивановна терпеливо слушала ее и [ после каждого нового убедительного периода] повторяла, что она очень рада и что ей никто не помешает.
За ширмами прощались.
– [ Да] Выписывайся поскорее! Дома-то все лучше.
– Да как же можно! Одно слово – дома! Опять и мальчишки у нас, сама знаешь, Гриша в лавку уйдет, они балуются, не работают. Беспременно проситься стану.
– Прощай, Зинушка!
– Прощай, тетушка!
Минут десять и в коридоре и в палате было тихо. Жена портного убаюкивала девочку, Елена Ивановна дремала, закрыв глаза. И вдруг среди этой тишины она уловила звуки, которые [ с] охватили ее [ за сердце] до боли острым, почти невыносимым чувством счастья: по длинному коридору кто-то шел мягкими медленными шагами. Елена Ивановна приподнялась на кровати, коричневые глаза ее засияли, по худому нежному лицу разлился горячий румянец.
– Палата [ № 17] номер семнадцатый? – спросил тихий голос.
– Самая последняя направо.
В комнату вошел высокий господин в черном длинном сюртуке и в pince-nez, красивый, бледный, с [ о странно неподходящими для такого визита] печальными усталыми глазами.
– Сережа! – сказала Елена Ивановна задыхающимся голосом.
[38]38
Абзац помечен Чеховым.
[Закрыть]Она засмеялась, и в то же время глаза ее заблестели отслез[ ами]. Она взяла его руку и потянула к себе доверчивым любящим движением, ожидая, что онпоцелу[ я] ет ее.[ Гость отвел ее руку и опустился на стул.]
Елена Ивановна почувствовала значение этого взгляда.
– Нет, скажи мне, отчего ты так странно посмотрел на меня? – покраснев, повторила она [39]39
Изменено: повторила она, покраснев
[Закрыть].
– Я сказал, что ничего, и оставим это.
Они опять замолчали, но на этот раз в молчанье почувствовалось что-то жесткое, недоброе, точно замолчали они для того, чтобы не сказать друг другу неприятного.
– Что же, скоро домой? – начал он. – Здесь так неприятно, точно в тюрьме. И потом, отчего ты не одна?
– Нет, уверяю тебя, Сережа, здесь хорошо. Так все внимательны, добры, и за нее я спокойна. А соседка мне нисколько не мешает, она такая интересная, типичная!
– Ну, меня бы это страшно стесняло… [ на твоем месте. Мне и теперь неприятно.]
– Отчего? Она очень славная, так мучилась, бедная! Ребенок вдвое больше нашей, зовут ее Лелей. А как же мы нашу назовем, Сережа?
– Да не все ли равно?
Елена Ивановна мечтательно посмотрела на маленькую кроватку. Тут, за белым пологом лежало [ то] существо, которое пробуждало в ней какие-то новые надежды, новые ожидания; и от этих ожиданий жизнь, начавшая одно время казаться ей изжитой, слишком понятной, состоящей из отдельных мелочей, – опять стала представляться загадочной, цельной, новой – одним словом, такой, какой она всегда кажется в своем начале.
– Ты будешь ее любить, – тихонько сказала она, и нельзя было понять, задавала ли она вопрос или просто мечтала вслух.
– Я вообще люблю детей, – ответил он, – что за несправедливость любить своих детей больше чужих.
Елене Ивановне хотелось сказать, что тогда и любовь к взрослому – несправедливость; [ но это возражение замерло в ней;] несколько минут она смотрела на его бледное лицо с устало прищуренными глазами, стараясь видом этого дорогого лица усмирить протест в своей душе; она знала, что для этого ей нужно было посмотреть на его висок с вьющимися седеющими волосами, почему-то этот висок всегда вызывал в ней особенную любовь и жалость.
– Ты устал, Сережа? – спросила она [ , а глаза ее договорили остальное, что пряталось в душе].
– Да… впрочем, я как-то привык к усталости; и больше физической усталости меня тяготит этот недостаток свободы, эта необходимость делать не то, что хочется.
Елена Ивановна подавила вздох и слегка отвернулась.
– В университете опять неспокойно, – заговорил он. – Наше положение самое дурацкое, пока ничего не выяснилось, мы, разумеется, читаем, а уже начинаются враждебные взгляды, свистки…
Елена Ивановна [ оторвалась от своих мыслей,] посмотрела на него, стараясь проникнуть в настоящий, не внешний смысл его слов и, точно проснувшись, переспросила:
– Что ты сказал? Ах, да, об университете! Расскажи, пожалуйста, что у вас там?
[ И разговор перешел на общие темы.]
Часы в коридоре гулко пробили пять.
– Ну, Лелик, я должен идти, надо пообедать, потом заседание. И завтра я прийти не могу.
Она испуганно смотрела на его протянутую к ней руку, не веря, что он уже прощается.
– Разве нельзя еще немного? – слабым голосом произнесла она.
– Не могу, Лелик, ты же знаешь… – Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Потом подошел к маленькой кроватке и, подняв полог, опять молча посмотрел на маленькое пушистое личико. И затем так просто, как будто тут не было ничего особенного, он взял шляпу и вышел…
После его ухода Елена Ивановна несколько минут лежала неподвижно. В ее счастливой ясной душе что-то смутилось, точно в спокойную воду пруда бросили камень, и по ней заходили, разбегаясь, волны… [ Такие же неспокойные волны задрожали в ней…] Стемнело, в коридоре уже зажгли лампы, а в палате № 17 было полутемно. Жена портного тихонько напевала:
Откуда-то доносился [ звонкий] звук перемываемой металлической посуды, сквозь который прорывались голоса и смех. Дневная жизнь в палате и коридоре кончалась, вечерняя еще не началась. А в этом затишье, которое приносят с собою сумерки, всегда сильнее говорят темные мысли…
«Полосатка» Феня внесла лампу и в другой руке поднос с чайниками.
– Чайку вам испить, – сказала она, расплываясь в своей обычной праздничной улыбке.
– Вот, Феня, это отлично, что вы принесли чай, – сказала Елена Ивановна, радуясь свету, от которого мгновенно стало светло и на душе.
– Спит? – спросила Феня [ , у которой твердо установился шаблон разговора с матерями].
– Да, Феня, и давно уже, с половины второго, – ответила Елена Ивановна, принимаясь за кружку с молоком [ , которую Феня поставила ей на грудь], – я уж соскучилась даже.
– Придеть время – и встанеть, – поддерживала разговор Феня.
– Твоя-то хошь время знает, – заговорила жена портного, говорившая тывсем в палате, начиная с докторов и кончая полосатками, а моей только и дела что [ на сиське висеть] сосет…Что, Феня, матушка, чайку-то даешь?
– Сию минутую.
Феня приняла кружку у Елены Ивановны и, налив ей ча[ й] ю, ушла за ширмы.
– Што это дохтурши сегодня не было? – спросила у ней Тимофеева.
– В перционнойбыли, женщине одной там руку резали.
– Ах ты, страсти! Уж операции эти – беда одна!
– Так что же! Порежут это, а потом и заживеть, – объясняла Феня, воспитанная в духе уважения к хирургии.
– Заживет! Моя знакомая одна от операции в сырую землю пошла. Не спите? – обратилась она к Елене Ивановне.
– Нет, нет!
[40]40
Абзац помечен Чеховым.
[Закрыть]Елена Ивановна протянулась под полотняной свежей холодящей простыней и, сознавая снова всю полноту и ясность своего счастья, своего вновь пришедшего в равновесие настроения, приготовилась слушать рассказы Тимофеевой. Не все ли равно, что та станет говорить? Елена Ивановна будет слушать, изредка вставляя вопросы, будет смотреть на белый потолок, на ясный круг [ на нем] от лампы, на маленькие кроватки под белыми пологами. Может быть, будет слушать, а, может быть, просто помечтает [ под монотонные рассказы], и мечты эти будут неопределенные, глупые, детские, вроде того, что у девочки черные глазки [ , и, верно, ей пойдет красный капор]…
Жизнь – несправедливая, беспощадная, платящая за месяцы счастья годами серых дней и не[ сча] настья, – забыта, и только прекрасное, как рассвет нового дня, настоящее грезится ей.
[ Да и не в том ли счастье, чтобы обманываться и не знать будущего?..]






