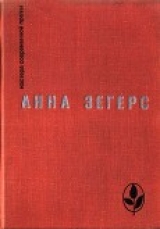
Текст книги "Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре. Транзит. Через океан"
Автор книги: Анна Зегерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Она дождалась, пока потушили огни и посетители разошлись. Ей пришлось еще подождать, пока мы спрятали нашу женщину в ящик и передали ночным сторожам. Я пригласил Эмму поужинать. Но она уже поужинала у родственников. Следующей ночью она должна выехать домой, а этот день она себе освободила. Госпожа Альтмайер – это была тетя Эльфрида, Эмма всегда называла ее по фамилии – живет в другом конце города, с тех пор как отошла от дел. «Я работаю в отеле, – сказала Эмма. – По мне это лучше, чем служить у хозяйки. Нелегко мне было с вами. А теперь, когда я хочу, меня может заменить кузина».
Мне вспомнилось, как нам в свое время не понравилась эта Эмма. И тем не менее вскоре она стала незаменимой: мы посылали ее друг к другу с записками и поручениями.
Я выпил уже несколько рюмок, когда Эмма медленно и угрюмо начала: «Мой шеф всегда получает список приезжих. На прошлой неделе он позвал меня: „Посмотрите-ка, Эмма, может быть, вы знаете таких – Дальке и Трибель. Они прибудут на выставку в Сан-Паулу…“
Нет нужды, дорогой мой господин Эрнесто, рассказывать вам, что означал для Марии Луизы ваш отъезд. Одиночество – яд для Марии Луизы. Я, например, я всю жизнь одна. Я не привыкла к обществу.
Когда вы уехали, Мария Луиза не плакала и не звала вас, она буквально застыла, это длилось не часы, а дни. Ее тетка не знала, что делать, она дрожала за жизнь девушки и наконец позвала Элизу. Вы еще помните Элизу, ее подругу?
„У вас нет рояля, – сказала Элиза. – Пойдем к нам, и я сыграю тебе все, что мне нравится. Не валяй дурака. Поужинаешь с нами. Я пригласила друзей послушать музыку“.
С тех пор Мария часто ходила к своей подруге Элизе.
Среди гостей Элизы почти всегда бывал Родольфо, вы знаете, он молился на Марию Луизу. Но она и слышать о нем не хотела. Из-за вас. Он иногда до глубокой ночи стоял у наших дверей. Какие цветы он ей присылал и какие редкостные подарки! А она только смеялась. Из-за вас. Потом она стала часто уходить по вечерам к своей подруге.
Несмотря на это, она ужасно ждала ваших писем. И часто бегала на почту спросить, не затерялось ли письмо. Когда приходило письмо, написанное вашей рукой, она жадно, как изголодавшаяся, прочитывала все до последней буковки, даже адрес. А потом бросалась на кровать.
Однажды я спросила ее: „Что же будет? Вы поедете к нему или он вернется сюда?“ – и тут ее прорвало. Сначала тихо, потом все громче и, наконец, страшно возбужденно она призналась мне, именно мне, потому что больше у нее никого не было – Элиза для этого, видно, не годилась, тетка тоже, а Родольфо тем более, – к тому же ей нужно было выговориться по-немецки: „Кто знает, увидимся ли мы! Откуда ему взять столько денег, чтоб приехать ко мне или выслать их сюда, чтоб я приехала к нему? Все, что мы придумали, – ребячество. Но он все еще верит, что мы встретимся, и даже скоро. И я, когда читаю его письма, его исполненные удивительной верой письма, я сама начинаю верить, что наша встреча близка…“
Шли дни. Проходили недели и месяцы, из них вырос год. И словно во сне, из этого года родился новый и, хотя никто об этом не просил, третий.
Дорогой господин Эрнесто, вы же знаете, что одиночество для Марии Луизы было мукой. Часто она распахивала двери и звала: „Эрнесто!“
Не буду больше говорить об этом времени. Думаю, под конец она была убеждена, что нет пути от вас к ней или от нее к вам. Вы правда хотите, чтобы я рассказала вам все?
„Конечно, рассказывайте все, как было…“
И вот однажды ко мне пришли Родольфо и Мария. Ее рука лежала у него на плече. Она сияла. Или мне показалось так? Она сказала: „Ты первая, кому мы доверяем нашу тайну: мы жених и невеста…“
Хотя я всегда сомневалась в том, что вы вернетесь, я посмотрела на Марию как на безумную. Ведь она была ваша, и только ваша невеста. Перед богом и людьми. Иначе быть не могло. Не деньги на дорогу, а свое богатство – дом на руа Дантас дал ей Родольфо.
Как-то она сказала мне: „Каждую ночь – одна. И сколько еще таких ночей?“ Больше она никогда так не говорила. Но я часто слышала, как горько она плачет. Только по ночам. Словно теперь она узнала, что такое одиночество. Да, она горько плакала и после помолвки.
Она по-прежнему показывала мне ваши письма. А однажды сказала: „Если ехать к нему, нужно ехать немедленно. Элиза одолжит мне деньги, Эрнесто ей тотчас вернет их. Как ты думаешь? Действительно, я просто возьму и поеду“.
Я совсем не уверена, что Элиза одолжила бы ей деньги. Но меня радовало, что она снова верит в вашу встречу. Потом она перестала показывать мне письма. Ее лицо мрачнело, когда она их читала. Один раз она воскликнула: „Он не понимает, что на самом деле возможно и как добиться, чтобы это стало возможным“.
На свадьбу я пошла полюбоваться ее красотой. Вообще-то я не придаю значения красоте. Но Марию Луизу я любила как собственное дитя. Ее лицо было белым как снег. Здесь совсем не бывает снега. Ну, как цветы в ее волосах. Она надела венок невесты с достоинством и по праву.
После свадьбы я много помогала ей во вновь отделанном доме на руа Дантас. Я оставалась там ночевать, когда они с мужем уезжали – это бывало довольно часто – и когда нужно было особенно изысканно принять гостей. Господин Родольфо придавал большое значение хорошо поставленному дому. Мария Луиза быстро освоилась со своим положением. Я не помню, чтоб она плакала после свадьбы. Нет, больше она не плакала.
Но немного спустя она однажды подсела ко мне в уголок за кухонным шкафом, это и прежде было ее любимое место, и внезапно, как гром среди ясного неба, прозвучали тихие и страстные слова: „Ах, Эмма, что бы я делала без тебя! Ты знаешь все мое прошлое. Моя теперешняя жизнь невыносима“.
Я спросила: „Разве у тебя недостаточно драгоценностей, которые можно продать? Тайком. Разве ты не можешь просто уехать к нему или вызвать его сюда, к себе?“ Она ответила: „Ты что, Эмма, не знаешь законов этой страны? Здесь нет развода. Мне же никто не продаст билета без разрешения Родольфо. А если он приедет сюда, а я – жена Родольфо! Что это будет за жизнь!“
Она снова, как прежде, стала ждать ваших писем. Я следила, чтоб Родольфо их не перехватил.
Эрнесто, почему вы не приехали?
Однажды ее муж настоял на том, чтоб устроить большой торжественный прием. Мария Луиза – я слышала от нее и видела это по ней – презирала гостей, которых господин Родольфо обязательно хотел пригласить. Он ведь был коммерсантом и приглашал тех, кто был ему полезен в деловом отношении. Мария Луиза возражала. Потом уступила. Мы приготовили угощенье. Мария Луиза была великолепно одета – в платье золотистого цвета – и напоминала одну из статуй церкви в Белу-Оризонти. Она попросила меня остаться и переночевать у них, потому что после такого праздника в доме царит дикий беспорядок. Ну а я, благо я привыкла работать в отеле, убираю все очень быстро. Это для меня не составляет никакого труда. Раз-два – и все снова, как было, чисто и красиво.
Ладно, ради Марии Луизы я осталась у них. Я думала, она захочет выспаться. Но нет. На следующее утро – она всегда рано вставала – она появилась у меня в кухне с купальным костюмом в руках. Она сказала: „Эмма, я быстренько выкупаюсь. А ты приготовь пока кофе. Мы выпьем вместе на кухне, как бывало“.
Она отсутствовала не больше двадцати минут – вы знаете, руа Дантас у самого моря, – как вдруг в дом вбежали незнакомые взволнованные люди. „Здесь живет эта красавица?“ И тут же внесли Марию Луизу. О господи боже! Ее выбросило на скалы. Она была такой же, как всегда. Только бледной, как на своей свадьбе.
Люди спорили: просто ли она утонула и ее потом выбросило на берег или сразу ударило волной о скалы.
Погибло дитя, которое я любила, как свое собственное, хотя у меня и не было своих детей. Я думаю, что собственных детей не любят так, как я любила Марию Луизу.
Именно вы, господин Эрнесто, должны понять, что это не случайность. Рано утром она выходит из дома и живой не возвращается. Конечно, у берега есть крутые скалы. Но есть и пологие, по которым молодежь любит скользить вниз в воду. Некоторые проплывают между скал в открытый океан.
Мария Луиза хорошо все это знала. Она точно знала, где водовороты. Она нарочно выбрала место, которое искала.
Эрнесто, почему вы не приехали вовремя! Может быть, „вовремя“ было еще два года назад. Я имею в виду, за два года до ее смерти. А теперь вы вдруг появились, когда уже поздно. Раз вы приехали теперь, значит, могли приехать и раньше…»
С этими словами Эмма поднялась. Она даже поглядела на свои ручные часы. Видно, говорить вот так напоследок, на ходу, то, что важно другому, вошло у нее в привычку. Она слабо пожала мне руку. Я сделал шаг к двери и спросил, где живет теперь Элиза. «В пригороде. У нее есть дом и сад».
Хотя Эмма была сухой и, как я полагал, неспособной ни на какие чувства, она сумела сделать так, чтобы я понял свою вину теперь и запомнил ее навсегда.
Не знаю, как я смог продолжать работу на выставке после рассказа Эммы. Я переводил объяснения Дальке, кое-что добавляя к ним, и раздавал проспекты. Выставочный комитет пригласил нас в конце недели на прощальный банкет. Для сотрудников выставки были также запланированы поездки по Сан-Паулу и на одну из больших ферм, чтобы показать нам, как растет кофе, как его собирают и сушат. Потом на ферме должен был состояться обед – простая сытная еда и кофе сколько душе угодно.
У меня не было ни малейшего желания принимать в этом участие. И хотя я никогда не испытывал особой симпатии к Элизе, я решил разыскать ее до отъезда. Я понимал, что больше мне не представится возможности ее увидеть. Еще мальчиком я вместе с товарищами по школе бывал на кофейных плантациях у их родственников. Я знал, как растут кусты кофе – на одних уже висят зрелые плоды, другие еще цветут, как весной. Мне хорошо были знакомы запах очищенных сохнущих бобов, и деревенские песни, напоминавшие о временах рабства, и господский дом, построенный в колониальном стиле, обычно хорошо сохранившийся.
Я извинился: перед отъездом мне нужно посетить знакомых в Рио. Затем попросил рабочих тщательно упаковать нашу стеклянную женщину; я сам внимательно наблюдал за всем и очень удивился, когда профессор Дальке вдруг гневно накинулся на меня. Что это мне вздумалось тащить с собой ящик? Многие гости желали бы еще поглядеть на экспонаты без посетителей, в тишине и покое. Он же сам дал слово в Берлине не спускать глаз с нашего экспоната.
Трудно было предположить, что Дальке может настолько потерять власть над собой, чтобы кричать на меня, как на школьника. Его поведение показалось мне в высшей степени странным, совершенно недопустимым и даже подозрительным, хотя я сам не мог объяснить почему. К счастью, рабочие, которые куда-то спешили, не обращая внимания на Дальке, забили длинный ящик гвоздями.
И пока Дальке, багровый и заикавшийся от ярости, требовал распаковать наш груз, ящик, согласно моему указанию, был уже на пути к вокзалу, а может быть, даже и в поезде Сан-Паулу – Рио. Об этом я не без иронии сообщил Дальке, а так как большое горе делает, как известно, нас неуязвимыми к наглости, подлости и непорядочности, я спокойно, но резко предложил Дальке избрать в разговоре со мной другой тон. Наверно, он пожалуется на меня в Берлине, подумал я мельком, но меня это нимало не заботило.
Я поспешил на вокзал.
Раньше Элиза жила недалеко от меня и Марии, на улице, параллельной руа ду Катети, в одном из тех странных, высоких и узких домов, которые, казалось, все еще заселены людьми времен империи. Элиза ждала нас обычно на своем, словно приклеенном к дому балконе, где нельзя было сидеть, а можно было только стоять.
Теперь она переехала в квартал Ипанема. Ее маленький дом имел привлекательный вид, хотя при нем был не настоящий сад, как я понял со слов Эммы, а палисадник, отгороженный от улицы высокой решеткой. Бугенвилеи росли только у самого дома, а среди маленьких цветущих миндальных деревьев стояли столик и кресла, приготовленные для гостей. Когда я открыл калитку, раздался не звонок, а приятная музыкальная фраза, которая словно бы приглашала войти, и ощущение неловкости прошло.
Элиза выглядела так же, как всегда. Только была очень тщательно одета. В этой стране часто встречаются люди своеобразной красоты, возникшей от смешения различных племен. Что смешалось в семье Элизы, я не знал. Я помнил ее уродливой, и такой же уродливой она показалась мне и теперь. У нее были сильно выступающие скулы и ключицы. Ни единая черточка доброты и любви к ближним не смягчала жесткости ее черт. Я подумал: «А когда она играет, кажется, что слушаешь волшебницу. Должно быть, я всегда был к ней несправедлив».
Мы сели за садовый столик. На столе стояли напитки и сладости. С чувством раскаянья я смотрел на ее красивые руки с длинными пальцами. Она заговорила первая:
«Ты мало изменился, Эрнесто. Конечно, ты пришел, чтобы поговорить со мной о прошлых временах. Какими мы были веселыми, когда учились в школе. Но счастья нам хватило ненадолго. Впрочем, мне-то жаловаться не приходится».
Я ответил:
«Да, ты права. Я пришел, чтобы еще раз поговорить с тобой о Марии Луизе. Эмма, бывшая служанка госпожи Эльфриды Альтмайер, рассказала мне все».
«Тогда мне не придется описывать тебе, как произошло несчастье».
«Ах, Элиза, если бы я приехал раньше! Мы бы нашли выход. Если бы я приехал вовремя, не было бы этой свадьбы. И она бы в отчаянии не покончила с собой. Какой смысл говорить о моих собственных страданиях, об упреках, которыми я вечно буду себя осыпать? Мария Луиза покончила с жизнью. Этого бы никогда не случилось, если бы мы с ней вовремя встретились. Я не думал, что время так коварно».
Элиза вскочила:
«Что ты говоришь, Эрнесто? Откуда ты взял, что Мария Луиза покончила с собой? Кто вбил тебе в голову эту историю с самоубийством? Уж не Эмма ли? Она всегда любила все запутывать и сочинять.
Я тебе кое-что скажу, Эрнесто, даже если тебе будет не очень приятно услышать это. За день перед тем, как случилось несчастье и она утонула в том месте, где до нее уже утонуло много людей, в доме Родольфо был праздник. Я тоже была среди гостей. Мария Луиза выглядела необыкновенно красивой. Она мне шепнула: „Элиза, я так счастлива“. Примерно за неделю до того она мне говорила: „Элиза, я никогда не знала, что такое счастье, что такое настоящая любовь. Даже не подозревала, что бывает такое счастье. Ты еще помнишь Эрнесто? Мы с ним дружили. Наша школьная дружба продолжалась очень долго. Сегодня я понимаю: слишком долго. Но моя жизнь с Родольфо – не школьная дружба, это радость, подлинная радость“. Она обняла меня и сказала: „Мне и во сне не снилось, что бывает так хорошо“.
И теперь кто-то утверждает, что это было самоубийство! Ложь и бессмыслица! Тебя, может быть, обидели мои слова. Но всего важнее правда. Нет, Эрнесто, это был несчастный случай. Ты можешь утешаться, мой милый, даже если тебе это причиняет боль, ты можешь утешаться – она вовсе не думала, что счастье ее жизни заключается в тебе. А я, какая уж я есть, я говорю тебе чистую правду. Ложь приносит больше страданий, чем самая тягостная истина».
Я молчал в смятении. Она сказала:
«Я хочу показать тебе мой дом».
Она повела меня в дом и показала несколько комнат. Я не замечал ничего вокруг. Один или два раза она садилась за рояль и играла мне, я рассеянно слушал ее игру.
Потом я вернулся в отель.
Там я нашел письмо, написанное незнакомым почерком. Я взглянул на подпись: Адальберт Дальке.
Несколько удивившись, я принялся читать довольно длинное послание. В первую минуту я подумал, что оно вызвано столкновением, которое произошло у нас в Сан-Паулу. Но скоро я понял, что означает это письмо. Дальке просил у меня извинения за то, что прощается со мной таким образом. Ничего другого ему не остается. Устное прощание повлекло бы за собой неприятные осложнения. Я пытался бы уговаривать его, а это бесполезно, или должен был бы последовать за ним. Еще во время нашей поездки он заметил, что для меня, к сожалению, подобный шаг невозможен. Он принял профессуру в Монтевидео. Но судя по всему, через год переедет в Соединенные Штаты, как только с ним заключат договор. Мне он желает счастливого возвращения, раз уж я так хочу, счастливого будущего в стране, которую я избрал для своей работы.
Теперь мне стало ясно, что Дальке хотел увезти стеклянную женщину в Монтевидео…
На обратном пути я не думал о Дальке. Я думал о разговорах с Эммой и Элизой. Никогда мне не узнать, правду ли говорила Эмма. Я чувствовал только, что Элиза своим недружелюбным объяснением хотела посеять во мне зло, от которого я не смог бы освободиться. Но ее слова не произвели на меня впечатления. Я знал, что чувствовала Мария Луиза на самом деле, и об этом не сказал ни Эмме, ни Элизе: у меня было письмо, написанное ею спустя много времени после свадьбы.
С нерушимой любовью и бесконечной печалью думал я о Марии Луизе во время всего долгого пути на родину. И эти чувства никогда не покидали меня.
Обратный путь я проделал тоже пароходом – из-за стеклянной женщины, которую Дальке не удалось захватить с собой к месту своей новой деятельности.
Юнга, всегда звонивший к обеду, остановился позади нас и так вдруг ударил в гонг, словно мы были глухие. Я взял Трибеля под руку, и мы пошли к столу. Он еще успел сказать:
– Все было бы ясно, если так можно сказать об истории, которая кончается смертью. Но моя история еще не кончена. Не сердитесь, Хаммер, именно из-за того, чем она завершилась, я непременно должен рассказать вам все. Мне хочется узнать ваше мнение. Может быть, тогда я успокоюсь, хоть немного успокоюсь, хоть на время. Откровенно говоря, всю эту долгую историю я рассказывал так подробно ради ее истинного конца. А истинный конец – я уже об этом не раз упоминал – наступил за день до нашего отъезда. Последняя часть моей истории будет короткой, потому что она – заключение. Я никогда не перестану об этом думать. Но сначала хочу выслушать ваше мнение, Хаммер. Нам еще долго плыть, так что времени хватит. Если вы позволите.
Я сказал:
– Позволите? То, что вы рассказали, здорово меня захватило. А теперь, если вы говорите, что истинный конец еще впереди, и если мое мнение может хоть чем-нибудь вам помочь, разумеется, я хочу все знать…
Мы, как обычно, сели за разные столы. Я слышал, что Барч обратился к Трибелю:
– Пойдем ночью на мостик, а? Я рассчитал, какие созвездия северного неба сменят сегодня южные.
Я спросил, можно ли мне присоединиться к ним. Барч рассмеялся:
– Ну о чем вы спрашиваете?
– Когда чем-нибудь занимаешься или что-нибудь рассказываешь, настраиваешься на определенного человека, а третий может помешать.
– Нет, Хаммер, вы нам не помешаете. Ни нам, ни Большой Медведице.
Ночью на мостике Барч показал нам, что Южный Крест закатился, остался за нашей спиной в том полушарии, которое мы окончательно покинули.
Трибель заметил:
– Первыми завоевателями на севере были викинги. Они задолго до других народов достигли берегов Северной Америки.
Мы пытались перерисовать самодельную карту звездного неба, начерченную Барчем, когда из штурманской рубки, расположенной напротив, вышел первый помощник и незаметно подошел к нам. Его заинтересовали объяснения Барча, и он слушал улыбаясь. Он хорошо знал немецкий язык и, глядя на рисунок, понимал все. Потом пригласил нас зайти в штурманскую рубку, где молодые моряки каждую ночь проверяли курс судна по положению звезд.
Он спросил Барча, свободно говорившего по-польски, кто мы по профессии, и ответ пришелся ему по душе.
Первый помощник согласился с нами, что морякам и несколько веков назад приходилось заниматься тем же. Но и в наши дни им тоже необходимо постоянно совершенствоваться. И хотя наше судно имеет автоматическое управление и при малейшем отклонении от курса раздается сигнал, моряки-стажеры должны, как в древние времена, уметь прокладывать курс по карте и определять по звездам местонахождение судна.
Молодые моряки были так поглощены своим делом и так внимательно слушали замечания первого помощника, проверявшего их работу, что не обратили на нас внимания.
Здесь царила полная тишина, не то что в наших пассажирских каютах, где постоянно шумели и болтали. Только такой сумасброд, как Войтек, бушевавший сейчас в моей каюте, мог променять сосредоточенную тишину, присущую этой профессии, на бессмысленную суету в погоне за деньгами.
Первый помощник рассказал нам, что окончил только восьмиклассную школу. Сначала он плавал юнгой. Его манило море. К первому экзамену он готовился на борту в свободное время, а вскоре затем и к остальным. Один из юнг внимательно слушал. У него было спокойное серьезное лицо, лицо моряка…
На следующее утро Эрнст Трибель продолжил свой рассказ:
– В Берлине мне пришлось написать отчет не столько о выставке, сколько о том, что произошло с Дальке. Меня резко упрекали за то, что Дальке сбежал, так сказать, у меня на глазах. Но тут вмешался Гейнц Шульц, инициатор нашей совместной поездки. У него был хорошо подвешен язык – я в этом убедился еще когда-то в студенческом общежитии, – и он никогда не боялся высказывать свое мнение. Не дожидаясь, покуда ему дадут слово, он заявил, что не один я, Эрнст Трибель, ошибался в оценке этого проклятого Дальке, да и не мог же я в течение всей поездки водить его за собой на привязи.
И все-таки мне не прекращали задавать бессмысленные вопросы: почему я не разгадал раньше намерения этого человека, о чем мы разговаривали во время поездки, с кем Дальке общался и тому подобное. Стали выяснять, кто рекомендовал Дальке в эту поездку и именно меня в качестве его спутника. Когда выяснилось, что профессор Эмме – лучший друг Дальке, многие остолбенели. Похоже было, что теперь они начнут сомневаться, достоин ли доверия сам Эмме. К счастью, во время всех этих разговоров я сохранял спокойствие. Но окружающие снова отдалились от меня, словно я лишь недавно сюда переселился. Они снова стали для меня чужими. В годы моего студенчества, когда я жил в общежитии, мне было легче. Тогда ясно чувствовалось, кто остался нацистом, а кто окончательно рассчитался с прошлым, кто был готов начать новую жизнь. Тогда люди гораздо меньше таили в себе и легче выкладывали все, что думали.
Во время одного длинного, совершенно бессмысленного вечернего заседания, когда все строили догадки насчет Эмме, поскольку Дальке и его образ мыслей теперь были ясны, мой знакомый Гейнц Шульц не выдержал. Он бросил какую-то злую реплику, которая могла только затянуть это так называемое обсуждение, но тотчас умолк и молчал до самого конца. А когда мы вместе возвращались домой по ночной улице, ему еще раз изменила сдержанность и он сказал мне с яростью: «Если б я знал, что ты вернешься, что ты вовсе не намерен оставаться там, я бы не стал устраивать тебе эту поездку».
Я промолчал. В его словах я услышал отвратительное двуличие. И не особенно удивился, когда год спустя этот Гейнц Шульц вместе со своим профессором Эмме улетел из Западного Берлина в Лондон и остался там…
Несмотря на все переживания, я закончил за это время диссертацию. Теперь предстояло решить, где лучше всего специализироваться по терапии, и я стал искать место врача-ассистента.
Я рассказываю вам о мелочах и пустяках, но вы увидите, что даже все это на вид такое простое, само собой разумеющееся вело меня к определенной точке. К последнему вечеру, к той встрече, которая выпала на мою долю в стране, откуда мы сейчас возвращаемся. Эта страна словно не хотела меня отпускать, пока моя юность не вспыхнет снова вихрем искр, чтобы погаснуть навсегда, погаснуть и оставить пепел неразрешимых сомнений…
До открытия Института тропической медицины в Ростоке было еще далеко, но у меня была возможность заниматься ею самостоятельно. Кое-какой материал был собран в Берлине и Лейпциге, время от времени там читались лекции по тропической медицине. Но меня тогда совсем не тянуло в большой город. Я понимал, что плохо знаю, пожалуй, даже совсем не знаю страну. И невольно обращал внимание на все объявления о работе в маленьких городах, даже в деревнях Тюрингии и в Рудных горах, хотя и сомневался, удастся ли мне соединить разные мои стремления. Я написал в больницу в Ильменау, где была вакансия ассистента. Название «Ильменау» почему-то засело у меня в памяти. Только потом я вспомнил: Мария Луиза рассказывала, что провела там детство. После смерти матери отец переехал с нею и тетей Эльфридой – вероятно, она была тогда красивой и доброй – в Эрфурт. Фирма, в которой он служил, поручила ему закупки в Бразилии. Эта страна разбудила его воображение, честолюбие и предприимчивость. Он принял предложение, позволяющее открыть собственное дело, и порвал с фирмой в Эрфурте. В Рио он не мог обойтись без тети Эльфриды, которая привезла к нему маленькую Марию Луизу. Да и она возлагала на своего шурина большие надежды, она его подстегивала. Казалось, все шло хорошо, пока с ним не произошло однажды то же, что с вашим соседом по каюте. У него началась горячка. Возможно, он тоже пил и тоже получил солнечный удар – словом, история, в которую не следовало посвящать маленькую девочку.
Так и получилось, что тете Эльфриде пришлось мыкаться самой с племянницей на руках…
Как только у меня выдалось свободное время, я поехал к отцу в Грейфсвальд. Рассказал ему обо всем, что со мной произошло и что я пережил. О смерти Марии, о бегстве Дальке, о моей новой работе. На этот раз отец слушал рассеянно. Внезапно он перебил меня и сказал: «Хочу тебе сразу сообщить кое-что важное. Я женюсь. Она милая и умная женщина. Ее муж погиб на войне, говорят, он был порядочным человеком. Она тоже всегда была мужественной и достойной женщиной. При Гитлере она два года отсидела в тюрьме».
Я ответил не сразу, и потому он добавил: «Мы с тобой были и останемся друзьями».
«Ну, конечно», – сказал я, хотя у меня вдруг мелькнула беспричинная мысль: «Я в этом еще не уверен». Но мне хотелось доставить ему удовольствие, и я сказал: «Теперь тебе не придется сидеть здесь по вечерам одному». Отец согласился: «Да, я больше не буду одинок. Она станет гостеприимной хозяйкой для моих друзей, будет вести дом. Ты скоро с ней познакомишься. Она придет к ужину».
Я промолчал. Отец спросил: «О чем ты думаешь?» – «Да так. О чем-то совсем далеком. Не знаю, отец, помнишь ли ты. Вечером мы сидели в Рио под деревьями на площади перед почтой. Ты сказал мне, что мама умерла и что мы – ты и я – переедем теперь в город. И вот я вспомнил: пока ты говорил, рядом с нами сидел мулат и непрерывно наигрывал какую-то тихую мелодию. На странном инструменте. Теперь я знаю, как назывался инструмент, который я тогда впервые увидел и услышал: birimbaõ. Ты помнишь мелодию?» – «Конечно, нет. Я даже не помню этого мулата».
И тогда я напел ему мелодию так, как играл ее мулат: тихо и непрерывно. Но отец сухо повторил: «Не помню. Перестань».
Кажется, как раз тогда, когда мы снова замолчали, внизу раздалось звяканье ключа, отпирающего двери. Отец радостно поднялся навстречу.
Жена моего отца понравилась мне больше, чем я ожидал. Сразу было видно, что у нее спокойный открытый характер. Ее нельзя было назвать красивой, но, просто и скромно одетая, она выглядела очень привлекательной.
Все это я сказал отцу на прощанье, он обрадовался и попросил меня навещать его почаще. А я подумал: «Вряд ли… Слишком многое изменилось у нас с тобой».
Я начал работать в Ильменау. Мне понравилось, что моя новая больница стоит у самой опушки леса.
Мы с главным врачом – моим новым шефом, его звали доктор Рейнгард – сразу пришлись друг другу по душе. Он предложил мне поселиться в здании больницы, здесь была свободная комната. Я охотно принял это предложение. Мы пообедали вместе с его маленькой приветливой женой и дочерью, высокой, в отца, блондинкой. Все внимательно слушали мои рассказы о прошлом, особенно о юности, проведенной в Бразилии. Воспользовавшись случаем, я попросил разрешения время от времени ездить на лекции по тропической медицине, которые три-четыре раза в год читали в разных университетских городах. Конечно, я мог бы делать это за счет своего отпуска. Я показал им книги, которые привез с собой, и фотографии. Рейнгард то и дело восклицал: «Если бы я лучше разбирался в этом!» Или: «Если бы я, как вы, знал иностранные языки! Португальский, испанский, английский. Я бы тоже мог углубиться в эти проблемы».
Эрна, его дочь, пожалела, что ее подруга Герта не слышала моего рассказа. «Она такая фантазерка, – сказала жена Рейнгарда, – после ваших рассказов она не спала бы всю ночь».
Потом я пошел на кладбище. Нашел могилу женщины по фамилии Виганд – это могла быть мать Марии Луизы – и положил на могилу цветы.
На следующий день шеф спросил, не похоронен ли здесь кто-нибудь из моих родных: сразу стало ясно, какой это маленький городок. Я ответил: «Нет, никто». Меня утешала мысль, что у меня здесь есть родная могила.
Вечером пришла подруга Эрны, Герта Беринг. Худенькая, черноволосая, с серо-голубыми глазами, она была на год моложе Эрны. Мне пришлось снова показывать книги и фотографии. Она слушала меня самозабвенно, затаив дыхание. А потом спросила, можно ли еще раз, когда у нее будет время, посмотреть фотографии.
Вскоре я встретил Герту в городе. Мы немного прошлись. Она спросила меня, не трудно ли мне было расстаться с той чудесной страной, где я жил.
«Очень трудно, – ответил я. – Я едва привык здесь».
«Вы, наверно, оставили там друга вашей юности? Человека, к которому были привязаны всем сердцем?»
«А если так?»
«Вы ее ждали?»
«Я очень долго ждал ее. Надеялся, что она приедет ко мне. А недавно она умерла».
«От чего умерла?» – спросила Герта. Ее вопросы странным образом противоречили ее робкому виду. Я помедлил с ответом:
«Многие живут там у моря. И часто купаются, плавают. Она тоже жила на берегу и утонула во время купанья».
Герта надолго задумалась.
«Кто вам сказал?» – История эта, видно, так ее затронула, что она не могла сдержаться.
«За это время я сам побывал там на выставке в Сан-Паулу».
«Она, наверно, умерла от тоски. Если человек всю свою юность провел вместе с другим человеком… У меня такого не было».
«Она вышла замуж».
«Ну и что же? Несмотря на замужество, она, наверно, по-прежнему любила вас. И уплыв в море, задумалась, задумалась о вас и…»
Мы еще долго молча шли по улице.
«Как ее звали?»
«Мария Луиза».
«Вы, наверно, ее никогда не забудете».
«Забуду? Нет! Никогда. В ней была моя жизнь. Но с тех пор как она погибла, прошло много времени».
«Какого числа она погибла?»
«Этого, Герта, я не знаю. Забыл спросить… Вот мы и дошли до больницы. Пожалуйста, поужинайте с нами».








