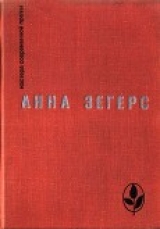
Текст книги "Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре. Транзит. Через океан"
Автор книги: Анна Зегерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Из-за бесконечных попреков и угроз мать решила пристроить меня куда-нибудь. Она приглядела местечко на рынке. Это было довольно далеко. Сначала я спала там прямо на улице, потом под фруктовым фургоном. Тогда я видела свою мать всего несколько раз в год. Несмотря на все ее попытки остаться ради меня у этих людей, ее продали подруге хозяйки в другой город. „Золотой закон“ еще не был введен в действие. Хозяева спешили заработать на продаже людей, которых скоро уже нельзя будет продавать.
Наконец как-то ночью пришла моя мать и рассказала, что поблизости от нее, в городе, есть место служанки. Не дожидаясь утра, я отправилась в путь. С этого места, не очень-то заманчивого, я перешла к вашей тете».
Эту Одилию, дочь рабыни, тетя Эльфрида однажды выкинула на улицу. О том, почему это произошло, Мария Луиза рассказала мне гораздо позднее, незадолго до моего отъезда.
Недалеко от нас в маленькой будочке сидел уличный сапожник негр Теодозио, у него чинили обувь семья Марии Луизы и наша. Сразу было видно, что это умный и наблюдательный человек. Он постоянно читал газеты, нередко разглаживая старые газетные листы, в которые заворачивали обувь, и заботливо сохранял понравившиеся ему статьи. Теодозио так и не стал хозяином мастерской, у него была только эта будка: в непогоду или уезжая куда-нибудь он ее складывал, а потом расставлял снова. Он расспрашивал Марию о нашей школе, просил приносить ему книги и бывал счастлив, когда мы давали ему почитать старую тетрадь или учебник.
К нашему изумлению, этот молодой и умный человек завел знакомство с Одилией, служанкой тети Эльфриды. Сначала мы и не подозревали, какого рода это знакомство.
Одилия была много старше его, совершенно невежественна, у нее никогда не было желания чему-нибудь учиться. Теодозио был ласков с ней – Мария утверждала, что с его стороны речь идет не о любви, просто он со всеми приветлив, – и Одилия, привыкшая к грубости и дурацким шуткам, влюбилась в него по уши. Мы, дети, замечали, что она под любым предлогом старается пройти мимо его будки, но особенно над их отношениями не задумывались.
Прошел примерно месяц. Однажды я поднялся в квартиру Марии. Заниматься теперь приходилось много. Мы договорились проверять друг у друга уроки – приближались экзамены. У нас не было денег, чтобы купить все необходимые учебники, поэтому Мария Луиза попросила у Родольфо несколько книг. Книги были тяжелые, и Родольфо занес их к тете Эльфриде.
Уже на лестнице я услышал сердитый голос тетки. Я остановился в нерешительности, так ожесточенно она кричала. Гнев ее возрастал с каждой секундой.
Открывая мне дверь, тетка продолжала ругаться. Я сейчас же увидел, что сердится она на Марию. Та стояла перед теткой, слегка побледнев, опустив руки, по вполне владея собой. Лицо ее было непроницаемо, однако мне показалось, что она еле сдерживает смех.
Когда наконец тетка расплакалась и громко хлопнула дверью, Мария Луиза сказала: «Эрнесто, помоги мне приготовить ужин, а потом вымоем посуду. Видишь ли, – добавила она, бросив лукавый взгляд на дверь теткиной комнаты, – тетя выгнала нашу Одилию».
В кухне, когда мы остались вдвоем, она рассказала обо всем поподробнее. Ее сдержанность я счел тогда недостатком доверия. Меня это огорчило. Много позже, в Германии, думая о том, как Мария Луиза отнеслась бы к тому или иному событию, я вспоминал происшествие с Одилией и приходил к выводу, что чувство права и справедливости уже тогда было присуще Марии.
Тетка прогнала Одилию за то, что она тайком пустила к себе в каморку чужую женщину. Как выяснилось, вернее, как мне сказала Мария Луиза, это была сестра или кузина Теодозио. По-видимому, она искала работу, а ее семья жила очень далеко в фавелах. Обычно она уходила из дому до рассвета, Одилия приносила ей иногда горячего кофе, кусок хлеба или банан.
Одилия занимала жалкую комнатушку, заполненную всяким хламом. Я понять не мог, как в такой каморке помещалась еще и сестра Теодозио.
Соседи, возвращаясь с какого-то празднества, заметили, что из этой каморки выскользнула незнакомая женщина, и спросили тетю Эльфриду, знает ли она, что ее служанка приютила постороннего человека.
Тогда строго запрещалось оставлять у себя на ночь кого бы то ни было, не сообщив в полицию. Часто бывали облавы. За нарушение полагался штраф. К счастью, я имею в виду к счастью для незнакомой женщины, тетя Эльфрида не могла смолчать и дождаться ночи, чтобы самой во всем убедиться. Она вспылила и накинулась на Одилию. А та была слишком проста, чтобы найти ловкий ответ. Ее вещи уместились в крохотном узелке. Через десять минут она исчезла, бросив последний взгляд на будку Теодозио. Неизвестная тоже больше не появлялась.
К нашему изумлению, уже на следующий день будку Теодозио занял дряхлый старичок. Он был не то черный, не то коричневый, на лице его в морщинках пряталась пыль. Тетя Эльфрида не увидела никакой взаимосвязи событий. А я был слишком самолюбив, чтобы спрашивать у Марии – она явно знала, в чем дело.
Перед моим отъездом, а может быть, во время нашей поездки в Белу-Оризонти Мария Луиза почувствовала вдруг, что не может ничего, совсем ничего скрывать от меня, не хочет оставлять между нами даже маленькой тайны, словно маленькая тайна могла помешать нашей будущей встрече, и рассказала без всякой моей просьбы, что тогда случилось с Теодозио, Одилией и незнакомкой. Девушка вовсе не была родственницей сапожника. Ему поручили – кто именно, Мария мне не сказала, а может быть, и не знала сама – найти ей приют в Рио. Незнакомку преследовали от Ресифи. От самого Ресифи полиция шла за ней по пятам. Но ее вовремя предупредили товарищи. Полиция поджидала ее на вокзале в Рио. А она задолго до этого сошла с поезда и, пересаживаясь с автобуса на автобус, без всяких происшествий добралась сюда. Здесь она сразу же разыскала человека, чей адрес тщательно прятала: Теодозио.
Теодозио устроил ее у Одилии. Об этом Теодозио и Одилия договорились заранее. Они ожидали девушку из Ресифи. Одилия, при всей своей простоте, была достаточно толковой, она взяла незнакомку под свое покровительство. Наверно, она еще долго прятала бы и кормила ее, если бы проклятые соседи не совали повсюду своего носа.
Девушка из Ресифи без промедления отправилась в путь – теперь полиция, конечно, сбилась со следа, – может быть, у нее и вправду были родственники или друзья в фавелах, а бедная Одилия осталась без пристанища. У нее не было никого, кроме прежних знакомых на рынке, а те могли предложить ей самое жалкое существование. У Одилии, однако, хватило сообразительности предупредить Теодозио о грозившей ему опасности. Он тотчас исчез.
«Мы в то время давно уже были бразильскими подданными, – сказала Мария. – А для вас, иностранцев, было бы особенно опасно не донести на Одилию в полицию. Ты, Эрнесто, мог бы проболтаться, рассказать отцу».
Потом я как-то встретил Одилию на улице возле рынка. Она продавала фрукты и, верно, снова ночевала на рынке под каким-нибудь фургоном. Меня она не узнала, а я разговаривать с ней не стал.
Я рассказываю эти подробности потому, что они бросают свет на поведение Марии, на ее взгляды, какими они были в пору нашей светлой юности. Потом, уже в Германии, когда письма ее стали отчужденными, словно она вдруг перестала меня понимать, я каждый раз думал: нет, не может погаснуть то, что так сияло…
Тетя Эльфрида, прогнав Одилию, вскоре наняла белую девушку, к тому же немку. Ее звали Эмма. Она была родом из Санта-Катарины. Этот большой поселок, вернее, маленький городок, лежит в центре немецкой колонии. Бразильцы, живущие среди немцев-колонистов или в деревнях по соседству, и презирают их, и уважают одновременно. Уважают за неутомимое трудолюбие и честность. Презирают, пожалуй, за то же самые качества – ведь немцы-колонисты, не жалея сил, в необычайно короткий срок добились, что их скот, поля и мастерские стали лучшими в округе, и все это честным путем. Но достичь такого одним честным трудом невозможно, полагали их соседи.
Новая служанка тети Эльфриды была женщиной надежной и положительной. Мы, дети, невзлюбили ее с первого взгляда. Но удивительно, она совсем не замечала этого, напротив, привязалась к нам. Мария Луиза и позднее не расставалась с нею.
Я так много говорю об Эмме, потому что в дальнейшем она сыграет свою роль.
Тетя Эльфрида чуть не отослала ее обратно, услышав, какого жалованья та требует. «Столько платить я не могу и не буду», – воскликнула она. Но Эмма уже знала, что тетя Эльфрида держит маленький магазинчик, а по вечерам шьет блузки и юбки, поэтому она сказала: «Мне всегда хотелось служить в настоящей немецкой семье, но на меньшее жалованье я согласиться не могу. А что, если я буду шить для вас? Все равно я по вечерам никуда не выхожу, как это делают мулатки».
Подумав, тетя Эльфрида решила, что это предложение ей выгодно. Так оно и оказалось. У нее сразу стало гораздо больше свободного времени. Наполовину готовые вещи Эмма дошивала превосходно, точно по картинке. Хотя саму Эмму мы всегда видели в одинаково скучных юбках и блузках.
Они договорились, но оставалось одно препятствие – прескверная комнатушка в грязной, забитой хламом мансарде. Всю вину свалили на Одилию. И Эмма из Санта-Катарины немедленно принялась за уборку. Она взгромоздила башню из старых вещей и покрыла ее застиранной занавеской, выморила клопов из кровати и ее тоже покрыла старой занавеской. Стены выкрасила в золотисто-желтый цвет. По степам развесила картинки и изображение Христа – в Санта-Катарине люди придерживались евангелического вероисповедания, – календарь, фотографии родственников, которые, насколько мне известно, никогда не подавали о себе вестей.
И хотя тетя Эльфрида тоже не испытывала к ней особой симпатии, Эмма быстро стала необходимой. Ей начали давать разные поручения, даже секретные, вы об этом услышите позже.
Лицо Трибеля вдруг осветилось радостью и стало почти счастливым. Он указал рукой на воду:
– Смотрите, скорее смотрите!
Вначале я подумал, что на солнце переливаются брызги пены. Но Трибель, радостный, каким я его еще не видел, объяснил мне, что это, и я сам увидел рыб, которые, словно танцуя, летели над поверхностью океана. Целые стаи рыб скользили и кружились в солнечном свете.
Мы стояли в тени, отсюда все было особенно хорошо видно, и к нам подбежали польские дети. Они не в первый раз видели летающих рыб, ведь им часто приходилось совершать путешествие через океан, но все равно удивлялись и радовались.
После полудня рыбы исчезли. Они не раз возвращались, пока мы плыли в южной части океана, и я так же, как дети и Трибель, радовался их полету. Не знаю почему, при виде их легче становилось на сердце.
Долгое морское путешествие я начинал почти с отвращением, не подозревая даже, сколько увижу нового. До сих пор я думал, что только на суше можно испытать такую радость, когда смотришь на хлеба, на луга, на деревья…
Трибель продолжал рассказывать, иногда задумываясь, иногда беззаботно и весело, то и дело останавливаясь, чтобы показать мне летящую рыбу или их стаю.
– Мы взрослели. Часто лежали на пляже, прижавшись друг к другу, в песчаной ложбинке или среди больших камней. В этом проявлялась наша взаимная привязанность, все было просто и естественно – никакого желания, никакой страсти. Мы спокойно смотрели на других юношей и девушек, чаще всего негров или мулатов, которые рядом, в такой же песчаной ложбинке, радостно и беззаботно предавались любви.
Нас это не занимало. Вовсе не занимало? Или еще не занимало? Мы не задумывались. Мария Луиза иногда касалась губами моего лба и вопросительно глядела на меня. Но я как маленький вскакивал и мчался прочь, а она меня догоняла. Мы снова бросались на песок, и я притягивал к себе ее голову. Только так проявлялась наша сильная взаимная привязанность – ничего мятежного, ничего необузданного.
Так я чувствовал тогда и позже, когда окончилось наше детство. Не могу поручиться, что Мария Луиза чувствовала то же, что и я.
Мы сдали выпускные экзамены. По совету отца и следуя собственному влечению я начал изучать медицину. Мария Луиза тоже советовалась с моим отцом. Ведь у нее не было никого, кто мог бы ей помочь. Планы на будущее мы связывали так же тесно, как было связано все в нашей юности. Отец посоветовал ей специализироваться в области детских болезней или детской психологии, если это ее привлекает. Он говорил с ней серьезно и внимательно.
Тетке ее, конечно, хотелось, чтобы Мария сразу же начала работать в магазине и привлекала как можно больше покупателей. Кроме того, как мне со смехом рассказала Мария Луиза, она постоянно твердила: «Девушки в твоем возрасте здесь обычно выходят замуж. Неужели у тебя нет серьезного поклонника? Этот Трибель, его нельзя принимать всерьез».
Мария Луиза получила в наследство от отца небольшую сумму, ее едва-едва хватило бы на дальнейшее учение, но она на нее рассчитывала…
Вторая мировая война приближалась к концу. Все чаще отец, оставаясь наедине со мной, говорил: «Я напишу моему другу Паулю Винтеру или профессору Бушману, узнаю, куда мне явиться, чтобы начать работу. Не сомневаюсь, что я буду им нужен – еще как нужен!»
Тогда я не слишком задумывался над его словами. Война была где-то далеко. И то, что она сжигала, было где-то далеко. Только иногда сюда доносился дым этой войны, и у нас перехватывало дыхание.
Дым до нас доходил. В газетах мы читали, а в кино видели такое, от чего сжималось сердце. Мы не могли постигнуть, почему наша тихая, наша милая родина вдруг, словно шипом, вонзилась в тело мира.
«Неужели это правда? – спрашивала Мария Луиза. Она беспокойно хватала меня за руку. То было время, когда советские войска обнаружили первые лагеря уничтожения. – Я была еще совсем маленькой, – рассказывала Мария Луиза, – и только теперь вспомнила это снова… К нам ходила прачка. Она была такая приветливая. Когда мама разрешала мне отнести ей что-нибудь, я очень радовалась. На подоконнике у нее всегда стояли цветы, зимой и летом… И еще приходила монахиня, которая ухаживала за мамой до самой ее смерти, она была похожа на Марию с гравюры „Благовещение“, у нее и сердце было такое же, готовое все претерпеть. Я тебе никогда не рассказывала об этом, но сегодня мы с тобой видели, какие зверства творили немцы, – и меня сомнение берет, я словно опять вижу сумеречную комнату прачки, уставленную цветами, и словно слышу голос монахини, которая говорила, что смерть надо встречать не с грустью, а с радостью…»
Мария Луиза пошла к нам, чтобы излить душу моему отцу. Отец сказал: «Разве здесь весь народ участвует в злодеяниях Варгаса и его солдат? Или озверелых плантаторов?..»
Когда Мария Луиза ушла, я сказал отцу: «Ты хорошо и правильно ей все объяснил, только не пойму, почему ты хочешь вернуться в одичавшую страну?» – «Именно там мы особенно нужны. Ты сам увидишь».
Но до конца войны было еще далеко, и мы редко разговаривали об отъезде…
Наша одноклассница Элиза начала заниматься в высшей музыкальной школе. Часто она не только играла нам, но и показывала книги и картины, которые, если б не она, вряд ли попали нам на глаза.
Мы с Марией Луизой были взволнованы, даже ошеломлены, когда в первый раз по-настоящему разглядели творения Алейжадинью: пророков Исайю, Иеремию, Езекииля и других, которых он высек из камня на площадках лестницы в Конгоньеду-Кампу. Лестница вела из долины к церкви на горе и воплощала собой крестный путь. Алейжадинью был не только великим бразильским мастером, но, быть может, вообще одним из величайших скульпторов мира. Он был прокаженным. И все это изваял не руками, а культями рук, которые таяли, словно свечи, и его маленький подмастерье привязывал к ним инструменты.
Элиза была права. На свете не было ничего величественнее. Так думали мы в юности, сравнивая его творения со скульптурой античности и Возрождения, теми великими, неизвестными нам прежде произведениями, с которыми знакомились у Элизы.
Я так много говорю об этом художнике, потому что путешествие в Конгонью было нашим последним чудесным и удивительным общим переживанием в этой стране.
Отец, которому мы взволнованно рассказывали об Алейжадинью, словно видели его работы не на фотографии, а сами познакомились с великим, смертельно больным, мужественным человеком, решил вдруг подарить нам поездку в Минас-Жераис – так называется штат, где расположена Конгонья.
«А ты не хочешь поглядеть на это чудо?»
Он покачал головой:
«Нет, дети, порадуйтесь сами».
Сейчас мне кажется, что это произошло, когда война уже кончилась и вопрос о нашем отъезде был решен. Может быть, решен пока только в мыслях отца, я в это еще не верил, но фраза его могла бы прозвучать: «Порадуйтесь сами напоследок».
Не знаю, какую цель он преследовал, посылая так далеко двух молодых людей, любящих друг друга.
По нашим теперешним масштабам это было не очень далеко: двенадцать часов автобусом до Белу-Оризонти. Так называется главный город штата Минас-Жераис, поблизости от которого лежит Конгонья-ду-Кампу.
Мария рассказала мне, что во времена португальских вице-королей и императоров здесь добывали много золота.
Мы запаслись едой и отправились в далекий путь. В автобусе мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, неизвестное влекло нас так, что даже сердце щемило. Автобус, словно на крыльях, огибал грозные ущелья. Кружилась голова.
Простите, что я вам столько рассказываю об этих местах, но скоро вы увидите, что самое значительное повторяется: да, именно потому, что повторяется, оно и становится таким значительным и не погружается в небытие…
– Да нет, Трибель, пожалуйста, рассказывайте дальше. Расскажите подробнее о вашей поездке, – воскликнул я.
Вообще-то мне хотелось, чтобы Трибель больше говорил об этой стране и о том, что он там видел, а не о своей любви. Я никак не мог понять, почему он рассказывает о своей жизни именно мне, а не Гюнтеру Барчу, например, с которым, по-видимому, подружился. Может быть, потому, что я все время молчал, не задавал никаких вопросов, не высказывал своего мнения. Да у меня его и не было. Конечно, он потому и рассказывал все мне, человеку молчаливому и не высказывающему своего мнения…
– Мы переехали границу штата Минас-Жераис. На первой же короткой остановке на автобус накинулась толпа нищих торговцев с отшлифованными кусочками кобальта, агата и других полудрагоценных камней. Найти их здесь совсем нетрудно. Дорога сверкала на солнце. Иногда казалось, что вся она усеяна осколками драгоценных камней.
Испуганно, но с жадным любопытством мы вглядывались в неизвестное, открывавшееся по обе стороны дороги. Попутчики объяснили нам, что острые, правильные, словно созданные геометром холмы – жилища термитов. А если термиты по какой-либо причине покидают свои жилища, там поселяются змеи.
Дорога, деревья, хижины все более и более покрывались красноватой железистой пылью. Даже белье во дворе придорожной лачуги розовело от пыли, и одинокое жалкое банановое дерево, кормилец ее обитателей, тоже.
На некоторых остановках пассажиры выходили из автобуса, чтобы поесть. Мы экономили и только иногда покупали что-нибудь у ребятишек, белых и черных ребятишек в лохмотьях, продававших фрукты. Они с необыкновенным тщанием готовили фрукты для продажи, возможно, накануне ночью, словно это тоже были драгоценные камни. Апельсины с надрезанной кожурой, ананасы, сахарный тростник.
Мы устроились в Белу-Оризонти у родственников Элизы. Была душная ночь. Спали мы на веранде. Нас приняли приветливо, без особых церемоний. Рано утром, выпив по соседству чашку кофе, мы отправились в незнакомые горы. Деревни блестели на рассвете, к нам доносились запахи леса. Я сказал: «Наверно, так выглядит Тюрингия или Гарц». Мария ответила: «Нет, я думаю, там все совсем по-другому».
И я вдруг увидел ее глазами непроходимую чащу дикого бразильского леса, развалившиеся веранды домов – ни у кого в этих семьях не было сил починить их…
Когда автобус прибыл в Конгонью, мы не сошли вместе с паломниками в долине. От остановки в деревне, на вершине горы, к церкви надо было спускаться. Мы увидели ее издалека. Она сияла в утреннем свете, над крышами и лесом. В полном молчании мы быстро пошли к ней и, не входя внутрь, с трепетом и радостью стали спускаться по величественной лестнице.
У первой же статуи мы остановились. Ошеломленные, смотрели мы вверх на складки одеяния пророка. Красота и величие каменных изваяний потрясли нас. Мария Луиза осторожно дотронулась до камня, медленно провела рукой по одной из высеченных складок.
Внезапно рядом появился монах. Он молча посмотрел на нас, потом предложил рассказать об Алейжадинью и для начала повел в церковь. Мария Луиза перекрестилась. Дома она никогда не ходила в церковь, и я даже не знал, католичка ли она.
Когда мы вернулись к пророку, монах сказал: «Вот посмотрите. Ученик привязывал мастеру резцы к обрубкам рук. Это видно по зазубринам, там, где складки. Но лицо сделано так, словно художник работал только мыслью, не прикасаясь к камню руками…»
С площадки на площадку, от пророка к пророку вел нас монах. Мы с Марией случайно обменялись несколькими словами по-немецки. Монах спросил, тоже по-немецки:
«Откуда вы, дети?»
«Из Тюрингии. Я из Ильменау. А я из Эрфурта», – ответили мы.
Он сказал:
«А я из Баварии». – Его направил сюда орден несколько лет назад.
Я спросил:
«Вы скучаете по родине?»
Улыбаясь, он ответил:
«Моя родина всегда со мной».
«Я говорю о настоящей родине».
«Не будем спорить, дети, о том, что́ есть настоящая родина».
Больше он с нами ни о чем не заговаривал. Мы вместе спустились в долину, и на прощанье он приветливо сказал:
«Если хотите переночевать за небольшую плату, можете пойти в наш приют, вон там наверху, справа».
Но мы уже условились вечером вернуться в Белу-Оризонти.
Он покинул нас внизу, в долине, возле грота и пожелал счастливого пути.
Мы решили медленно подняться по лестнице, как если бы совершали паломничество. Обогнали старую мулатку в потрепанном, измятом платье. Она, бормоча что-то, поднималась по лестнице с видимым усилием. Я спросил Марию Луизу: «Что она бормочет?»
Мария Луиза, быстро увлекая меня за собой вверх по лестнице, ответила полушутя-полусерьезно, подражая стихотворному ритму: «Привет тебе, Мария! Да пребудет господь с тобою. На тебя снизошла благодать. Будь благословенна меж жен, и да благословен будет плод чрева твоего – Иисус. Аминь! Святая Мария, молись за нас, бедных грешников, ныне и в час нашей смерти».
«Какой смысл постоянно твердить одни и те же слова?» – спросил я. Мне показалось, что Мария Луиза не услышала моего вопроса, но она вдруг проговорила:
«И все-таки в этом есть смысл. У тебя тоже постоянно одни и те же мысли, одно и то же желание. Это чувствуется в словах, которые ты произносишь…»
Год спустя, когда мы прощались, она сказала: «Помнишь нашу поездку в Конгонью-ду-Кампу? Я тогда на лестнице все время молилась, чтобы ты остался. Наверно, я недостаточно сильная и недостаточно хорошая, раз мою молитву никто не услышал».
Мы плакали, я ее обнимал и клялся, что она самая лучшая на свете.
И все-таки я подумал: «Зачем она на прощанье возложила на меня такую тяжесть?» – и почти одновременно, может быть секундой позже, спросил себя: «Имею ли я право так думать?»
К нам подошел веселый Гюнтер Барч, сосед Трибеля по столу.
– Давайте ночью опять встретимся на мостике. И вы, Хаммер, приходите туда, если хотите как следует разглядеть Южный Крест, пока он еще виден.
Я сразу же согласился. С удовольствием послушаю объяснения звездного неба.
После обеда Трибель пригласил меня погулять. Я знал, что ему легче рассказывать, когда мы ходим.
– Мой отец, – начал он, – в начале 1946 года получил важное письмо. Письмо из Германии, от старого коллеги, который уже не раз писал ему после войны. Отец прочитал письмо вначале про себя, внимательно и сосредоточенно. Потом прочел его вслух. В Германии снова открываются университеты, говорилось в письме. Во всех областях ощущается недостаток специалистов, и те, кто это понимает, стремятся учиться и учить. Людям, выбитым из колеи, учение нужно, как хлеб жителям разбомбленных городов; планы восстановления уже выработаны.
И тут мой отец заговорил о себе. Врач его квалификации и его взглядов там крайне необходим. Он еще не знает, в какой город его направят. Что же касается меня, то, если я хочу специализироваться на внутренних болезнях, мне нужно закончить учение в Берлине или в другом городе.
Я яростно запротестовал. Ни за что на свете не желал я разлучаться с Марией Луизой. Причины, по которым отец хотел скорее возвратиться в Германию, казались мне неубедительными.
Отец молча выслушал меня, потом сказал: «Если Мария Луиза не достанет денег, чтобы уехать вместе с нами, там ты скорее заработаешь ей на дорогу. Немного сбережений, наверно, у нее есть».
В ответ на мои отчаянные возражения он твердо заявил, что один я не смогу здесь закончить образование и стать врачом. На какие средства я буду жить? Чем платить за учебу? За питание? За квартиру? Или из любви к Марии я изберу другую профессию? Может быть, стану продавцом в магазине? Буду работать с раннего утра до поздней ночи. А остальное еще труднее. Я пропаду здесь ни за что ни про что. Друзья выслали ему денег, их еле-еле хватит на дорогу, мне он не сможет оставить ничего.
Об учебе здесь нечего и думать. Я же знаю, сколько тут стоит учение. Чтобы стать самостоятельным, мне придется найти какое-нибудь место или обучиться ремеслу.
В Германии, точнее говоря, в Восточной Германии я смогу закончить образование и принести пользу сотням людей, а это главное. И кроме того, Мария Луиза, если я не хочу с ней расставаться, сможет через некоторое время приехать к нам.
Он не ограничился одним разговором. Мы снова и снова возвращались к этой теме. Отец, который прежде всегда был моим другом, тут оставался непреклонным. Он был сильнее меня. Не стану рассказывать обо всем подробно.
Мария Луиза сказала: «Я предчувствовала, что ты уедешь».
Некоторое время ушло на подготовку к отъезду, на ожидание паспортов. Словно по уговору, в эти недели мы не говорили о разлуке. И только однажды на пляже, когда мы лежали рядом на песке, я почувствовал, что ее лицо мокро от слез.
«Не волнуйся, я сразу же вышлю тебе деньги на дорогу, – сказал я и добавил: – Если тетя Эльфрида или Элиза по одолжат тебе их сейчас».
«Ах, тетя Эльфрида, – мрачно сказала Мария, – все, что она говорит и делает, такое же ненастоящее, как цвет ее волос. – Она выпрямилась и сердито добавила: – Ей хочется заставить меня продавать блузки в ее магазине. И от тебя она потребовала бы того же».
С первых же дней я стал писать Марии Луизе обо всем, что увидел в Германии.
Миллионы погибших на войне. Миллионы и миллионы. Неужели такой страшной была вина, если таким было возмездие? Разрушенные города, люди с ввалившимися глазами, у которых едва хватало сил доползти до ближайшего пункта раздачи продуктов, за пакетиком овса или ячменя, порцией хлеба и горсточкой сахара. В Берлине, разыскивая друзей отца, мы перелезали через груды развалин вдоль давно уже не существовавших улиц. Старые и молодые рылись среди руин в поисках чего-нибудь пригодного для употребления или продажи, будь то винтик или продранный матрас. Обвалившиеся стены обнажали нутро домов, мы видели то ванную комнату, то спальню, иногда там мелькала чья-нибудь фигура. Случалось, на наших глазах обрушивался остов дома, погребая своих обитателей под обломками…
Уже в Антверпене, где наше судно останавливалось на стоянку, меня поразил горячий спор о том, посылать ли голодным немецким детям в разрушенную Германию рыбьи потроха, ястыки и молоки.
Так велика была ненависть к нацистским солдатам в порабощенных странах, где они уничтожили бесчисленное множество людей, что она распространялась даже на детей.
Лучше было бы в письмах к Марии Луизе не касаться этих впечатлений…
Он прервал свой рассказ. Помолчал. Я возразил:
– Нет, вы не правы. За долгие годы вы привыкли обо всем откровенно говорить со своей девушкой. К тому же не только для вас, но и для многих других то, что происходило во время войны, надолго останется загадкой, чудовищной загадкой. И те, в ком не убита душа, должны попробовать ее разрешить.
– О какой загадке идет речь?
– О недоступной пониманию бесчеловечности, о жестокости людей. А ведь этот же народ дал миру Гёте, Бетховена и не только их…
– Разве бесчеловечными и жестокими стали сразу все? Не знаю. То, что я видел, когда мы шли по разрушенному городу, я пытался сравнить с чем-нибудь мне известным. Я вспоминал нашу долгую поездку в автобусе в Минас-Жераис. Развалившиеся хижины, засыпанные красной пылью. Тогда нам с Марией казалось, что жизнь в них невыносима. Но сейчас я понял, что куда страшнее жизнь в этих развалинах, в открытых на все четыре стороны руинах.
Комната, где я сначала поселился, несмотря на разбитые и склеенные бумагой стекла, была приличной. Старушка хозяйка постепенно рассказала мне, где, в каком месте земного шара потеряла она каждого из своих сыновей, внуков и братьев. Нельзя сказать, чтобы она очень горевала. Всю жизнь у нее перед глазами был темный двор, а теперь здание перед ее домом разбомбили, и она видела из окон широкую улицу, обсаженную деревьями.
Иногда к ней в гости приходили две-три старушки, чтобы поглядеть на меня, чужака, а главное – получить в подарок от моей хозяйки немножко настоящего бразильского кофе. Они часами пересчитывали зерна, чтоб разделить их по справедливости.
В этом доме случилось ужасное происшествие, напугавшее даже мою ко всему равнодушную хозяйку. Под нами жила семья с несколькими детьми и стариком дедом. Как почти везде, буханку хлеба мать заранее надрезала на порции. Ночью в кухню пробрался обезумевший от голода дед и съел кусок буханки ломтя в два. Старший мальчик, проснувшись, застал его на месте преступления, и дед в приступе страха и стыда ударил мальчика кухонным ножом.
Этот случай я так подробно, как и все остальное, описал Марии в длинном письме. Я не соображал, что она вряд ли может что-нибудь понять из моих писем, напоминавших дневники. Почтовая связь только налаживалась, а Мария Луиза была очень далеко, в другой части света. Когда я получил от нее первое письмо, я еще не привык к своему новому окружению, но уже не воспринимал его как тяжкий гнет. Я раздумывал, стать ли мне детским врачом или заняться тропической медициной. Детские врачи, казалось мне, очень нужны. А о возможности изучать тропическую медицину в то время и мечтать не приходилось.
Мария Луиза писала мне еще в тот дом, где старик зарезал своего внука. Ей казалось, что в таких условиях невозможно сохранить достоинство и способность мыслить, а без этого для нее нет настоящей жизни. И восхищаясь мною, она все же боится, не пострадает ли наша любовь, не притупятся ли наши чувства, если будут постоянно подвергаться подобным испытаниям. Но она требовала, чтобы я и дальше писал ей обо всем, тогда она будет чувствовать себя рядом со мной, ощущать мое присутствие.








