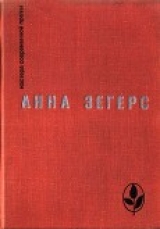
Текст книги "Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре. Транзит. Через океан"
Автор книги: Анна Зегерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Лицо Катарины Нер побледнело от усталости. Даже светлая прядь надо лбом казалась от усталости выцветшей.
Мари давно не бывала у Андреаса. Она заметила, что один из солдат, которые вечно здесь толкутся, за ней следит. Андреас больше не получал никаких известий, но неизменно находил еду в условленном тайнике: то ли Мари украдкой приносила ему кое-что, то ли помогали деревенские. Пора было покинуть это убежище, но Андреас не знал для чего. Радость оставила его. Его изводил страх, неотступный, изнуряющий страх, как бы там, пока он прячется среди рифов, быть может, где-то в ближайшем соседстве, на круче, – отваживаясь пройти дальше, он уже различал крышу Бредвека, словно пуговицу на фуражке, – как бы там не случилось чего-то, что он рискует прозевать. Ведь он так давно уже бездействует. Та история со шхуной отошла в немыслимую давность, он чуть ли не сам ее позабыл. Поначалу она казалась ему чем-то ужасным и величественным – человек, совершивший подобное, осужден на вечное одиночество. Но теперь у Андреаса не было другого желания, как пройтись от Рыночной площади к дому Бредвека. Суда еще не вышли в море, это он видел.
Как-то Андреас проснулся среди дня: ветер изменил направление, небо спустилось низко, всеми корнями оно впитывало земную серость и, исчахнув, возвращало ее земле серым дождем. Он слонялся по окрестности, совершая свой обычный обход, и неожиданно для себя стал подниматься на кручу. Было пасмурно, сеял дождь. Сначала он никого не встретил.
Не задумываясь, бросился он к домику Кеденнека. Когда никто не ответил на его стук и дверь не поддалась, он нажал на нее с такой силой, что взломал замок. И только тут спохватился: дверь была заперта. В комнате стояли сумерки, окно было чем-то завешено, пахло затхлостью. На знакомом пути от двери к печи – здесь обойти стол, там переступить через скамеечку – натыкался он на домашнюю утварь, на инструменты. Что же приключилось с вещами в этом доме, или это ему в голову ударило? В полной растерянности выбежал он на улицу, рядом стукнуло окно, и тут же вышла Катарина Нер.
– Что тебе взбрело, сумасшедший! Зачем тебя принесло?
Чепчик ее обвис под дождем. Как ни грубо и нескладно было платье, под ним угадывалась грудь да и еще многое. Прежде чем что-то сказать, Андреас невольно протянул к ней руку. На минуту они улыбнулись друг другу, сверкнув белыми молодыми зубами. Андреас спросил:
– Что там стряслось?
– Ничего не стряслось. Просто уехали.
– Уехали? Куда же?
– Не было ей смысла тут сидеть и чего-то дожидаться. В городе она. Кто-то ей сказал, что там такие требуются, она и собралась.
– А оба мальчика?
– Да ради мальчиков она и поехала.
Андреас молчал.
– Не повезло нашим с погодой-то, – заметила Катарина.
– Когда они думают выходить?
– Завтра. Мужчины уже все внизу. А теперь убирайся, не то хлебнешь горя!
– Нет, и я туда спущусь, – заартачился Андреас.
– Что тебе там нужно?
– Сам еще не знаю, но они не должны выходить.
Катарина Нер снова встревожилась:
– Убирайся, покуда цел, нечего тебе там делать!
Однако Андреас не стал ее слушать и пошел. Когда он обернулся, она уже скрылась в доме.
И Андреас зашагал. На углу он столкнулся с караульным, патрулировавшим улицу. На секунду оба застыли на месте и насупились. Андреас прибавил шагу. За его спиной раздался свисток, он, однако, не принял его на свой счет и устремился к гавани. Но не успел спуститься вниз, как его забрали.
Поначалу Андреас не сопротивлялся. Когда его двинули кулаком в ребра, он только расслабил колени, как если бы его в воде подшибло плавучей доской. Впрочем, и у солдата, который вел его слева – Андреас шел между тем, кто свистел, и тем, кто прибежал на свист, – не было особой охоты наподдавать ему. Он не слишком крепко держал Андреаса и все поглядывал на него сбоку. Казалось удивительным, что именно этот тихий угрюмый солдат засвистел. Навстречу подошли еще четверо. Андреас покорно рысил посередине, не оглядываясь, с понурой головой, расслабив тело, приготовившись к новым тычкам.
Но когда вышли на открытую площадь, то ли огоньки, просвечивающие из-за ставен, то ли крики, доносившиеся с пирса, заставили его очнуться. Андреас внезапно уразумел, что с ним происходит. Он поднял голову и рванул в сторону, а потом круто взял налево, бросился между домами к дюнам и, сделав полукруг, выбрался на каменистую почву. Солдаты в первую минуту потеряли его из виду, но стали быстро догонять. Андреас был уже среди рифов. Вот-вот его настигнут. Бежать, собственно, уже не имело смысла, но доставляло ему удовольствие. После долгого прозябания было удовольствием по-настоящему бежать. Каждый день среди рифов, да, собственно, все эти дни голова была как в тумане, и только сейчас, на бегу, все опять к нему вернулось. Гулль неправ: Андреас был не так уж молод, он познал все: смерть матери, гибель Кеденнека, море и товарищей, смуглое, обвившееся вокруг него тело Мари, – чего ему, собственно, еще ждать?
Они уже кричали: «Стой!» – и снова: «Стой!» Кеденнек шел в упор на выстрелы, Андреас бежал на зубчатые рифы, на веющий простор.
Андреас снова услышал: «Стой!» И он еще нажал и услышал щелчок, будто кто хлопнул в ладоши. Дальше – он все бежал – Андреас уже рухнул наземь, он уже покатился кубарем и повис на камнях с разбитым до неузнаваемости лицом, но что-то в нем продолжало бежать, бежало и бежало, пока не рассеялось в воздухе – в порыве неописуемой радости и легкости.
Гулля доставили в Санкт-Барбару и уже наутро повели на допрос к префекту. На допросе присутствовал старик Кедель. В тот же день Гулля под конвоем отправили в порт Себастьян. Повезли его не морем, а сушей, в небольшом фургоне.
Песчаная дорога меж дюн тянулась бесконечно: они ехали остаток этого дня, всю ночь и часть следующего дня. Небольшой фургон вихлял и покачивался по песку. Все устали: фургон, Гулль, солдаты и лошади. Чего только, должно быть, не передумал Гулль в начале этой поездки. Быть может, перед ним вставали прошедшие дни, иные берега и дороги, моря и пароходы, товарищи и солнце. А может быть, и Санкт-Барбара, куда он прибыл из бог весть какой дали и за которую держался, пока его не занесло в этот фургон, кативший по побережью. Неустанные мягкие толчки от езды песками выматывают душу и тело путника. И напоследок у Гулля осталось одно только желание: вновь увидеть хотя бы узенькую полоску моря, которая совсем близко, рукой подать, должна лежать где-то слева. Но невысокие холмистые гряды дюн так быстро и плавно следовали друг за другом, что желанию Гулля не суждено было сбыться.
Первой вышла из порта «Мари Фарер». Дождь покалывал лица женщин, их свеженакрахмаленные чепцы так обмякли, что на затылках вырисовывались туго свернутые косы. Когда пароход обводил «Мари Фарер» вокруг мола, небольшая группа женщин отделилась от толпы и, подхватив детей и тяжелые намокшие юбки, добежала до самого конца мола. Тут они снова увидели лица своих мужей так близко, будто за обеденным столом. На какое-то мгновение каждая увидела в глазах мужа то устоявшееся, темное, что оставила в них прошедшая зима. А затем уже мелькали только лица, а затем только фигуры, а затем только группы мужчин, а затем только судно. Пароход втянул цепь и поворотил назад, а «Мари Фарер» легла в дрейф. Едва она вышла из гавани, как сразу же дало себя знать ее тайное, в течение многих недель подавляемое желание: она устремилась вперед с необычайной быстротой. Дети еще могли прочитать на парусах номера бределевской компании, а вскоре паруса стали алыми листьями. Все быстрее приближалась она к той видимой черте, что отделяет близь от дали. Она уже позабыла порт, переболела расставание с землей.
Женщины на молу только сейчас заметили, что дождь промочил их до нитки.
ТРАНЗИТ
TRANSIT
BERLIN 1951
Перевод Л. Лунгиной
Перевод на русский язык впервые опубликован в Государственном издательстве художественной литературы, М., 1964

ГЛАВА ПЕРВАЯ
I
Говорят, «Монреаль» затонул где-то между Дакаром и Мартиникой: наскочил на мину. Пароходство не дает никаких справок. А быть может, все это только слухи. Впрочем, если сравнить судьбу «Монреаля» с судьбой других пароходов, до отказа набитых беженцами, пароходов, которым нигде не разрешают пристать и скорее дадут сгореть в открытом море, чем бросить якорь в порту, – только потому, что визы пассажиров на несколько дней просрочены, – так вот, если сравнить судьбу «Монреаля» с судьбой таких пароходов, то весть о его гибели никого не поразит. Хотя, повторяю, быть может, все только слухи.
Быть может, «Монреаль» задержали в пути или заставили вернуться в Дакар, и его пассажиры изнывают теперь под палящим солнцем в концентрационном лагере где-нибудь на краю Сахары. А быть может, они уже благополучно пересекли океан… Вам все это не интересно? Вы скучаете?.. Я тоже. Разрешите пригласить вас поужинать. Правда, на хороший ужин у меня, к сожалению, нет денег, но я могу вас угостить стаканом розе́ и куском пиццы. Пересядьте, пожалуйста, за мой столик! На что вам больше хочется смотреть? На то, как пекут пиццу в открытой печи? Тогда садитесь рядом со мной. А если вы предпочитаете глядеть на Старую гавань, садитесь напротив меня. Вы увидите, как заходит солнце вон там, за фортом св. Николая. Это зрелище вам, наверно, не наскучит.
Пицца – удивительнейший пирог. Круглый, румяный, как сдобная булка. Думаешь, он сладкий, а откусишь – огонь. Тогда принимаешься его разглядывать и обнаруживаешь, что в тесте запечены не изюм и вишни, а перец и маслины. Потом к этому привыкаешь. Но, к сожалению, теперь пиццу дают тоже только по карточкам.
Все-таки мне очень хотелось бы знать, действительно ли «Монреаль» затонул? И как сейчас живут там, за океаном, его бывшие пассажиры, если им все же удалось добраться до места? Начинают новую жизнь? Меняют профессии? Обивают пороги различных комитетов? Корчуют девственный лес? Да, если за океаном и в самом деле еще есть края, куда не ступала нога человека, где молодеешь душой и телом, – я почти готов сожалеть, что не отправился туда на «Монреале»… Ведь я имел полную возможность попасть на этот пароход. Был и билет, и паспорт, и транзитная виза. И все-таки в самый последний момент я вдруг предпочел остаться…
На этом «Монреале» уехали два человека, которых я прежде знал – правда, бегло. Сами понимаете, чего стоят эти случайные знакомства на вокзалах, в приемных консульств или в паспортном отделе префектуры. Впопыхах перекинешься несколькими словами, будто торопливо размениваешь потертые купюры. И только иногда тебя заденет за живое какой-то возглас, какая-то фраза, чье-нибудь лицо – словно ударит электрическим током. Начинаешь приглядываться, прислушиваться – и вот ты уже втянут в чужую историю.
Мне хотелось бы когда-нибудь рассказать все, как было, с начала до конца. Боюсь только наскучить собеседнику. Неужели вам еще не надоели все эти страшные рассказы? Не опротивели разговоры о смертельной опасности, которой едва удалось избежать, о страхе, от которого перехватывает дыхание? Что до меня – я ими сыт по горло. Вряд ли что-нибудь взволнует меня теперь, разве только подсчеты металлиста, сколько метров проволоки он вытянул за свою долгую жизнь, да круг света, падающий на стол, за которым дети делают уроки.
С розе́ советую быть поосторожней! Пьется оно на редкость легко – не вино, а малиновый сок, недаром они одного цвета, – и сразу тебе море по колено, становишься удивительно веселым, и слова приходят сами собой. Но когда встаешь, подкашиваются ноги и нападает тоска, неизбывная тоска – до следующего стакана розе́. А пока хочется сидеть не двигаясь и чтобы тебя все оставили в покое.
Прежде я легко впутывался в истории, которых теперь стыжусь. Стыжусь, но не очень – ведь они уже позади. Мне было бы очень стыдно только, если бы я заставил кого-нибудь скучать. И все же мне хочется рассказать все, как было, с самого начала.
II
В конце зимы я попал в трудовой лагерь близ Руана. На меня надели форму. Должно быть, самую невзрачную из всех, какие существовали во время второй мировой войны, – форму солдата французской трудовой армии. На ночь нас загоняли за колючую проволоку, потому что мы были иностранцы – полузаключенные, полусолдаты. Днем же мы несли «трудовую службу»: разгружали английские транспортные суда с боеприпасами. Порт нещадно бомбили. Немецкие самолеты пикировали так низко, что на нас падала их тень. В те дни я понял, почему говорят: «Нависла угроза смерти». Однажды я работал рядом с одним пареньком. Звали его Френцхен. Его лицо было от меня на таком расстоянии, как сейчас ваше. Представьте себе – солнечный день, воздух дрожит от зноя. И вот Френцхен поднимает голову и глядит в небо. Самолет пикирует, нависает над нами, тень его ложится на лицо Френцхена, – оно словно почернело. Бабах!.. Бомба разорвалась совсем близко… Да вы сами знаете все это не хуже меня.
Но вскоре и этому наступил конец. Немцы подходили все ближе. Что значили теперь пережитые страхи и страдания? Надвигалось светопреставление – завтра, нынче ночью, немедленно! Так все мы воспринимали тогда приход немцев. В лагере началось невесть что: одни плакали, другие молились, третьи пытались покончить с собой, кое-кому это удавалось. Некоторые решили удрать – удрать от Страшного суда! Но комендант лагеря выставил у ворот пулеметы. Тщетно пытались мы втолковать ему, что всех нас – немцев, бежавших из Германии, – фашисты сразу же поставят к стенке. Комендант и знать ничего не хотел – он умел лишь выполнять полученные приказы и теперь ждал распоряжения насчет дальнейшей судьбы лагеря. Но его начальник давно уже смылся. Городок, возле которого был расположен лагерь, эвакуировали. И даже крестьяне бежали из окрестных деревень. Никто не знал, где немцы – в двух днях марша от нас или в двух часах. А ведь наш комендант, надо отдать ему справедливость, был еще далеко не из худших. Он считал, что идет война как война, не понимал ни масштабов катастрофы, ни меры предательства. Наконец мы с ним заключили своего рода негласный договор: один пулемет у ворот останется, поскольку на этот счет нет нового приказа, но, если мы полезем через стену, стрелять будут только для видимости.
Так вот, как-то ночью мы – нас было человек двадцать – перелезли через стену. С нами бежал парень, которого звали Гейнц. У него не было правой ноги – он потерял ее в Испании. По окончании гражданской войны его долго гоняли по разным концлагерям на юге Франции. Черт его знает, по какому недоразумению Гейнц, уже явно не пригодный ни для какой трудовой армии, попал в наш лагерь. Друзьям пришлось перетаскивать его через стену, а затем по очереди нести на руках – надо было торопиться, чтобы за ночь уйти как можно дальше от немцев.
Все мы боялись попасть в лапы к фашистам, у каждого из нас была на это своя веская причина. Лично я в тридцать седьмом году удрал из немецкого концентрационного лагеря. Переплыл ночью Рейн. Этим поступком я с полгода даже немного гордился. Ну а затем на весь мир и, конечно, на меня тоже обрушились новые события. Но во время своего второго побега – из французского лагеря, я вспомнил о своем первом побеге – из немецкого… Мы с Френцхеном шагали рядом. Как и большинство людей в эти дни, мы поставили перед собой детски наивную цель – переправиться через Луару. Обходя стороной большие дороги, мы шли полями. Торопливо проходили через покинутые деревни и слышали, как отчаянно мычат недоеные коровы. Впопыхах искали, чего бы поесть, но все было сожрано подчистую, все – от крыжовника на кустах до зерна в амбарах. Хотелось пить, но водопроводы были разбиты. Выстрелов мы больше не слышали. А деревенский дурачок, единственный из местных жителей, не убежавший вместе со всеми, ничего не смог нам сказать. И тогда нас с Френцхеном охватил страх. Все кругом словно вымерло, и это показалось нам страшнее бомбежки доков. Наконец мы вышли на Парижское шоссе. Мы оказались здесь далеко не последними. По-прежнему не убывал безмолвный поток беженцев из северных деревень: огромные, как дома, возы, доверху груженные домашним скарбом, дети и старики были зажаты между клетками с домашней птицей, козами и телятами; грузовики, битком набитые монахинями; девочка, с трудом толкающая тачку, на которой примостилась ее мать; волы, запряженные в лимузины, – в них восседали красивые чопорные дамы в дорогих меховых манто (бензиновых колонок больше не существовало); матери, прижимающие к груди больных и даже мертвых детей.
Вот тогда я впервые задумался: почему, собственно говоря, все эти люди двинулись в путь? Убегают от немцев? Но разве убежишь от моторизованных частей? Прячутся от смерти? Но ведь смерть наверняка настигнет их еще в дороге… Правда, эти мысли возникали у меня только при виде самых жалких беженцев.
Френцхену первым удалось вскочить на грузовик, – а потом и мне повезло. Однако на повороте у какой-то деревни другой грузовик врезался в тот, на котором я пристроился, и мне снова пришлось идти пешком. Так я навсегда расстался с Френцхеном.
Я побрел напрямик, полями, и оказался у большого крестьянского дома, стоящего на отлете. Хозяева еще не выехали. Я попросил поесть. К моему великому изумлению, женщина принесла хлеба, вина и поставила на садовый стол тарелку супа. Она мне рассказала, что после долгих семейных споров они тоже решили уехать. Все вещи уже уложены, осталось только погрузить их в машину.
Пока я ел и пил, самолеты гудели прямо надо мной. Но я был так измучен, что не мог поднять голову. Вдруг я услышал пулеметную очередь: стреляли где-то совсем рядом, но от усталости я не сразу сообразил, где именно. Я только подумал, что мне удастся, должно быть, уехать на грузовике этой семьи. Завели мотор. Женщина в волнении бегала от машины к дому и обратно. Видно было, что ей тяжело уезжать, бросать такой хороший дом. Как и все люди в таких случаях, она наскоро упаковала еще какие-то ненужные вещи, затем подошла к моему столу, взяла у меня тарелку и крикнула «Fini!»[10]
Тут я заметил, что она застыла с открытым ртом и, не мигая, уставилась на дорогу. Я обернулся и увидел, нет, услышал… Впрочем, не знаю, увидел я сперва или услышал, либо это произошло одновременно, – очевидно, рокот заведенного мотора грузовика покрыл треск мотоциклов. И вот два мотоцикла остановились у забора. В каждой коляске сидело по два солдата в серо-зеленой форме. Один из них сказал так громко, что я смог расслышать каждое слово:
– Черт побери, теперь и новый ремень лопнул!
Итак, немцы уже здесь! Они обогнали меня. Не помню теперь, как я представлял себе тогда приход немцев – как гром или как землетрясение. Ничего подобного не случилось – только появились два мотоцикла за забором сада. Но впечатление это произвело не меньшее, может быть, даже большее. Я словно оцепенел. Моя рубашка вся взмокла от пота. Мне не было страшно ни во время побега из первого лагеря, ни когда мы разгружали пароходы под бомбежкой. Но тут, впервые за всю свою жизнь, я почувствовал смертельный страх.
Наберитесь, пожалуйста, терпения! Скоро я уже дойду до главного. Быть может, вы меня поймете – хоть раз надо же рассказать кому-нибудь все по порядку. Теперь я и сам уже не знаю, чего я тогда так ужасно испугался. Того, что меня обнаружат? Расстреляют? Но ведь в доках я тоже мог погибнуть, не успев и пикнуть. Того, что меня пошлют назад, в Германию? Подвергнут там пыткам, медленной смерти? Но это мне угрожало и тогда, когда я переплывал Рейн. К тому же я всегда любил ходить по самому краю, чувствовал себя хорошо там, где пахло паленым. А когда я задумался над тем, чего же я, собственно, так безмерно боюсь, я стал меньше бояться.
Я сделал то, что было разумнее всего и вместе с тем легче всего, – не тронулся с места. Я как раз собирался просверлить две новые дырочки в поясе; вот этим я и занялся. Крестьянин вышел в сад – лицо его выражало полную растерянность – и сказал жене:
– Теперь мы можем с таким же успехом остаться.
– Конечно, – сказала жена с облегчением, – только ты отправляйся в сарай, я с ними и сама справлюсь, не съедят же они меня?
– И меня тоже, – возразил муж, – я не солдат, я покажу им свою хромую ногу.
Тем временем на лужайку за забором выехала целая колонна мотоциклистов. Но они даже не заглянули в сад. Они остановились минуты на три, а затем помчались дальше. Впервые за четыре года я снова услышал, как отдают приказы по-немецки. Слова щелкали, как удары хлыста. Еще немного, и я сам вскочил бы с места и застыл по стойке «смирно». Потом мне рассказали, что эти мотоциклисты перерезали шоссе, по которому я шел. Безупречный строй колонны, выкрики команд посеяли среди беженцев ужасную панику. Началась давка, полилась кровь, заголосили женщины, – казалось, настал конец света.
В немецких приказах звучало что-то откровенно наглое, до цинизма ясное: мол, не вздумайте только роптать! Уж раз вашему жизненному укладу суждено погибнуть, раз вы не сумели его защитить, раз допустили, чтобы он был уничтожен, так подчиняйтесь без всяких уверток! Мы теперь будем командовать!
Но я почему-то вдруг совсем успокоился. «Вот сижу я здесь, – думал я, – а мимо меня проходят немцы. Они оккупируют Францию. Но ведь Францию уже не раз оккупировали, и всем захватчикам в конце концов приходилось убираться восвояси. Франция уже не раз была продана и предана, но ведь и вас, мои серо-зеленые герои, не раз продавали и предавали».
Мой страх окончательно улетучился, свастика казалась мне теперь чем-то призрачным. Я видел, как приходят и уходят подразделения «самой сильной в мире армии»; я видел, как рушатся державы-захватчики и как поднимаются и крепнут молодые стойкие государства; я видел, как возвеличиваются и низвергаются владыки мира сего. И лишь для меня одного время не было отмерено.
Так или иначе, но мечту переправиться через Луару надо было оставить. Я решил добираться до Парижа. Я знал там нескольких порядочных людей, – если только они остались порядочными.
III
До Парижа я шел пять дней. Меня то и дело обгоняли немецкие моторизованные части: отличные шины, отборные молодые солдаты – сильные, красивые. Они заняли страну без боя, им было весело.
Я миновал деревню. Там звонил колокол по мертвому ребенку. Малыш истек кровью на шоссе. На перекрестке стояла сломанная крестьянская телега. Быть может, она принадлежала семье убитого мальчика. Немецкие солдаты подскочили к телеге и принялись чинить колеса. Крестьяне хвалили их за услужливость. На камне у обочины сидел парень моих лет. Из-под плаща у него выглядывала обтрепанная военная форма. Он плакал. Я похлопал его по плечу и сказал:
– Все это пройдет…
Он ответил:
– Мы удержали бы деревню. Но эти свиньи выдали нам слишком мало снарядов – всего на час боя. Нас просто предали.
– Последнее слово еще не сказано, – возразил я и двинулся дальше.
И вот ранним воскресным утром я вступил в Париж. Флаг со свастикой и в самом деле развевался над мэрией. Они и в самом деле играли Хоэнфридбергермарш перед собором Парижской богоматери. Я не переставал удивляться. Я прошел через весь город, повсюду – немецкие грузовики, повсюду – свастика. Внутри у меня словно что-то оборвалось, я перестал что-либо ощущать.
Мне было тяжело, что все эти бесчинства творил мой народ, что он принес несчастье другим народам. Ведь серо-зеленые парни говорили на том же языке, что и я, насвистывали те же мелодии, что и я, – в этом не было сомнения.
Когда я подходил к Клиши, где жили мои старые друзья Бинне, я думал о том, достаточно ли они разумны, смогут ли понять, что я остался самим собой, хотя и принадлежу к этому народу. Примут ли они меня даже без документов?
Они меня приняли. Они оказались достаточно разумны. А как часто меня прежде злила эта их чрезмерная разумность! Перед войной я в течение полугода дружил с Ивонной Бинне. Ей было всего семнадцать лет. И я, бежавший из своей страны, бежавший от безумия, от угарного чада низких страстей, я, болван, часто втихомолку злился на Бинне за их неизменно ясный разум. По мне, они слишком разумно смотрели на жизнь. Бинне, например, считали, что рабочие бастуют лишь для того, чтобы иметь возможность через неделю купить кусок мяса получше. Они считали даже, что если зарабатывать в день на три франка больше, то семья будет не только более сытой, но и более прочной и счастливой. И рассудительная Ивонна полагала, что любовь существует для того, чтобы доставлять нам обоим удовольствие. Ну а я, – видно, это чувство было у меня в крови, но я его, конечно, скрывал, – я знал, что «люблю» подчас рифмуется со «скорблю», что недаром иногда насвистываешь песенки про смерть, разлуку и страдание, что счастье приходит так же неожиданно, как и несчастье, и что радость порой незаметно сменяется печалью.
Но теперь разумность семьи Бинне оказалась для меня благословением. Они мне обрадовались и приютили меня у себя. То, что я был немцем, вовсе не значило для них, что я – нацист. Я застал стариков Бинне, их младшего сына – его год еще не призывался – и второго, постарше, который снял военную форму и вернулся домой, когда увидел, как обернулись события. Только муж их дочери Аннет, которая тоже жила теперь со своим ребенком у стариков, был в немецком плену. А моя Ивонна – они рассказали мне об этом несколько смущенно – эвакуировалась на юг и неделю назад вышла там замуж за своего двоюродного брата. Но меня это нисколько не взволновало – меньше всего я думал в то время о любви.
Мужчины проводили весь день дома – фабрика, на которой они работали, была закрыта. Что до меня, то если я еще чем-то располагал, то лишь временем. Итак, у нас не было иного занятия, как обсуждать происходящие события – обсуждать с утра до позднего вечера. Мы все сходились на том, что вторжение немецких войск было на руку здешним правителям. Старик Бинне понимал многое лучше профессоров Сорбонны. Споры разгорались у нас только, когда разговор касался России. Одни Бинне утверждали, что Россия думает лишь о себе, что она бросила нас на произвол судьбы, другие же считали, что здешние правители договорились с немцами, чтобы те двинули свои армии на Восток, а не на Запад, но русские сорвали эти планы. Старик Бинне, стараясь нас примирить, говорил, что когда-нибудь люди узнают правду – ведь секретные документы рано или поздно станут достоянием гласности, – но он, вероятно, уже не доживет до этого.
Простите меня, пожалуйста, за это отступление! Мы уже подходим к самому главному. Аннет, старшая дочь Бинне, нашла себе работу надомницы. Мне нечего было делать, и я помогал ей приносить и относить белье. Мы ехали на метро в Латинский квартал и выходили на станции Одеон. Аннет отправлялась в свою мастерскую на бульваре Сен-Жермен. Я ждал ее на скамейке у выхода из метро.
В тот день Аннет долго не возвращалась. Но в конце концов куда мне было торопиться? Я грелся на солнышке и глядел на людей, которые спускались и поднимались по лестнице метро. Две старые продавщицы газет выкрикивали наперебой: «Пари-суар!» Они были исполнены застарелой вражды друг к другу, и, как только одной из них удавалось выручить лишние два су, их ненависть вспыхивала с новой силой. И в самом деле, хотя они стояли рядом, торговля шла бойко только у одной, а у другой кипа газет не уменьшалась. Вдруг неудачливая газетчица обернулась к удачливой и принялась ее честить на чем свет стоит, – казалось, она швыряет ей в лицо всю свою загубленную жизнь, перемежая эту ругань выкриками: «Пари-суар!» Два немецких солдата, спускавшиеся по лестнице, поглядели на них и засмеялись. Их смех показался мне очень обидным, словно эта кричащая спившаяся старуха француженка была моей приемной матерью. Консьержки, сидевшие рядом со мной на скамейке, говорили об одной молодой особе, которая проплакала всю ночь потому, что ее задержала полиция, когда она гуляла с немцем; муж ее был в плену. По бульвару Сен-Жермен по-прежнему непрерывным потоком двигались грузовики беженцев. Их обгоняли легковые машины со свастикой, в которых сидели немецкие офицеры. Время от времени на нас падали уже пожелтевшие листья платанов – в тот год все рано начало увядать. А я думал о том, как тяжело иметь столько свободного времени. Да, тяжело переживать войну чужаком в чужой стране. И тут я увидел Паульхена.
Паульхен Штробель был вместе со мной в лагере. Однажды на разгрузке ему отдавили руку. В течение трех суток все думали, что рука пропала. Он плакал, и, знаете, я его понимал. Потом, когда объявили, что немцы вот-вот окружат лагерь, он стал молиться. Поверьте, я и тогда его понимал. Но теперь все эти переживания были далеко позади. Паульхен появился на углу улицы Ансьен Комеди. Товарищ по лагерю! Посреди Парижа, разукрашенного свастикой! Я крикнул:
– Пауль!
Он вздрогнул, но тут же узнал меня. Он выглядел на удивление бодрым, был хорошо одет. Мы уселись на террасе маленького кафе на Карфур де ль’Одеон. Я был рад нашей встрече. Но он казался рассеянным. Мне прежде никогда не приходилось сталкиваться с писателем. По воле родителей я выучился на монтера. В лагере мне кто-то сказал, будто Пауль Штробель – писатель. Мы с ним разгружали пароходы в одном доке. Немецкие самолеты пикировали прямо на нас. Паульхен был моим лагерным товарищем – немного смешным, странноватым, но все же товарищем. С момента побега я не пережил ничего нового, и прошлое пока еще всецело владело мной: собственно говоря, мой побег продолжался – ведь я жил нелегально. Но Паульхен, казалось, покончил со всем этим. С ним, видимо, произошло нечто такое, что придало ему силы, и все то, чем я еще жил, стало для него лишь воспоминанием.
– На той неделе я уеду в неоккупированную зону, – сказал он. – Моя семья живет в Касси, под Марселем. Я получил данже-визу в Соединенные Штаты.
Я спросил его, что это такое. Он объяснил, что это специальная виза для людей, которым угрожает особая опасность.
– Разве тебе угрожает особая опасность?
Я хотел узнать, не угрожает ли ему здесь, в этой части света, ставшей такой ненадежной, и в самом деле какая-нибудь еще более серьезная опасность, чем всем нам. Он посмотрел на меня с изумлением и даже с некоторой досадой. Потом прошептал:
– Ведь я написал книгу против Гитлера и множество статей. Если меня здесь поймают… Над чем ты смеешься?
А я вовсе не смеялся. В тот момент мне было не до смеха. Я думал о Гейнце, которого нацисты в 1935 году избили до полусмерти и бросили в концлагерь. Оттуда он бежал в Париж, но только для того, чтобы вступить в Интернациональную бригаду. В Испании он потерял ногу. Несмотря на это, его гоняли потом по всем концлагерям Франции, пока в конце концов он не попал в наш. Гейнц… Где-то он теперь? Я думал также о птицах, которые могут стаями лететь куда хотят… В мире сейчас весьма неуютно… И все же мне нравилось жить так, как я жил. Я не завидовал Паульхену из-за этой штуки… как она там называется?







