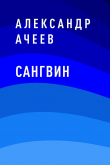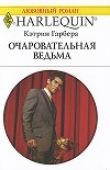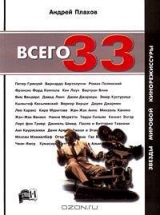
Текст книги "Всего 33 звезды мировой кинорежиссуры"
Автор книги: Андрей Плахов
Жанры:
Кино
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Время дебютов Лоуча совпало с пиком британской социальной волны, которая частично коммерциализировалась, а частично переродилась в экзистенциальную. Рядом с яркими фигурами уже не очень рассерженных и не очень молодых людей – Тони Ричардсона, Линдсея Андерсона, Джона Шлезингера – скромный тщедушный Лоуч казался годен только на роль второго плана. И он долго играл ее, разрабатывая из фильма в фильм одну и ту же жилу социологического бытописательства, дотошно исследуя нравы провинции, проблемы рабочих окраин. Никто не думал, что жила в очередной раз окажется золотой, а телевизионный английский неореализм породит что-то значительное.
В 70-е годы британское большое кино, сдавшись на милость Голливуда, оказалось в загоне, чтобы возродиться через десятилетие в барочных изысках Гринуэя и других поставангардистов. Но именно тогда, в 1970-м, Лоуч, только-только перебравшийся из теле– в киноателье, громко заявил о себе фильмом "Кес". Гран-при на фестивале в Карловых Варах, уже очищенном от ревизионистской скверны, засвидетельствовал благонадежность Лоуча как "прогрессивного художника", занятого не сомнительными философствованиями, а реальными заботами простых людей. Должно было пройти время, чтобы благонадежность под псевдонимом political correctnessутвердилась в качестве критерия и на Западе, а различные категории «простых людей» оформились в группы «меньшинств». Вот тогда-то, в 90-е годы, и настало «время Лоуча».
Лоуч не одинок в британском кино, у него есть свой младший на десять лет "двойник". Речь идет о Майке Ли, который благодаря скромной, почти телевизионной ленте "Секреты и обманы", был причислен к пантеону больших имен мировой кинорежиссуры. Как и Лоуч, Ли с юности начал работать в театре и на телевидении, а в кино пришел при поддержке одного из лидеров английских "рассерженных" актера Альберта Финни. Плакатом к фильму Ли "Высокие надежды" стал кадр: двое главных героев на фоне памятника Марксу. К ностальгическим визитам на кладбище, где похоронен бородатый классик, свелись теперь "высокие надежды", которые питала в юности пара лондонских пролетариев, изображенных в картине с теплым, но порой и язвительным юмором. Лоуч вполне мог бы поставить такой фильм, хотя, в отличие от Майка Ли, ему совершенно чужды сатирические и гротескные краски, и в этом смысле оба с полным основанием опровергают эстетическое сродство.
Трудно представить, например, чтобы Лоуч последовал примеру Ли, который совсем недавно неожиданно сменил тематический ракурс и снял фильм об истории британской оперетты. А если однажды Лоуч и сделал постановочную картину "Земля и свобода", она все равно оказалась неисправимо социальной.
Формула Лоуча, которого называют "неисправимым идеалистом" – суровый, парадокументальный реализм с укрупненной, почти телевизионной оптикой. Что не исключает в необходимых случаях примеси романтики, лирики и мелодрамы. Режиссер не отрицает влияния на себя неореалистической комедии, раннего Милоша Формана и чешской "новой волны", особенно что касается работы с непрофессиональными исполнителями. Его камера никогда не устремляется к самоценным красивым объектам и никогда не ищет сугубо эстетических решений человеческих конфликтов. Лоуч, бывший юрист, судит эти конфликты по совести, согласно нравственной интуиции.
Даже когда за камерой у Лоуча стоит Крис Менгес, результат не имеет ничего общего с тем визуальным маньеризмом, который изысканный оператор демонстрирует на съемках у других режиссеров. Например, у Ролана Жоффе в фильме "Миссия". Почти одновременно с ним, в 1986-м, появляется картина "Отечество" Кена Лоуча. Даже знаток не определит, что это тоже операторская работа Менгеса. И для Лоуча это принципиально новый шаг: рассказ о берлинском певце-диссиденте и о том, что сталинизм не есть социализм, а капитализм не тождествен свободе.
Точно так же "Спрятанный дневник" (1990) – жесткий анализ тэтчеровской политики расправы с ирландским сепаратизмом – не похож на приправленные декадансом "ирландские сказки" типа "Игры с плачем" Нила Джордана. Точно так "Кукушка, кукушка" (1994) – обвинение судебной системы, лишающей материнских прав многодетную маргиналку и ее мужа-иммигранта – не укладывается в рамки политкорректных голливудских аналогий. Натуральный, вырастающий на жизненной почве драматизм, откровенность симпатий и антипатий, отсутствие формального "хэппи энда", благородный, обращенный к каждому человеку интимный тон делают фильмы Лоуча уникальными в современном кино, которое на большей части Европы явно преждевременно списало в архив всякую социальность, а вместе с ней и мотив морального беспокойства.
"Гравий" (1993) – на этой социальной комедии стоит остановиться подробнее, ибо она, никого не разоблачая и не обвиняя впрямую, наиболее наглядно иллюстрирует жизненное и художественное кредо режиссера.
Герой картины Боб уильямс – безработный. Дочь Боба готовится к конфирмации, ей нужны белое платье, туфли, вуаль и перчатки. Можно, конечно, взять их напрокат, но для убежденного католика Боба это звучит дико – арендовать то, что касается столь интимного ритуала. Денег взять неоткуда. Пытается подработать с помощью своего фургона, но именно в этот момент его угоняют. Отчаявшийся Боб крадет овцу, с горем пополам забивает ее, но продать мясо не удается. Словом, он – классический неудачник, которому общество не сулит даже в отдаленном будущем никаких перспектив.
И все же он хранит то главное, что отделяет неудачника от опустившегося люмпена, – веру в Бога и человеческое достоинство. Оно закрывает ему и тот путь к "процветанию", что выбрала дочь его приятеля, торгующая наркотиками и говорящая родителям, будто продает косметику. Она – уже "на другой стороне"; Боб делает все, чтобы остаться "на этой". По словам самого режиссера, «когда мир рушится вокруг тебя, важно сохранить хоть толику самоуважения. Пускай отключен телефон и холодильник пуст, но если в тебе живо достоинство, не все потеряно!»Платье для конфирмации (в конце концов Боб покупает его, влезая в долги) становится зримым символом этого человеческого достоинства, которое важно сохранить из последних сил, во что бы то ни стало.
В "Гравии" левая идеология сближается с христианством, как сближается она и в реальности конца XX века, покончившего с коммунизмом в пользу либерального консерватизма ("Труд важнее капитала", – сказано в одной из последних папских энциклик). Лоуч считает абсурдным убеждение либералов в том, что достаточно быть инициативным, чтобы преуспевать, из чего следует, что неудачники сами виноваты в своих несчастьях. Для героев Лоуча в тэтчеровской и пост-тэтчеровской Англии ничего не меняется на протяжении десятилетий. А ведь герои эти не примитивные "хомо советикус" – нормальные британцы, не хватающие звезд с неба, но готовые честно работать. Общество делает из них аутсайдеров, инвалидов, психически больных. Солидарность с жертвами, с теми, кто слабее, для Лоуча – не вопрос политики или партийной принадлежности, а естественное проявление духовной элегантности.
Безработный – пария современного мира, отброшенный на обочину общества, все более отчужденный, нечистый, наказанный неизвестно за что. Взывая к справедливости, Лоуч возвращает сознание современного мира к раннехристианскому евангелизму. Не случайно чуткие к таким вещам поляки прощают ему почти социалистическую ориентацию и сравнивают с Кшиштофом Кесьлевским, с которым они схожи даже внешне. Правда, Кесьлевский, переживший несколько мутаций социализма, разочаровался в политических методах воздействия на действительность и предпочел маршрутам материального мира духовную вертикаль. Лоуч верен земной горизонтали, "ползучему реализму" и моральный урок сочетает с политическим посланием.
Снимая "Гравий" в Мидлтоне, рабочем пригороде Манчестера, Лоуч сначала провел документальные пробы и таким образом нашел для фильма непрофессиональных исполнителей из местной среды, знакомых с бедностью не понаслышке. " В течение пяти недель мы хохотали, как сумасшедшие, —вспоминает Лоуч. – Это нормально, юмор – единственное средство, которым располагает человек, чтобы сделать невыносимое приемлемым".
Во всех своих фильмах Кен Лоуч обращается к эмоциональному опыту и чувствам людей, поставленных в ситуацию повседневного выбора. Режиссер показывает, что от этих рутинных решений зависят не только личные судьбы, но и то, куда движется человечество.
"Земля и свобода" – первая картина Лоуча, в которой он поворачивается лицом к событиям большой истории. Гражданскую войну в Испании ("... которая забыта почти, как Троянская война") он рассматривает как грандиозный европейский миф, "последний крестовый поход", как стычку всех идеологий XX века – фашизма, коммунизма, социализма, национализма и анархизма – при слабом противодействии демократии. Сегодня, когда одни из этих идеологий переживают упадок, а другие опять пытаются подняться, опыт прошлого высвечивается по-новому. Он вдохновляет Лоуча на создание романтической легенды об идеалистах-революционерах, объявленных троцкистами и преданных как Сталиным, так и западными демократиями.
Трезвость аналитика принуждает Лоуча признать, что "социализм в действии", о котором мечтают его герои, мало чем отличается от фашизма, а все радикальные идеологии ведут к насилию и предательству. С другой стороны, режиссер оставляет своим героям революцию в качестве романтической мечты. И здесь, в этой почти классицистской трагедии, и в своих современных фильмах Лоуч избегает диктуемой их предметом сухости, предпочитая обратное – избыток сентиментальных эмоций. Политкорректность именно на это и опирается, пробуждая чувства добрые к маленьким слабым людям. Они выглядят такими трогательными и симпатичными ровно до тех пор, пока составляют угнетенное меньшинство.
Фестивальный успех картин Лоуча всегда вызывал кривую усмешку нашей кинопрессы: мол, развели там у себя соцреализм и дурью маются. А вот если в один прекрасный день кто был никем, вдруг да станет всем... Памятен один газетный репортаж с Венецианского фестиваля о фильме Лоуча "Песня Карлы" (1996). Каждая строчка дышала сарказмом в адрес создателя картины, который имел наглость – или глупость – романтизировать сандинистов. Репортер строго отчитала Лоуча – кумира западных интеллектуалов от кино – и заметила, что хорошо ему, сидя в Лондоне, рваться в Никарагуа и воспевать революцию. А вот пожил бы, да еще в оны годы, в Москве, постоял в очередях, отмучился на партсобраниях – и, глядишь, бросил бы сии благоглупости.
Работы Лоуча действительно напоминают незабвенные образцы советских фильмов на "военно-патриотическую", "производственную" или "морально-этическую" тему. С той разницей, что Лоуч не стоит на учете в райкоме партии, что сделаны эти фильмы не по заказу и не по канону, а проникнуты личной убежденностью. Что играют в них потрясающие актеры, нередко непрофессиональные, во всем блеске британской школы. Что ренессанс социального кино стал естественной реакцией на засилие маньеризма.
Раньше контраст оценок в отечественной и мировой кинопрессе был предопределен идеологически. В наши постмодернистские дни он почему-то не только не исчез, но стал еще более кричащим. Отечественные эстеты захлебываются от любви к Гринуэю – в то время как западная критика называет каждый его очередной опус "горой из пуха". Кульминация моды на Линча приходится у нас как раз на тот момент, когда весь мир уже констатирует кризис создателя "Твин Пикс". Примерно то же самое с Тарантино и почти противоположное – с Джармушем, ранние "простенькие" ленты которого, принесшие ему мировую славу, российские интеллектуалы открывают теперь сквозь метафизическую призму "Мертвеца". Волна китайских шедевров и вовсе до нас не дошла, а победа в Канне иранского фильма способна вызвать лишь великодержавную ухмылку: опять на Западе оригинальничают. С другой стороны, превознесенный и увешанный "Оскарами" "Английский пациент" понят только двумя-тремя киноведами, знакомыми с историей английского кино; остальные обиженно поджимают губки: их бы самих в Академию.
В 1997 году на международном симпозиуме в Сочи критики специально занялись обсуждением ситуации вокруг Лоуча. Молодые российские журналисты обозвали его зажравшимся искателем экзотики и приключений. На что президент ФИПРЕССИ англичанин Дерек Малькольм, страстный фанат Лоуча, воскликнул в изумлении: "Миссис Тэтчер еще жива! Она живет в России!"
Да, судьба Лоуча в России поучительна. Поднимаемые им, казалось бы, давно отыгранные у нас проблемы вновь обретают реальные контуры по мере того, как российская демократия все более явно дрейфует в сторону национализма, а частный человек не имеет теперь даже хлипкой защиты в виде социалистической двойной морали.
В том же Сочи разразился скандал на премьере фильма "Брат", награжденного главным призом. Юный герой картины, вернувшийся в цивильное общество с чеченской войны, становится не просто киллером, а "киллером с моралью". Он сильно недолюбливает америкашек и евреев, а лимит интернационализма раз и навсегда исчерпывает в дружбе с обрусевшим бомжом-немцем. Он – простой русский парень – с естественным отвращением поносит "черножопых", вызывая одобрительный смех и даже аплодисменты в зале.
На пресс-конференции иностранные журналисты робко поинтересовались у режиссера Алексея Балабанова, не обеспокоила ли его такая реакция публики. Ответ прозвучал в том духе, что чего уж там, народ и вправду так считает, а как к этим чеченцам относиться, ежели мы с ними воюем? Когда корреспондент "Голоса Америки" попытался прояснить позицию режиссера, тот был краток: "Просто я Родину люблю". После другой сочинской премьеры американская журналистка русского происхождения вылезла некстати с каким-то каверзным вопросом. Изрядных знаний русского сленга ей не хватило для полного понимания ответа, но фразу об агентах ЦРУ расслышала хорошо.
Между прочим, именно политические интриги ЦРУ разоблачает Кен Лоуч в "Песне Карлы", и именно за это его так нахваливали американские участники симпозиума. Наши при этом криво ухмылялись. Но, несмотря на разное отношение к ЦРУ и США, "правые" и "левые" у нас – понятия весьма условные и имеют смысл только как сугубо внутренние термины. Вслед за политикой и экономикой культура и кинематограф в России неуклонно правеют – в то время как на Западе наоборот. Югославский конфликт (идеальная тема для Лоуча!) обнаружил полную противоположность двух этих векторов.
Еще пару лет назад невозможно было представить, чтобы английская киножурналистка произнесла нечто подобное тому, что ее российская коллега: "У нас самое умное правительство в мире. Им бы в Европе такого Чубайса". Творческая интеллигенция на Западе тем более критически относилась к своим правым правительствам, чем более она творческая. Уже не собираясь, как в 68-м, на баррикады, она выдвинула таких искренних радикалов-романтиков, как Кен Лоуч, в качестве противовеса монополии консерватизма.
Станут ли они же в оппозицию левым правительствам Европы, разбомбившим Косово и Белград, – вопрос открытый.
6. Бертран Блие. Блудный сын великой культуры
"Приготовьте платочки"
"Слишком красива для тебя"
"Приготовьте платочки"
"Мужчина моего типа"
"Отчим"
"Холодные закуски"
"Вальсирующие"
Если экзистенциальные 60-е годы во французском кино – это Годар и Трюффо, а барочные 80-е – Бессон и Каракс, то 70-е являют мертвую зону, паузу, отлив между двумя могучими приливам. В это время не родилось ни новых идей, ни новых эстетик, господствовал усредненный вкус, художники вяло перестраивались с авторской волны на коммерческую под диктовку более нахрапистых видов масс-медиа. Но именно в это время окреп и утвердился человек, без которого современное кино теперь уже трудно представить. А кино Франции и подавно. Ибо он осуществил связь времен. И за эту свою историческую роль получил место в пантеоне "священных чудовищ .
Бертран Блие начинал в двойной тени – прославленных авторов "новой волны" и своего отца Бернара Блие, универсального актера, сыгравшего несколько десятков характерных ролей у Клузо, Кристиан-Жака, Кайятта, Ле Шануа (Жавер в "Отверженных") и Других крепких профессионалов "папиного кино". Блие-старший был одним из тех, на кого это кино опиралось в не меньшей степени, чем на Жана Габена или Мишель Морган, – даром что в природе этого тучного увальня не проглядывало ничего романтического или светского.
Появление в киномире Блие-младшего было отмечено в ряду еще нескольких дебютов детей "влиятельных персон . Судя по всему, Бертран чувствовал себя не вполне уютно в роли блудного сына, поклонника Бунюэля и ценителя эффектных провокаций. Он долго не мог (или не позволял себе) развернуться в полную силу, хотя дебютировал еще в 1962 году, двадцати трех лет от роду, фильмом "Гитлер... Такого не знаю!". Работать на съемочной площадке он научился, служа ассистентом у того же Кристиан-Жака – благодаря папиному кино в буквальном смысле.
Настоящий Блие начинается лет десять спустя. Начинается фильмом, эмблематичным для "безрыбьего десятилетия – но отнюдь не в том смысле, что "Вальсирующих" (1973—74) можно упрекнуть в безликости. Проникнутый ренессансным здоровьем, полнокровный и свободный, фильм словно бы ошибся во времени, но именно этой ошибкой накрепко впечатался в него – как прекрасная утопия, как идеальный неосуществленный проект бесплодных 70-х.
Только понарошку Блие строил гримасу морального эпатажа. Кого это на излете сексуальной-то революции могли всерьез озадачить похождения двух столь же озабоченных, сколь и беспечных волокит и их подружки, пребывающей в безуспешных поисках оргазма? Куда важнее был эстетический вызов: ощущение живой, дышащей и вожделеющей плоти пронзило выхолощенную, галантерейно упакованную материю тогдашнего французского экрана, где даже эротика была куртуазной, картезианской.
Прежде сюжета, жанра и стиля в "Вальсирующих" видны актеры. Дуэт Жерара Депардье и Патрика Дэвэра превращается в трио с Миу-Миу и – ближе к финалу – в квартет с Изабель Юппер. Практически то был дебют (или первая заметная роль) всей компании будущих звезд, волшебно соединившихся в том чудном возрасте, когда их еще не портят миф и слава, а удовольствие от авантюры выше канонов профессионализма. Задним числом в затее Блие видятся воля провидения и жест прорицателя. Миу-Миу – актриса с прекрасными драматическими данными – большую часть жизни будет маяться от творческой недоосуществленности. Юппер быстро потеряет творческую "девственность" и станет холодной французской "профи". Симптоматично, что в "Вальсирующих" ее дефлорирует сам Депардье – будущий король, он же Распутин и носитель "плебейской мощи", "неистовый донор" (цитирую Зару Абдуллаеву) французской культуры. А слабым партнером в мужском союзе оказывается Дэвэр – артист чувствительности явно чрезмерной и приведшей его к гибели всего через несколько лет после "Вальсирующих". Наконец, от имени "высокой культуры" в фильме выступает Жанна Моро, дающая в коротком эпизоде взгляд на ситуацию сверху, придающая легкомысленной интриге отблеск трагедии.
Еще когда нонконформизм "новой волны" не задохнулся под слоем стильного глянца, Блие был признан выдающимся мастером провокаций на ровном месте. Он окончательно запутал "идейную" критику, вынужденную поддерживать фильм за антибуржуазность и молодежный нонконформизм, но в то же время смущенную циничным эпизодом в пустом поезде, где два шалопая унижают молодую женщину. Как написал Жан-Пьер Жанкола, этот и некоторые другие эпизоды "настолько дышат презрением к людям, что смех публики становится подлым – ибо переполненные залы хохочут от всего сердца... Бертран Блие медленно опускается до изображения фашистского поведения, прикрываемого оболочкой извращенного анархизма".
Троица, своеобразная семья из "Вальсирующих", перемещаясь во фривольном танце, снова через четыре года оказывается в орбите кинематографа Блие – в фильме под названием "Приготовьте платочки", награжденном в 78-м году "Оскаром". И еще раз – в картине "Вечернее платье" (1986, опять заметный кассовый успех).
В первом случае Депардье и Дэвэр получают новую партнершу в лице канадки Кароль Лор. В "Вечернем платье" нет Дэвэра – его заменяет и невольно пародирует его женственность Мишель Блан. Депардье, отяжелевший, но еще не обрюзгший, играет прохвоста и волокиту, но с интересом, направленным на менее прекрасную половину человечества. Одна Миу-Миу без перемен – хоть и в роли законной жены (Мишеля Блана), но в знакомом амплуа уличной девчонки, сорванца, сентиментальной гулены. К финалу в фильме нарастает мотив гомоэротики и Трансвестизма, нередкий у Блие и, как всегда, решенный у него деликатно, в полукомедийной интонации. Просто "семья" видоизменилась: в последних кадрах Боб, Антуан и Моник сидят в бистро, словно три Грации: они практически однополы и мирно болтают о своем девичьем. Похоже, над ними только что тихий ангел пролетел.
Пройдет еще время – и треугольник Блие опять поменяет очертания, и только Депардье (теперь уже основательно заматеревший) останется центром тяжести этой хрупкой конструкции. "Слишком красива для тебя" (1989) – так будет называться фильм, и будет предлагать публике еще один вид извращения. Неистового Жерара, познавшего все и вся, будет тошнить от безупречно красивой Кароль Буке (чье лицо украшает в ту пору самые престижные парижские парфюмерные рекламы), а тянуть – к грубой и ширококостной, как тетя Катя со склада, Жоазин Баласко. (Пресыщенный Париж тогда помешался на этой актрисе венгерского происхождения и объявил ее стиль самым элегантным.)
В мире Блие, где множатся, ветвятся и возвращаются на круги своя сюжеты и персонажи, время порой бывает обратимо и меняет последовательность причин и следствий. В финале фильма "Холодные закуски", снятого задолго до "Слишком красивой", в 79-м году, герой все того же Депардье после цепи злодеяний и злоключений оказывается в лодке наедине с прекрасной незнакомкой посреди горного озера. И что же? Незнакомка – та самая Кароль Буке, девушка с рекламы – оказывается дочерью клошара, которого замочил Жерар (в первом кадре – сказали бы мы, если бы убийство не произошло за кадром). Ничего не подозревающий герой уже готов сделать стойку на красотку, видя в нежданной встрече благоприятный поворот фортуны, и вдруг замечает наведенную на него "пушку": месть не только за папу, но и за будущую "слишком красивую для тебя". Впрочем, может, и наоборот: необъяснимое отвращение к эталону женской прелести объясняется нечистой совестью и засевшим в подсознании испугом.
Не то чтобы Блие всерьез был озабочен идеей метампсихоза, но по меньшей мере два его фильма опираются на механизм этой идеи впрямую и непосредственно. Впрочем, именно эти два – "Наша история" (1984) и "Спасибо, жизнь" (1991) – оказались почти провальными. В первом случае дело усугублялось разочарованием фанов Делона, сыгравшего алкаша, влюбленного в шлюху. И фанов Блие, сразу заметивших чужеродность "нашему кино" пары Ален Делон – Натали Бай. Но даже те, кому удалось пережить этот конфуз, зачахли от бесконечного блуждания по гипотетическим сюжетным ходам, по неясным пунктирам, так и не приводящим ни к чему путному и способным вдохновить лишь ценителей словесной схоластики.
В отзыве одного из них эстетические телодвижения Блие выводятся из литературной традиции Шодерло де Лакло и доводятся до концептуализма современного рококо (инсталляций). Видимо, еще более глубокими соображениями следует комментировать двухчасовой опус "Спасибо, жизнь". Повествование и здесь то и дело запинается, сворачивает в сторону, персонажи путаются и меняются ролями. На сей раз поиски истинного сюжета обоснованы известным приемом: "снимается кино". Под него можно смонтировать что угодно: барочный гиньоль из времен нацизма с фарсом о девке, заразившей полгорода смертельной болезнью. И зрители, и герои все меньше понимают, что происходит: ведь "если есть гестапо, не должно быть СПИДа, и наоборот". Определенность не вносит даже Депардье, который обычно чувствует себя в мире Блие, как рыба в воде, но здесь провисает в меланхолическом вакууме.
Казалось, Блие кончился, отстал от времени, безнадежно заплутав в его хитросплетениях. Однако причина неудач заключалась как раз в попытках найти некий универсальный маршрут, определенный выход, свет в конце тоннеля – вместо того, чтобы отдаться прихотливой логике лабиринта. Рациональные подпорки, выпирая все больше и больше, губительны для этого режиссера – что доказывает их вторичность по отношению к некой первичной материи, из которой возникли его ранние фильмы. Эта материя отчасти опять оживает в последних работах Блие – "Раз, два, три – замри" (1993) и "Мужчина моего типа" (1996). И механические упражнения вновь, хоть на короткое время, превращаются во вдохновенный танец, в азартную игру.
Возвращается природный блеск интеллекта, его фонтанирующая спонтанность. Вновь затягивает бешеный темп диалогов, "более подлинных, чем подлинные", – то есть предельно отточенных, острых и лишь замаскированных под праздную болтовню. Язык маргиналов и иммигрантов, проституток и сутенеров, индустриальных окраин и пустырей сохраняет свою натуральность, но при этом выстроен, как доклад на симпозиуме. Не скрывая своей вульгарности, звучит поэтично.
Бертран Блие – один из редких художников "визуальной цивилизации", кто еще верит в слово. Он любит курить трубку и писать. О себе свидетельствует: «Я скорее писатель, чем кинематографист».Прежде чем снять «Вальсирующих», он написал и издал одноименный роман.
В то время как современный кинематограф стал оптическим шоком, ушел в воронку виртуальной реальности, в нем одновременно с "новой зрелищностью" рождается и "новая слышимость". Но не та, что бьет по рецепторам долби-стерео-суперэффектами. Блие ориентируется на нормальное человеческое ухо, на камерный, даже интимный слуховой диапазон. В нем говорит инстинкт защиты от агрессивной имиджелогии.
Защиту Блие ищет в великой литературной культуре своей страны. И культуре театральной, причем не столько в ее высоких образцах, сколько и прежде всего в демократических, сниженных формах. По темам, по диалогам, по построению сцен фильмы Блие следуют традициям бульварного театра и кафе-театра. Оттуда родом и его персонажи – романтические воры; убийцы и альфонсы поневоле; уличные девчонки-подростки с повадками Гавроша; мещанские пары, падкие на порочные соблазны и похождения. Все они – узнаваемые типы популистской литературы и популистского театра. Оттуда же родом и сценография: большинство уличных эпизодов у Блие, не говоря об интерьерных, поставлены в студии, и на экране чувствуется их – "более подлинных, чем подлинные" – поэтичность и живописность.
Для фильмов Блие характерны сцены, разыгрываемые при искусственном свете (эффект "американской ночи", воспетый Трюффо). Некоторые из картин ("Вечернее платье", "Холодные закуски") почти целиком помещаются в вечерне-ночную фазу суток, и это создает дополнительный ряд значений, идущих от поэтического реализма, от старых фильмов Марселя Карне с их сновидческой, призрачной романтикой, дыханием рока и острой нотой трагизма. Но – внимание – Блие, в отличие от своих прямых предшественников и современников из "новой волны", не увлечен стилизацией и не видит в ней самостоятельной ценности. Его отношения со старым кино не полемические и уж никак не скрыто ностальгические.
Это отношения блудного сына с отцом, которому кажутся дикими прически, манеры, сленг и вседозволенность новой генерации. Но рано или поздно происходит братание и выясняется, что цинизм молодежи во многом напускной, или отцовская строгость нравов не абсолютна: разошлись не на такого уж размера дистанцию.
Появление Бернара Блие в фильме Бертрана Блие "Холодные закуски" в роли полицейского комиссара – возвращение, строго говоря, отца к сыну, но суть от этого не меняется. Проработавший с середины 30-х годов в парижских "театрах бульваров", принесший с собой водевильно-опереточный дух, Блие-старший как никто оказался уместен в сумеречном, безлюдном абсурде небоскреба-мегаполиса, в лабиринтах которого прячется маньяк-убийца. Блие-полицейский и не думает ловить его; главная цель героя – забыть убитую им самим жену-скрипачку, но тут, как назло, судьба заносит его на скрипичный концерт...
Посланцем "папиного кино" становится и Марчелло Мастроянни, сыгравший у Блие в картине "Раз, два, три – замри". Он и приглашен в этом качестве – траченный молью и алкоголем "мармеладный папашка", что ни день забывающий путь в собственную квартиру. Еще бы не забыть, если противные окрестные мальчишки то и дело снимают с нее дверь с заветным опознавательным номером и ставят на улице где попало.
Актер классической школы – будь то Бернар Блие, Жанна Моро или Мастроянни – лишь подчеркивает своим присутствием многокрасочную нелепость и абсурдную экстравагантность мира Бертрана Блие, где царствуют истерия и насилие вперемешку с сентиментальными бреднями, где латинская порода и речь почти вытеснены пришлой, арабской, а учительница сливается с учениками в свальном полугрехе.
Последний на сегодняшний день фильм Блие называется "Мужчина моего типа". Как и все, что режиссер делает в последнее время, он не несет в себе неожиданностей и повторяет хорошо знакомые мотивы. Забавны и не лишены грустной рефлексии отношения мужчин и женщин; трогательна Анук Гринберг в роли проститутки по призванию; заслужен приз за женскую роль на Берлинском фестивале, врученный ей – новой подруге Бертрана Блие.
Блие, вслед за Годаром, утратил былую провокативность. И, в отличие от Годара, даже не пытался имитировать ее. Он не стал вечным анархистом французского кино – роль, на которую многие претендовали, но немногие выдержали. Если его с кем из зачинщиков "новой волны" и сопоставлять сегодня, то с блестящим парадоксалистом, в прошлом редактором "Кайе дю синема", Эриком Ромером.
Ромер религиозен и антибуржуазен (к Блие имеет отношение только второе). Ромер, как и Блие, литературен, но в своих фильмах адаптирует формы средневекового театра, а также максимы и насмешливые морализаторские сентенции XVIII века. Его называют Мюссе и Мариво Десятой музы, наследником Ларошфуко и Лабрюйера.
Он снимает циклами: "Шесть нравоучительных историй", "Комедии и поговорки", "Сказки времен года". В отличие от Блие, Ромера не интересуют бисексуальные коллизии и он предлагает своим героям банальный выбор между двумя женщинами, а героиням – между двумя мужчинами. Он описывает любовные недоразумения, соблазны и ошибки юности, сердечные волнения. Нет роковых страстей, главная страсть героев Ромера – любопытство к жизни. Их диалоги подробны и дотошны; они не успокоятся, пока не дойдут до самой сути; садомазохистский процесс спора доставляет им наслаждение, граничащее с половым. В споре всегда побеждает не здравомыслие, а чувственный порыв. Поймать "зеленый луч" (название знаменитой ромеровской картины) или "голубой час" (лирический мотив другой) дано только тем, чей интеллект уравновешен искренностью и доверием к жизни.