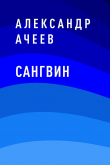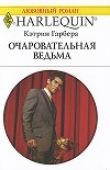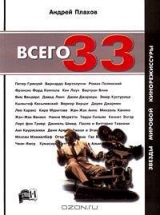
Текст книги "Всего 33 звезды мировой кинорежиссуры"
Автор книги: Андрей Плахов
Жанры:
Кино
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Действие перескакивает с простреливаемых снарядами улиц вчерашнего Тбилиси в средневековый восточный замок, оттуда – в казематы грузинского НКВД, потом – опять в наши дни. Одни и те же актеры разыгрывают сцены из разных эпох грузинской истории, мгновенно взламывая временные барьеры. И каждый раз вступают в одну и ту же мутную воду манипуляций, интриг, самоутверждения за счет унижения других. В то время как средневековый царь картинно штурмует крепость, другая крепость сдается без боя: жена царя расстегивает запасным ключом пояс целомудрия. Энкавэдэшник обучает сына-пионера искусству пыток, не зная, что пионер уже настрочил на папу убийственный донос. Торговцы оружием, разорив страну, обустраивают себе сладкую жизнь в Париже – между тем их дочь, студентка Сорбонны, полная ненависти к родителям, уже заряжает ружье, которое в них выстрелит.
Как бы Иоселиани ни манипулировал историческими аналогиями, все равно он в конечном счете подтверждает репутацию "художника современной темы". Все равно больше всего сарказма, но и больше всего чувства, в третьей, современной новелле фильма. Первые две разыграны режиссером с оглядкой на грузинскую киномифологию, которая холодновато и без явной полемики переосмысливается. В первом случае – постановочная статика полотен Параджанова, во втором – оперная патетика "Покаяния" Абуладзе. Иоселиани снижает антитоталитарный пафос до обыденности, а эстетизм заземляет с помощью механизма полного отчуждения.
Если в фильме и есть герои, которых режиссер любит, они мелькают на периферии сегодняшнего дня и выглядят осколками прошлого. Это тихие пьяницы, бродящие под пулями по старому Тбилиси. Это парижские бомжи, чьи черты узнаваемы в аристократических парадных портретах. Это старушки, почти из "Охоты на бабочек", одна из которых в новом фильме носит завтрак клошару, а другая обучает приезжего нувориша тонкостям французских вин. Это все те же "фавориты луны" – проворовавшиеся жители отаровского Парижа, словно бы увиденного из проема старого тбилисского дворика, из Верийского квартала, где все живут рядом и где еще существует воспоминание – скорее всего иллюзорное – о коллективной морали.
Фильм начинается и кончается со сцены в кинозале, где боссы-заказчики, развалившись и покуривая в креслах, начинают просмотр "Разбойников" с конца: так запускает пленку пьяный киномеханик, похожий на самого Иоселиани. Настоящие заказчики живут не только во Франции, а некоторые (из Союзкиносервиса) даже в России, и эта ситуация афронта для режиссера не нова. В Грузии некоторые критики уже попытались развернуть кампанию против вчерашнего кумира. В Риге русские киноэксперты морщились и недоумевали, зачем режиссер "сломал свой имидж" и "разрушил свой мир". Он действительно не щадит ни имидж, ни миф, сохраняя только все более мрачный юмор и неизменный знак качества.
Принципиально, что финал фильма – это не конец истории. Это – Конец Истории. Дело не в том, что человечество не может реально измениться к лучшему; с некоторых пор оно не в состоянии произвести эту операцию даже в самом смелом воображении. Крах всех идеологий, всех утопий не оставил места и культурным идеалам. Не отсюда ли – резкий крен драматургических структур в сторону "дурной бесконечности"?
Самые ленивые заметили это с появлением Тарантино. Но вовсе не в том новизна "Бульварного чтива", что история в нем рассказывается не с начала, а с конца или середины. Куда важнее, что она, содержа в себе множество событий и будучи оформлена в три эпизода, вообще не имеет ни значимого начала, ни середины, ни конца. Традиционные элементы драматургии – завязка, кульминация и развязка – трансформируются в три равноценные новеллы, между которыми сквозит не драматургическое, а совсем иного рода напряжение, иная связь. Эту связь сочли бы мистической, если бы она не была явственно мистифицирована законами виртуального мира.
Конструкция триптиха, в котором части целого соединены не линейной, а круговой связью, вошла в обиход со времен "Таинственного поезда" Джима Джармуша; она присутствует и в "Подполье" Кустурицы, и в картине Милчо Манчевского "Перед дождем" ("Круг не круглый", – как заклинание, произносится в этом фильме). Кесьлевский, опробовав сначала бинарную структуру в "Двойной жизни Вероники", тоже пришел к круговой "трехцветной" модели. Видимо, такая форма лучше всего передает взаимопроникновение различных реальностей и пластов современного сознания, легкость манипуляции ими.
Эта текучесть может быть обоснована по-разному. Метафизическим балансом свободы, равенства, счастья – у Кесьлевского. Агрессивной вездесушностью мотивов масскульта – у Тарантино. У Манчевского вирус насилия передается через времена и расстояния виртуальным путем.
Иоселиани в своем триптихе далек как от метафизики, так и от виртуальных рефлексий. Скорее он визуализирует миражи своего анархистского антимира, его монстров и химер. При этом режиссер не отождествляется ни с какой мифологией, но и не полемизирует с ней, а холодно, почти брезгливо отстраняется.
Спровоцированный режиссером пьяный кавардак с пленкой меняет пропорции не только внутри картины, но и вне ее. Благодаря ему происходит окончательный разлом исторического пространства в художественном мире Иоселиани, который теперь не тешит нас даже подобием уравновешенности. В образовавшуюся брешь проникли холод и сквозняк, из здания выдуло теплый дух домашнего очага, согревавший "Дрозда" и даже героев "Пасторали". В тупике завершившейся мировой Истории – как на ветреном перекрестке: неприкаянно и уныло.
В 1999 году Иоселиани впервые за долгие годы приехал с новым фильмом не в Венецию, а в Канн, впервые сыграл в нем главную роль, впервые дал картине непереводимое название. Английский вариант "Прощай, дом родной" соответствует оригиналу лишь отчасти. Русский мог бы звучать скорее как "Море по колена"; в итоге фильм получил в России прокатное название "In vino veritas". Немного напоминая по структуре "фаворитов луны", этот фильм рассказывает о том, как все перемешалось в мире, как бедные притворяются богатыми, а богатые бедными, как любовь становится заложницей тщеславия. Герой Иоселиани бежит из буржуазного дома вместе с приятелем-бомжом и находит счастье в бутылке.
Иоселиани никогда не строил мифов о западном рае; теперь его пессимизм приобретает глобальный характер, ибо идеал буржуазной пошлости восторжествовал везде. Не осталось больше уголков пасторали, и одинокие певчие дрозды превратились в маргиналов и алкашей.
30. Гас Ван Сент. Первый популист гей-культуры
«Аптечный ковбой»
"Умница Уилп Хантинг"
"Мой личный штат Айдахо"
Вчерашний маргинал Гас Ван Сент сегодня вошел в истеблишмент. Номинированный на "Оскар" по девяти категориям (и награжденный в итоге за сценарий) "Умница уилл Хантинг" (1997) – кинематографический роман воспитания или педагогическая поэма на американский лад. Кто-то предложил еще назвать эту картину "Сиротой Бостонской". История взаимоотношений гениального, но чертовски трудного, выросшего без родительской опеки, подростка с педагогами и психиатрами насыщена актерской экспрессией и энергичной изобразительной фактурой. Из каждого кадра фильма так и прет мощь великой страны, гордящейся своими ценностями, и не хватает только национального гимна за кадром. А сценарий написан двумя молодыми актерами – Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, сразу вырулившим на звездную орбиту.
С "Уиллом Хантингом" Гас Ван Сент вошел в число оскаровских номинантов и режиссеров голливудского истеблишмента. Он выступил и в модном жанре синефильского римейка, сняв год спустя свою версию хичкоковского "Психоза". Никто не скажет, что это сделано плохо, и мало кто сумеет объяснить, зачем. Одним словом, как и у Хантинга, карьера у Ван Сента в последний период покатилась по чересчур правильной и какой-то скучной стезе. Однако его поклонники не теряют надежды в один прекрасный день увидеть своего кумира прежним.
Теперь отъезд на десять лет назад, в пору кинематографических дебютов Гаса Ван Сента. "Плохая ночь" была объявлена кинокритиками Лос-Анджелеса лучшей картиной "независимого" (внеголливудского) производства 1987 года. "Аптечный ковбой" (1989) удостоился уже приза всего Национального Общества кинокритиков – за лучший фильм, лучший сценарий, лучшую режиссуру. В 1991 году "Мой личный штат Айдахо" громко прозвучал на Венецианском фестивале, потеснив Годара, Херцога и Гринуэя. Актер Ривер Феникс из "Айдахо" стал обладателем награды за лучшую мужскую роль. И вот уже "Кайе дю синема" включает Ван Сента в список 20 режиссеров 2001 года.
Правда, потом пошли сбои и полуудачи. Довольно рыхлую ленту "Даже ковбойши хандрят" (1993) режиссеру сравнительно легко простили – вероятно, за феминистский пафос. А его следующий фильм "Умереть за..." (1995) с Мэттом Диллоном и Николь Кидман, посвященный разрушительной власти телевизионных имиджей, хотя и огорчил поклонников режиссера отсутствием второго плана, заставил их же признать, что зато первый (план) несказанно хорош и выразителен, так что картина стала фестивальным шлягером.
Все это – внешние приметы профессионального становления, мало что объясняющие внутри. А внутри просматривается очень американская история с европейскими корнями. Гас Ван Сент – потомок голландцев – родился в Луизвиле, с детства привык перемещаться по обширной стране, как у нас дети кадровых офицеров. Вырос в зажиточной семье – выше уровня мидл-класса. учился в художественной школе на дизайнера и дебютировал в кино короткометражкой "Алиса в Голливуде", которую впоследствии пытался довести до полного метража. Из Лос-Анджелеса перебрался в Нью-Йорк. Делал рекламные фильмы и музыкальные видеоклипы, пока не разбогател настолько, чтобы переместиться снова на западное побережье – в Портленд, штат Орегон.
Там он и осел – к удивлению кинематографической тусовки, стереотип которой – либо Голливуд, либо Манхэттен. Либо – тоже распространенный вариант – кочевая жизнь, перманентный воздушный мост между этими точками, фокусирующими интеллектуальную энергию. Таких кочующих по аэромосту оппортунистов называют в Америке bicostal(двухбережные) – по аналогии с bisexual.Ван Сент, однако, бескомпромиссен и в выборе места жительства, и в своей сексуальной ориентации. Впрочем, когда его характеризуют как openly gay,он пожимает плечами, не считая это чем-то особенным, заслуживающим специального акцента. Ведь не делают такой акцент говоря о гетеросек-суалах, а каждый тип полового поведения включает множество различных вариаций. Да и вообще, добавляет Ван
Сент, из сорока вещей, которые можно сказать обо мне, далеко не первая и не главная, что я – gay.
"Плохую ночь" вообще не надо переводить на русский, ибо и в англоязычном оригинале название звучит по-испански: "Мала ноче". Личный характер этого фильма подчеркивается и сюжетом, и бюджетом. Сюжет – наваждение, страсть, любовь с первого взгляда. Она охватывает маленького буржуа, владельца придорожной лавки в Портленде, к 16-летнему мексиканцу, нелегально пробравшемуся в эти края. Что касается бюджета в 25 тысяч долларов, то его Ван Сент сформировал из своих личных сбережений. Эта полулюбительская черно-белая лента, во всех смыслах обреченная на маргинальность, стала событием и ярко заявила новый режиссерский талант.
"Мала ноче" подкупает почти детской незащищенностью, абсолютной эмоциональной свободой. В то же время фильм умен, аналитичен, нисколько не сентиментален. Хорош эпиграф к нему: "У того, кто совокупляется с быком, вырастает рог". Ван Сент показывает опыт запретного чувства, парадоксально питаемый не только сексуальными табу, но и расовыми предрассудками. Он показывает тяжелый дух нетерпимости ко всякой инакости. Внутренний драматизм, обреченность "жизни на краю" пронизывают картину от первого до последнего кадра, эмоционально отсылая к классике альтернативного кино – "Беспечному ездоку".
Ван Сент многим обязан 60-м годам, и влияние Годара еще скажется в коллажной структуре его последующих картин. Как и родство с Энди Уорхолом, от которого Ван Сент воспринял гипнотическую способность заражать зрителя вуайеризмом. Но, в отличие от обоих, он плавно сводит на нет отчуждающую дистанцию, проникая в своих персонажей, как рука в перчатку. Если Уорхола, сына чешских рабочих-иммигрантов, тянуло к изыску и богатству, Ван Сент, как и Пазолини, находит органическую поэзию в обитателях дна жизни и возмутителях ее спокойствия.
"Аптечный ковбой" поставлен по неопубликованной книге Джеймса Фогля, отсидевшего срок за торговлю наркотиками. Несмотря на это или благодаря этому, фильм содержит элементы дидактики и социальной критики. Благодаря этому или несмотря на это, он попал в российский прокат, где успешно провалился. В отличие от Америки, где сделал приличные деньги.
Вынесенный в название "Аптечный ковбой" – главарь мини-банды из четырех человек, занятой добычей наркотиков. Их метода проста: черпать воду непосредственно из источника. Ведь лекарства продают в аптеках, стало быть, надо грабить аптеки. Жизнь превращается в серию рискованных ограблений, бездомных странствий и нелепых смертей. Действие помещено в Портленд в 1971 год, и это сразу придает дополнительный смысл всей ситуации и добавляет иронии к названию. Только что по дорогам и экранам Америки прошли целые караваны беспечных ездоков и полуночных ковбоев. Но вот золотое время позади, и единственное, что осталось от контркультуры 60-х – это наркотики.
Большинство людей не знает, что будет чувствовать в следующую минуту, и лишь наркоману это известно". Сентенция принадлежит аптечному ковбою Бобу Хьюзу. Как и другая: "Лишь бы спастись от этой жизни – например, от необходимости ежедневно завязывать шнурки на ботинках!" Бегство от нормированной скуки заводит, однако, слишком далеко – и впору бежать назад, из коммуны единомышленников, обреченной в своей изоляции на страх, взаимную ревность, самоистребление. Каждый спасается в одиночку. Попытка порвать с прошлым и вернуться в социум через курс реабилитации остается только попыткой. Тому, кто за не слишком долгую жизнь "закатал себе добра в вену на миллион долларов", не удовольствоваться малым. Но причина неудачи еще и в другом: время экстремальной вольницы ушло, пришла эпоха консерватизма, конформизма, постмодерна.
"Аптечный ковбой" поставил жизненную дилемму и перед самим режиссером. К этому времени Гас Ван Сент не только сделал себе имя, но и сформировал свой жизненный стиль. Ежегодно, начиная с 84-го, оставлял на пленке эссе от трех до пяти минут о том, что произошло в его жизни; возможно, когда-нибудь он смонтирует из этого кинематографический дневник. Одна из его короткометражек "Дисциплина Д. И." – экранизация рассказа Уильяма Бэрроуза, литературного кумира Ван Сента. Другая – "Пять способов убить себя" – мрачная авторская медитация. Кроме того, режиссер не забросил живопись. Его любимый жанр – пейзажи с плывущими по воздуху на переднем плане объектами: то коровами, то шляпами сомбреро; они становятся частыми гостями и его фильмов.
Поначалу кинематографические амбиции Ван Сента не простирались дальше маленьких независимых картин стоимостью под 50 тысяч долларов. Но со своим "Аптечным ковбоем" (бюджет 6 милионов – в 240 раз больше, чем у "Мала ноче") он сразу перескочил в другую категорию. Отныне, как водится в Америке, эта цифра стала определять как бы его личную стоимость, и следовало двигаться только вперед, по нарастающей. Но Ван Сент отклонил все предложения от больших фирм с их дорогостоящими проектами и взялся за "Мой личный штат Айдахо", чей бюджет составил лишь половину от уже достигнутого.
Возможно, это была реакция на разочарование, постигшее гей-комьюнити: ведь герои "Аптечного ковбоя' гетеросексуальны. Зато в центре "Айдахо" двое "хастлеров" – уличных мужчин-проституток. Ведя бродячую жизнь, они находят клиентуру иногда среди женщин, но чаще среди "сильного пола". Оба – Майк и Скотт – молоды и хороши собой, обоих привели на панель разные (но внутренне схожие) судьбы, обстоятельства, психологические травмы.
Майк страдает нарколепсией – свойством засыпать и отключаться в самый неподходящий момент. Он также одержим идеей найти бросившую его мать. Скотт же сам бежал .из богатого дома от авторитарного отца, влиятельного местного функционера. Мальчишек сближает не только быт уличной семьи-стаи, облюбовавшей заброшенный отель, но и чувственное тяготение друг к другу. Ван Сент поначалу и не мечтал, что сыграть эти роли согласятся "идеальные исполнители" – Ривер феникс и Кеану Ривс, идолы тинэйджеров, для которых даже намек на гомосексуальность мог разрушить имидж и погубить карьеру. Но режиссер и артисты (ставшие в итоге съемок "кровными братьями") в самых рискованных эпизодах выходят победителями. Их союзниками оказываются искренность и целомудрие, инстинктивная правда отношений, перед которой пасует всякая предубежденность. Во многом благодаря "Айдахо" Феникс стал идолом "поколения X", культивирующего погружение в жизнь как в нирвану. Его смерть от передозировки наркотиков была признана символичной.
Ван Сент не полагался на импровизацию и провел большую драматургическую работу, соединив три разных сценария (один из них – современная версия шекспировского "Генриха IV"). Любопытно суждение продюсера Лаури Паркер, поверившей в этот замысел и вскормившей его: "Люди думают, что фильм о мальчиках-проститутках должен быть декадентским и криминальным, – говорит она. – На самом деле он скорее диккенсовский, и, уверена, для многих будет сюрпризом, насколько он нежен и обаятелен. Что касается Вас Сента, то помимо его исключительных режиссерских качеств, меня подкупает его любовь к публике. Он подлинный кинематографический популист".
Заметьте, сказано это не о Спилберге. Гас Ван Сент – первый популист, рожденный гей-культурой. Прежде она представала в ореоле элитарной исключительности, моральной провокации, авангардистского шока. Даже в фильмах Энди Уорхола и Дерека Джармена. В последнее время кинематограф вовсю принялся оплакивать жертв СПИДа и сформировал жанр гомосексуальной мелодрамы, в которой самозабвенно любят друг друга (перефразируя классиков) красивые мальчики на красивых ландшафтах – то в Марокко, то на Таити. "Айдахо" – первый фильм, лишенный слащавости и слезливости и при этом обращенный не к "заинтересованной публике", а к большинству, к "общечеловеческим ценностям", которые выше клановых.
Одна из таких несомненных ценностей – семья. Утрата семейного тепла становится причиной драматического раннего опыта каждого из героев. В сущности, болезнь Майка, готового заснуть на ходу, есть не что иное, как защитный рефлекс, неприятие реальности, в которой он оказался отверженным ребенком. "Думаешь, я был бы другим, если бы у меня был нормальный отец?" – спрашивает Майк. "Что значит нормальный отец?" – парирует Скотт, имеющий основания для скепсиса.
Идея семьи реализуется вместе с другой идеей – мужского братства. Ван Сент, изучавший среду "хастлеров", пришел к выводу, что мальчишеская проституция имеет целью не столько наживу или удовольствие, сколько подсознательную потребность найти друга, способного заменить отца или брата. Таковым становится для Скотта Боб Пиджин, глава уличной семьи, колоритный толстяк с животом, раздутым от пива. Этот портлендовский Фальстаф образует со Скоттом дуэт, подобный тому, что некогда был описан Шекспиром (Скотт занял место принца Хэла).
Вся эта пестрая компания во время съемок "Айдахо" и впрямь жила одной семьей под крышей большого дома в Портленде, который в свое время занимали родители Ван Сента, а теперь купил сам режиссер. Ретроспективно в этом свете иначе вырисовывается и другая неформальная компания – из "Аптечного ковбоя". Это тоже модернизированная семья. Сам ковбой и его подруга – папа и мама, а двое новичков в семейном наркобизнесе – дети. Ами Тобин из журнала "Сайт энд Саунд" называет "Айдахо" безумной мешаниной семейных романов, где каждый пытается бежать из своих семей, создавать новые семьи или даже готов с наслаждением рассматривать чужие семейные фотографии.
Наконец, третьей общечеловеческой ценностью оказывается верность – дружбе, друзьям, убеждениям, своей природе. То, что обратно оппортунизму, ставшему эпидемией современного мира. И здесь неважно, правильно ли выбраны друзья и убеждения, хороша ли природа – с общепринятой точки зрения. Как junky(наркоман), так и gayу Ван Сента есть альтернатива обывателю и потребителю. Обратный путь – аптечного ковбоя Боба или уличного потаскушника Скотта – демонстрирует общественно похвальное желание стать straight(прямым, нормальным), но для них самих означает предательство и утрату идентичности.
Скотт предает Майка в первый раз, когда закручивает роман с красивой итальянкой, во второй – когда едет с невестой к внезапно умершему отцу, чтобы вступить в права наследника. Именно в этот момент умирает и его "второй отец" – толстяк Пиджин. Обоих хоронят на одном кладбище, что дает повод режиссеру аллегорически представить социальные контрасты Америки Рейгана—Буша. Чопорный властный клан, ныне возглавляемый Скоттом, противостоит босяцкой процессии Майка и его друзей, танцующих на могиле Пиджина и разыгрывающих шутовской спектакль, словно в пику буржуям. Майк, расставшись со Скоттом, возвращается в уличную семью: это тоже его личный выбор.
Отказываясь от соблазна "жить, как все", а отчасти и не будучи способен к этому, Майк сохраняет нечто более важное, чем приличная репутация и положение в обществе. То и дело теряя сознание, он оказывается более сознательным и совестливым в построении своей жизни, нежели те, кто ее тщательно планирует и организует.
Ван Сент блестяще организовал картину, взяв за принцип субъективное зрение нарколептика. Живописным лейтмотивом фильма стал пейзаж штата Айдахо, который его уроженец Майк всегда носит в душе: желтая, поросшая кустарником пустынная местность, рассекаемая хайвеем, который доходит до горизонта и теряется в дымке дальних гор. Пейзаж, похожий на галлюцинацию. "Эта дорога никогда не кончится, наверное, она опоясывает весь мир", – успеет подумать бредущий по ней Майк и тут же впадет в приступ забытья.
Эта онирическая структура – логика сна наяву – задает и монтажное, и живописное решение картины, и ее жанр, впитавший элементы бурлеска и черного юмора, голливудской психодрамы и авангардного транс-фильма, классиком которого считается Дэвид Линч. Ван Сент, как и Линч, пришел в кино из живописи и опирался на опыт синтетического андерграунда. На него повлияли также учившиеся вместе с ним члены музыкальной группы "Токин Хэдз" во главе с Дэвидом Берном. Музыкальные темы "Айдахо" прослоены иронией и выражают то, чего не скажешь бытовым языком. Что касается живописных ориентиров, среди них должны быть упомянуты Вермеер и Ван Гог. В палитре фильма преобладают красные и желтые краски, в костюмах и дизайне подчеркнуты современные пережитки шекспировских времен.
Ван Сент сравнивает "Айдахо" с полетом в "боинге", где включены шесть разных телеканалов; на каждом из них один и тот же фильм, но пассажир может выбрать тот или иной язык, культурный код. А потом переключить канал. И тогда вдруг "хастлеры" начнут разыгрывать Шекспира, словно заплутав во времени и угодив в другую эпоху, где тоже были им подобные. А когда герои совершают путешествие из Америки в античный город (Рим), они видят мальчишек, болтающихся на "пьяцце" точно так же, как в Портленде.
Охотно признавая себя постмодернистом, Гас Ван Сент, вероятнее всего, им и является. С той оговоркой, что его мышление позитивно, оптимистично и пропитано ренессансным здоровьем.
Однако от бодрящей позитивности до скучного позитивизма не так уж далеко. И "Умница уилл Хантинг", удручающий своей правильностью, сполна это продемонстрировал. Фильм использует те же схемы отношений (мужское братство, "чуть больше, чем друзья"), но в дело опять вмешивается бюджет, теперь уже соответствующий стандартам Большого Голливуда. Начинает выпирать дидактика, а излюбленная Ван Сентом тема отношений наставника и юного подопечного слишком старательно скрывает гомосексуальный подтекст, чтобы выглядеть искренней.
Ван Сент оправдывается: "Когда я слышу вопрос, почему «Уилл Хантинг» столь традиционен, отвечаю, что всегда был. традиционным кинематографистом, разве вы не заметили? Мой любимый фильм – «Обыкновенные люди» Роберта Редфорда. И даже когда я делал кино о наркоманах
и мужчинах-проститутках, по сути вес равно снимал фильмы о самых обыкновенных людях. На том и стою".
С этим трудно спорить. Как и с тем, что из правильного традиционного кино уходит поэзия. И остается вспоминать провинциальные американские пейзажи в ранних картинах режисера, когда в раскаленном воздухе вдруг повисало сомбреро или проплывала корова, цепляясь за облако.
31. Чжан Имоу. Эта страшная близость Китая
"Жить!"
"Зажги красный фонарь"
"Красный гаолян"
"Шанхайская триада"
"Жить!"
Первый киносеанс состоялся в Китае всего на год позже, чем во Франции. Первый игровой фильм выпущен в 1913 году. Первый звуковой – "Гибель персиков и слив" – в 1934-м. Главные темы китайского кино 30—50-х годов – патриотизм и готовность народа к бесчисленным жертвам: в одной из картин тысячи людей закрывают своими телами прорыв в дамбе. Главный жанр – эпопея, обязательным для всех творческим методом было объявлено "сочетание революционного реализма с революционным романтизмом". От кинематографа того периода остался образ Китая как страны с обезличенной индивидуальностью. Даже робкие ее проявления подавлялись в годы "культурной революции". Вплоть до середины 80-х китайское кино оставалось для остального мира (не считая Албании и краткого периода "вечной дружбы" с Россией) terra incognita.В нем практически не было международно известных фильмов и имен.
Когда европейские левые шестидесятники "играли в Мао" (а герой этого рассказа был отправлен на исправительные сельхозработы), один из левых – итальянский режиссер Марко Беллоккио – снял фильм "Китай близко". Спустя двадцать лет Бернардо Бертолуччи в "Последнем императоре" с утонченной самоиронией прокомментировал юношеское увлечение маоизмом. На этом можно было бы поставить точку в отношениях между Китаем и мировым кинопроцессом, если бы...
Если бы в том же 1988 году, когда праздновал свой триумф "Последний император", не появился первый китайский фильм, ставший фестивальным шлягером. "Красный гаолян", поразивший своей живописной экспрессией, был снят никому не известным режиссером по имени Чжан Имоу. Три цвета невероятной интенсивности – красный, синий и желтый – господствовали в этой картине. Они фиксировали основные темы фильма с визуальной настойчивостью современного "техниколора". Желтый – цвет солнца и человеческих лиц. Синий – цвет ночи. Красный – цвет украшающих тела женщин тканей, цвет сорговой водки
(процесс ее производства подробно запечатлен в картине) и цвет крови.
Критики в недоумении застыли перед этим экзотическим продуктом, абсолютно незнакомым на вкус и потому ни с чем не сравнимым. Никто толком не знал ни количества производимых в Китае фильмов, ни стандартов, на которые можно было бы ориентироваться. Был ли "Красный гаолян" вершиной тогдашнего китайского кино? Или являл собой рядовой образец национальной кинопродукции? Не было критерия и данных, чтобы судить об этом. Знакомым показался только чрезвычайно сильный и кровавый финал, пробуждавший ненависть к японским оккупантам (без всякой неловкости от того, что фильм снят на японской пленке "Фуджи"). Речь шла о делах давно минувших дней, и, однако, эти сцены гневом и яростью сравнимы только с советскими военными драмами, когда посредством экрана дискутировался вопрос: "Люди ли немцы?"
Зато остальная – и основная – часть фильма была лишена патриотических подпорок, рассказывала о нормальных людях и нормальных чувствах. О любви, ревности, желании и страхе. Напоминая тем самым классика японского кино Акиру Куросаву, который заставлял видеть сквозь экзотизм костюмов и манер Страны восходящего солнца вечную игру человеческих страстей.
Это был исторический момент, когда китайское кино (как некогда японское) вышло из резервации к мировому признанию. "Красный гаолян" еще содержал рудименты отработанной идеологической схемы, но уже был упакован в остро современный дизайн с умелой дозировкой фольклорной экзотики. С той поры красно-сине-желтый колорит, дух мелодраматической притчи на грани трагедии и прекрасное лицо актрисы Гун Ли, звезды и подруги Имоу, стали в совокупности фирменным знаком нового китайского кино.
Картина Имоу выхватила "Золотого медведя" на престижном (тогда еще Западно-)Берлинском фестивале прямо из-под носа у "Комиссара" Александра Аскольдова, возвестив о близком конце перестроечного "русского сезона". Запрограммированный на короткое дыхание, этот сезон выдохся естественным образом. А наши желтолицые друзья продолжали штурмовать труднодоступные вершины.
Среди них почти одновременно выдвинулись два лидера. Соперником Имоу стал Чен Кайге, обративший на себя внимание даже раньше, еще своими первыми лентами, оператором на которых работал не кто иной как Чжан Имоу. Дважды на рубеже 80~90-х годов Чен Кайге подбирался к "Золотой пальмовой ветви" в Канне. Но тщетно. Имоу поначалу был удачливее. Правда, в том же Канне-90 его новая лента "Дзю Ду" тоже не получила приза, зато она была номинирована на "Оскар", а год спустя режиссера номинировали в Голливуде еще раз – за картину "Зажги красный фонарь" (обе – мелодраматические притчи на темы китайской истории с достаточно смелыми аллюзиями). Правда и то, что "Оскар" Имоу так и не достался.
В труднейшем венецианском конкурсе 1991 года "Фонарь", признаный шедевром живописного символизма, снискал огромный зрительский и критический успех, однако в официальном конкурсе уступил главный приз михалковской "Урге". Но всего год спустя Имоу представил в Венеции сделанную в совершенно ином ключе социальную драму "Кюдзю идет в суд". Живописный курс резко меняется на повествовательный. Лишь в эпизоде свадьбы мелькает отблеск прежних броских решений и эффектных мизансцен. Имоу все меньше интересуют символика и ритуал, все больше – парадоксы личности и истории. На сей раз триумф был полным: Гун Ли, впервые сыгравшая не декоративную красавицу, а простую, замотанную в платок крестьянку, непреклонную в борьбе с бюрократами за свое оскорбленное достоинство, была признана в Венеции лучшей актрисой, а Имоу стал обладателем "Золотого льва". Так что призовой "зоопарк" у режиссера рекордный.