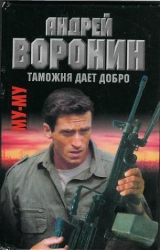
Текст книги "Таможня дает добро"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
И возможно, если бы не заржала его лошадь, он продолжал бы лежать, прижав бинокль к глазам.
– Что б тебя волк задрал! Постоять не мог спокойно? – сползая с пригорка, буркнул егерь.
Ржание лошади услышали и таможенники. Они насторожились. А затем Раймонд махнул рукой.
– Хрен с ним! Труп в лодке накрыт брезентом, так что спокойнее, ребята, спокойнее. Мы свое дело сделали, а этих двух дня два–три искать никто не станет.
Загремели весла, затем заурчал, переходя на визг и жужжание, мотор.
Григорий Скляров быстро шел по лесу, спеша к своему коню. Он не слышал, как глухо булькнул вначале один труп, затем второй, не видел, как разошлись круги на серой, почти свинцовой воде Западной Двины. Трупы были брошены метрах в двенадцати от берега в самом глубоком месте. Тяжелые камни тотчас утащили их на дно.
– Ну вот и порядок, – сказал Раймонд, вытирая свой автомат. – Сейчас приеду, смажу его, просушу. Патронов у меня хватает, так что, в общем, никто ни о чем… И вы – молчок.
– Ясное дело, – невесело произнес Овсейчик. Сержант тоже кивнул головой.
– Давайте, я вначале вас подброшу, а потом сам поплыву.
Моторка, промчавшись по Двине километра полтора, уткнулась в берег у высокого причала заброшенной паромной переправы. Два белорусских таможенника сошли, на прощание кивнув Раймонду.
А тот развернул лодку и поплыл к противоположному берегу.
Пустую лодку старика–хуторянина медленно крутило и несло по течению Двины, несло в сторону Риги – к городу, знаменитому своими ганзейскими традициями, а теперь центру контрабанды металлов, которые вывозили из Беларуси, Украины и России. Рига своих традиций торговли не утратила, но теперь торговля была большей частью нелегальной.
Глава 12
Часов в восемь вечера Григорий Скляров, усталый и злой, вернулся домой. Он пытался улыбаться, но улыбка на его лице казалась неестественной, словно приклеенной.
– Что с тобой, Гриша? – спросила жена.
– Ничего, ничего, – пробурчал он в ответ.
– Идем ужинать.
– Нет, не хочу.
– Почему? – насторожилась жена.
– Не хочу, и все.
«Что‑то случилось», – подумала женщина. Но, прекрасно зная характер мужа, поняла, лучше ни о чем не спрашивать, все равно не скажет.
Дочка была занята своими делами. Она утюжила детскую одежду, слезы иногда капали то на платьице, то на ночную рубашку.
Григорий подошел к дочери.
– Что, она спит?
– Да, уснула только что. Дала ей лекарства, и она вздремнула. Ты, папа, как ушел утром, с тех пор она не спала.
– Я же тихо, – сказал Григорий.
– Ты здесь ни при чем. Просто все время она жаловалась, что ей плохо. Скорее бы уже…
– Что скорее? – насторожился Григорий.
– Да не знаю что…
Григорий приоткрыл дверь в комнатку внучки. Та спала, ее бледное лицо казалось восковым, под глазами темнели круги.
– Боже мой, – сказал Григорий, – а я думал, приеду, с ней поговорю.
– Она тебя не дождалась, сказала, что завтра с тобой поговорит. Совсем слабенькая, – усталым голосом пояснила дочь.
– Пойдемте ужинать, – подойдя к дочери и к мужу, негромко произнесла жена, вытирая влажные руки о накрахмаленный фартук.
– Да, да, пойдем. Пойдем, дочка, поешь. На тебе самой лица нет.
– Я тоже, мама, не хочу.
– Хоть молока выпей.
– Молока выпью потом. Я поутюжу, сложу все, потом приду. А вы идите ужинать.
Григорий сидел напротив жены в маленькой уютной кухоньке.
– Гриша, что‑то случилось?
– Нет, ничего, – буркнул мужчина, наливая в чашку теплое молоко.
– Ты бы мяса поел, целый день на ногах.
– Я в лесу.
– В лесу, в лесу… заладил одно и то же. Ты же домой приехал, я готовила. Вот блины, вот мясо, поел бы.
– А выпить у нас есть? – спросил Григорий, своим вопросом давая понять: что бы ни ответила жена, он все равно выпьет.
Женщина догадалась, что случилось что‑то и впрямь серьезное, если муж вот так сразу, сев за стол, просит выпить. Она принесла бутылку водки, уже начатую, поставила на стол. К бутылке придвинула граненую стограммовую рюмку.
Григорий налил и, не глядя на жену, одним глотком выпил. Пожевал немного хлеба, затем налил еще рюмку и так же, залпом, не задерживая дыхание, проглотил.
– Может, ты все‑таки скажешь?
– Нет, ничего не скажу, – ответил мужчина и принялся безо всякого аппетита жевать кусок мяса, который неловко подцепил на вилку.
Уже перед тем как лечь, часов в одиннадцать, Григорий вышел на крыльцо, посидел, покурил, нервно и настороженно, посмотрел на темные тучи, которые медленно закрывали чистое небо.Сплюнул себе под ноги.
«Гроза будет. Наверное, и внучке поэтому худо.»
Тучи ползли медленно, не предвещая ничего хорошего. Налетел ветер, зашумели березы и две старые липы, стоящие прямо у дома. Замычала корова, в хлеву заблеяли овцы. Несколько раз ударил копытом конь в хлеву и негромко заржал, словно бы чувствуя, что хозяин неподалеку.
«Коня я вроде попоил», – подумал егерь, тяжело поднимаясь с маленькой скамеечки, и, стараясь не шуметь, прошел в дом, закрыл дверь изнутри на засов, чего раньше никогда не делал.
Жена и дочь уже спали. Григорий улегся, натянул одеяло до самых глаз и замер в оцепенении. Перед мысленным взором проплывали ужасные картины: два окровавленных трупа, таможенники со звероподобными лицами, устье реки, берег, поросший густой травой и кустами.
«Сволочи! Сволочи! Ну, я с вами разберусь, я с вами за это посчитаюсь! Вы у меня за все заплатите по полной цене!»
Во сне вздыхала жена.
«Ей тоже тяжело», – подумал Григорий, поворачиваясь на бок и заставляя себя уснуть.
Темные, низкие, лохматые тучи, в глубине которых копошился и рокотал гром, закрыли все небо. Но дождь пока не начинался, словно у него еще не хватало сил, чтобы прорваться сквозь густую темную пелену мохнатых туч. Над горизонтом вспыхнула первая молния, колючая и острая, похожая на зигзаг, который рисуют ярко–красной масляной краской на дверях трансформаторных будок.
Мужчина на опушке леса в камуфляжной форме обернулся, услышав хруст и тихие голоса.
– Я здесь! – подал он голос, вставая во весь рост, махнул рукой. Из лесу к нему приблизились еще двое.
– Ну как ты тут? – спросил латышский таможенник Раймонд.
– Нормально. Дома он, скотина, дома!
– Точно, дома? – переспросил сержант у своего приятеля.
– На крыльцо выходил, курил. Я его видел.
– Это хорошо, – Раймонд поставил на землю железную канистру, от которой пахло бензином. За спиной у него покачивался автомат. С оружием были и двое других таможенников.
– Ну что? – спросил Раймонд. – Идем?
– Может, не надо? – сказал белорусский таможенник, глядя на хутор под большими деревьями.
– Ты что, в тюрьму хочешь? Хочешь за колючей проволокой сидеть, хочешь, чтобы тебя в задницу трахали, как пидара гнусного? – осклабился латыш, и его зубы блеснули во тьме.
– Нет, не хочу, – задумчиво произнес таможенник.
– Тогда пошли.
– А если он… того?
– Что «того»? – спросил латыш. Он уже взял руководство над менее решительными коллегами в свои руки, говорил отрывисто, давая приказы.
– Если он стрелять начнет? У него ружье есть и карабин.
– Не начнет, не успеет.
– И что, всех? – спросил белорусский таможенник, вытирая вспотевшее лицо.
– Всех под корень. Он нам здесь жить не дает, он слишком много знает. От него жди беды.
– Давай выпьем, —не слишком уверенно произнес сержант.
– Что ж, выпить можно, – Раймонд вытащил из‑за пазухи бутылку водки, свинтил пробку и пустил бутылку по кругу.
Мужчины выпили, белорус хотел закурить, но Раймонд шикнул на него:
– Ты что, с ума сошел? У тебя крыша поехала? А вдруг увидит огонек?
– Да–да, – Овсейчик спрятал мятую пачку сигарет в карман камуфляжной куртки.
– Бери канистру, – приказал латыш. Все втроем двинулись к хутору.
Возможно, если бы вечером Григорий Скляров не спустил с цепи своего пса, то тогда бесшумно подойти к хутору таможенники не смогли. Но пес где то бегал по своим делам, и поэтому трое мужчин с канистрой бензина смогли подобраться к дому абсолютно незамеченными и неуслышанными.
Раймонд по–деловому, словно бы он этим занимался каждый день, с подветренной стороны облил дом бензином, плеснул на сарай, на покосившийся стожок сена. А сержант подпер дверь дома толстым бревном.
– Ну, вот и все.
В небе полыхнуло, и только через полминуты раздался мощный удар грома, а за ним сразу же сверкнула молния, своим странным светом осветив хутор и троих мужчин с оружием и в камуфляже.
– Давай быстрее, – зашептал Раймонд, – зажигалку давай, мать твою!
Сержант подал зажигалку. Латыш посмотрел на небо, словно бы примериваясь к ветру, словно бы стоял не на земле, а на высоченной скале и собирался прыгнуть с парашюта. Затем зажигалка дважды щелкнула, блеснуло несколько оранжевых искорок. Пламени не было.
– Черт бы тебя подрал, Овсейчик, такую хреновую зажигалку носишь!
– Давай я сам, – попросил белорусский таможенник, – она к моим пальцам привыкла.
– Иди смотри, чтобы этот козел через окно не сиганул.
– А если сиганет?
– Тогда мочи его.
Таможенники разговаривали как бандиты. Они вообще были похожи скорее на карателей времен второй мировой войны, которые здесь в свое время похозяйничали, сжигая деревни вместе с жителями.
Наконец зажигалка родила голубоватый огонек. Латыш, прикрывая его рукой, поднес зажигалку к мокрой от бензина стене. Пламя вспыхнуло мгновенно. Затем латыш поджег сарай. Дом загорелся сразу, весь, по периметру. Огонь пополз по стенам, затрещал на крыше.
В доме послышались крики.
– Отходим! – приказал латыш. – Отходим! Трое мужчин в камуфляжных куртках отошли
от дома, который уже трещал, гудел и хрустел, объятый пламенем. Сарай и стог тоже горели, даже туалет за сараем вспыхнул.
Внутри кричали, кричали истошно. И тут, словно назло, а может быть, по провидению Господню, небо прорвалось, и хлынул густой, крупный дождь, настолько сильный, что, не загорись дом как следует, дождь мог сбить, погасить, победить пламя.
Но дождь начался с небольшим опозданием, всего лишь на каких‑нибудь пять–семь минут. Если бы он пошел на полчаса раньше, если бы стены дома были мокрыми, то тогда еще неизвестно, как бы все кончилось. А так дом полыхал. Огромное пламя рвалось к небу. Листья на березах и старой липе скручивались, обгорали и падали.
– Во, бля, горит! – шептал Овсейчик. – Во, горит! А вопят‑то как!
– Пускай себе вопят, недолго им осталось. Крыша рухнула первой. Выскочить в окна не было никакой возможности. Во–первых, рама была крепкой, а во–вторых, дом горел по периметру. Пылали стены. Дверь изнутри саданули, но она была надежно и крепко подперта длинным поленом.
– Мама! Мамочка! – раздался истошный крик. Голос ребенка, вопль ребенка пробил треск пламени, пробил хруст и грохот обрушивающейся крыши.
– Здорово горит! Здорово! – с каким‑то даже сладострастием и невероятной жестокостью в голосе, глядя на пожар, бормотал Раймонд. – О дает! Смотри, сейчас сарай завалится.
Ворота на сарае распахнулись, и во двор выскочил обезумевший от страха конь. Из хлева слышались рев и мычание коровы, блеяли овцы, визжали свиньи.
Минут через восемь не было слышно уже никаких криков. Испуганный, обезумевший от огня, обожженный конь помчался в поле, не разбирая дороги.
– Ну пошли, мужики.
Дождь уже лил как из ведра. Но даже если бы он был в несколько раз сильнее, то ничего бы уже не смог сделать, не смог противостоять пламени, пожирающему постройки.
– Пошли, пошли, – дернул за руку Раймонда сержант.
– Ага, пошли. Но хотелось бы досмотреть до конца. Красиво.
– Завтра приедем, посмотрим.
Мужчины уходили быстро. Несколько раз пустая канистра из‑под бензина ударилась о колено и глухо загремела в ночи. Таможенники шли к лесу, до которого было метров сто, дождь хлестал по их лицам, и могло показаться, мужчины плачут. Но временами какой‑то странный смех вырывался из груди латыша, недобрый, злой, нервный. Так может смеяться либо садист, либо обезумевший маньяк.
– С огненным крещением вас, ребятки, – сказал Раймонд, поглаживая мокрый приклад автомата.
Два белорусских таможенника ничего не ответили. Они шли втянув головы в плечи, временами оглядываясь на высокий, золотой сноп огня, такой красивый среди ненастья.
– Во горит! И даже дождь залить не может.
– Какой дождь? Тут даже двадцать пожарных машин пригони, и они ничего не сделают.
Опять что‑то загрохотало, и в бархатное ненастное небо, как фейерверк во время праздника, взлетели оранжевые и золотые искры.
– Еще водка есть? – спросил Овсейчик, облизывая влажные от дождя губы.
– Ага, есть, там, в машине.
Минут через пятнадцать они добрались до небольшой поляны, где под старой елью стоял «УАЗик.» Канистру положили в машину, сами, мокрые, забрались внутрь. Вторая бутылка водки пошла по кругу.
– Вот теперь и закурить можно.
Но сигареты у Овсейчика оказались мокрыми. И тогда латыш подал свой портсигар.
– На, кури, беднота! Вы к таким вещам не привыкли, а мы на своем берегу уже два раза подобные акции проводили. Самый лучший способ, и, кстати, если что, то все спишут на грозу, на молнию. Никто на нас не подумает.
– Ты уверен? – осторожно спросил сержант.
– Конечно, уверен! – бесшабашно расхохотался Раймонд. – Какие у него с нами могут быть счеты? Никаких, ровным счетом никаких. Так что мы ни при чем. Молния ударила в дом, а тут еще ветер, вот и все дела. Так сказать, стихийное бедствие.
– Слушай, у него ведь там дочка с внучкой были, – как‑то сентиментально произнес самый молоденький из этих троих.
– Дочка, жена, внучка… ты еще скажи, что у него там кошка сгорела, – Овсейчик с Раймондом расхохотались. – Давай поехали, запускай мотор.
– Слушай, – вдруг произнес Овсейчик, повернув ключ в замке зажигания, – давайте минут через десять–пятнадцать подскочим к хутору, скажем, пламя увидели, приехали спасать?
– Нет, не надо. К тому же мы поддатые… Не надо. А то еще кто увидит, может чего подумать. Давай лучше через лес к реке. Я к себе, вы к себе.
Глава 13
Адам Михайлович Самусев, держа в правой руке большой нож, а в левой килограммового леща, вздрогнул, когда услышал за окном шум двигателя. Он опустил леща в таз, тот несколько раз дернул хвостом и затих. Его живот был вспорот, внутренности других рыб лежали в том же тазу. С ножом в окровавленных руках Адам Михайлович подошел к окну, локтем отодвинул маленькую, давным–давно не стиранную шторку. Прямо под окнами стоял уже знакомый черно–синий джип, поблескивая хромированными ступеньками и бамперами.
Передняя дверь открылась первой, на землю легко спрыгнул широкоплечий мужчина, открыл заднюю дверь. Лениво и важно, можно сказать, не выпрыгнул, а сошел на грешную землю Геннадий Павлович Барановский. Он был все в том же светлом плаще, на голове шляпа, поблескивали очки в золотой оправе, во рту дымилась сигарета, совсем недавно зажженная.
Он небрежно посмотрел на окна, а затем так же нехотя взмахнул левой рукой, давая знать своим охранникам, чтобы те оставались в машине.
Адам Михайлович подошел к двери и сбросил щеколду. Затем толкнул дверь коленом. Он предстал перед Барановским с окровавленными руками, вспотевшим лицом, прилипшими ко лбу редкими седыми волосами. Он был небрит, глубоко посаженные глаза бегали.
– Ба, в каком виде, Адам Михайлович, – не произнес, а проворковал Барановский.
– В каком застал, в таком и есть. К твоей встрече, Геннадий, я не готовился, вот рыбу чищу, – поигрывая ножом с тяжелым лезвием, на котором налипла и серебрилась чешуя леща – крупная, с ноготь большого пальца, произнес Самусев.
– Я уж думал, ты коробки готовишь.
– Какие коробки? – спросил Адам Михайлович.
– Деньги складывать.
– Деньги мне, Геннадий Павлович, абсолютно ни к чему, ты уж мне поверь. Я свое отжил, отгулял.
– Не понял, – насторожился Барановский.
– Ты проходи в дом, что ж на крыльце стоять, как часовому!
Барановский вошел. Выбрал стул почище и устроился у окошка так, чтобы видеть свой автомобиль. Шторку он отдернул, сделал это брезгливо, хотя и пытался скрыть свои чувства.
– Я что‑то тебя не понял, Адам Михайлович. По–моему, я выразился яснее ясного.
– Не нужны мне деньги.
– Твои слова следует понимать, что и металл ты мне не отдашь? – с придыханием, волнуясь и уже даже не пытаясь этого скрыть, сцепив пальцы, выдавил из себя Барановский.
– Почему не отдам, отдам. На тот свет я его не заберу. К чему мне металл в гробу, а, Геннадий?
– Это точно, металл тебе в гробу не нужен.
– Я хочу дожить спокойно, – Самусев подошел к ведру с грязной водой и принялся в розовой жиже, в которой перед этим полоскал рыбу, мыть руки.
Он вытер их грязной тряпкой, откатал рукава такой же несвежей рубахи и сел на табурет напротив Барановского. Вымытый нож положил себе на колени, как инвалид кладет палочку, с которой никогда не расстается.
Тихо, не веря в удачу, сказал Барановский:
– Это хорошая новость,
– Кому хорошая, а как мне, так никакая. Пока тебя не было, Геннадий, я пару дней думал, почти не спал. Все рассуждал, какую завернуть цену, а потом, удя у реки и глядя на поплавок, вдруг понял, ни хрена мне уже не надо: ни денег, ни баб, ни машин, ни костюмов – ничего не надо. Мое счастье – сидеть возле речки, ловить рыбку, а раз в неделю пропустить стаканчик водки, поговорить с хорошим человеком да и спокойно уснуть. Не хочется мне никакой головной боли, никаких мне волнений не надо. Да и боюсь я всего этого. Мне иногда кажется, что, ввяжись я в твои дела, и мое старое сердце не выдержит, разорвется, остановится – и капут, в яму.
– Ну ты и песню завел, Адам Михайлович! – благодушно ухмыляясь, заворковал Барановский. – Ты словно пономарь в церкви, склоняешь всех к безгрешной жизни. А сам уже нагрешил выше крыши, и поэтому тебя ни сладенькое, ни кисленькое больше не интересует.
– Может, ты и прав, – глубокомысленно вздохнув, ответил Адам Михайлович Самусев, перекладывая нож на стол.
– Где металл? – твердо взглянув в глаза Самусеву, спросил Барановский.
– Здесь, недалеко. Не волнуйся, никуда он не ушел. Как было семьдесят килограммов ниобия, мать его, так и осталось его ровно семьдесят, если, конечно, он не испарился.
– Испарился? Ты что! Ты это брось!
– Думаю, не испарился, он тугоплавкий, чем и ценен, – немного подтрунивая над разволновавшимся Барановским, произнес Самусев. – И вот что еще скажу тебе, Гена: ты заберешь металл,и больше у меня не появляйся. Мне волнения ни к чему, я человек старый и хочу еще немного покоптить свет, хочу еще хоть немного рыбку половить, на бегущую воду поглядеть. Хочу жить тихо, хочу дожить те дни, а может, и годы, которые отпустил мне Всевышний, в мире и в согласии с собой.
– Совесть тебя не мучит? – вдруг нагло спросил Барановский.
– Ты знаешь, мучит, Гена, мучит. Но я уже к этому привык, это как ампутированная рука: руки нет, а пальцы все болят, суставы крутит. Так и с совестью.
– Где металл? А то ты мне долгие песни поешь, жизни учить взялся.
– Сейчас пойдем заберем. Недалеко, совсем недалеко, метров пятьдесят.
– Он не у тебя? – насторожился Барановский.
– Какая тебе, Гена, уже разница, у меня он или не у меня? Ты его получишь. Сегодня до обеда получишь. Грузи в свою красивую машину и уезжай отсюда. И забудь эту деревню, забудь меня, забудь все, что было. Пусть у тебя все будет хорошо. Пусть ты станешь сказочно богатым, станешь жить так, как желает твоя душа. А меня оставь в покое.
Барановский сидел настороженный. Он ожидал чего угодно, но никак не подобной развязки. Такой удачи, такого счастья он и представить себе не мог. Семьдесят килограммов ниобия – баснословные деньги, стратегическое сырье, редчайший металл. И ему его отдадут даром. Он все еще не мог поверить в удачу, не мог осознать, что все сложится именно так, как говорит старый Адам Михайлович Самусев.
– Так где он спрятан? – с придыханием спросил Барановский.
– У моего соседа/Хороший человек. Я как сюда переехал, так сразу и перевез металл. Слава Богу, в руках еще сила тогда была, а сейчас что‑то совсем ослаб. Привез, говорю, пусть постоят у тебя два ящика. Он ответил, пусть стоят.
– Ты давно проверял, Адам Михайлович, на месте ли ящики?
– На месте, куда они денутся? Кому в этой деревне, в этой глухомани ниобий нужен? Да и слов здесь таких никто не знает, поверь, никто. Они даже не слышали о таком металле – ни ухом ни рылом. Что в тех ящиках – мыло, динамит, оружие? Если бы там гвозди лежали, может быть, это кого‑нибудь и заинтересовало бы. А так, стержни, пустяк какой‑то…
– Пошли, – вставая, выдавил из себя Барановский.
– Погоди, не спеши, всему свое время. Сейчас Федор домой вернется, он на почту за газетами поехал, и тогда пойдем, – Самусев посмотрел на циферблат старенького будильника, перетянутого черной резинкой. – Еще не время.
– Большая рыба, – заглянув в таз, сказал, расхаживая по веранде, Барановский.
– Хорошая рыба здесь ловится.
– Адам Михайлович, может, все‑таки не за так отдашь? Может, я тебе денег дам или товара какого? Ты скажи, не стесняйся, я человек не жадный.
– Еще бы ты был жадным! – с ехидцей сказал Самусев. – Я тебе миллионы отдаю, это получше золота и платины будет, только покупателя хорошего найди.
– Уже нашел, – выдавил Барановский.
– Тогда совсем хорошо. И еще, Геннадий Павлович, будь поосторожнее, а то и за сто граммов ниобия голову свернут не задумываясь, а за семьдесят килограммов оторвут, как пить дать!
– Ну, ты уж этому меня, Адам Михайлович, не учи. Я калач тертый, жизнью битый, буду осторожен.
Они минут пять сидели молча. Барановский то и дело поглядывал в окно на джип.
И вдруг Самусев поднялся.
– Пошли, – набрасывая на плечи телогрейку, сказал он.
Они вдвоем перешли через улицу и направились к дому под белой шиферной крышей. Самусев вошел первым. Залаяла маленькая грязная собачка, но залаяла она не на Адама Михайловича, а на Барановского.
– Цыц! Цыц, Каштанка! Злая, как кобра, чужих за версту чует! Хозяин‑то твой дома? Ага, дома, – сам себе ответил Самусев, указывая пальцем на велосипед, стоящий у стены. – Приехал Федор.
Хозяин появился тотчас. Мужчина был примерно одного телосложения и одного возраста с Самусевым. Единственное, что выделяло его и делало приметным, так это большие и пышные бакенбарды. Барановский, глядя на них, никак не мог понять, крашеные они или от природы такие рыжие.
– Федор, это мой приятель, он за ящиками приехал. Как они там, стоят, не сгнили?
– Черт их не возьмет, – почти по–военному или по–пожарному отчеканил Федор Потапов, бывший деревенский фельдшер.
– Дай на них взгляну.
– Иди взгляни, в сарае стоят. Рубероид с них сбрось, – Федор даже не пошел сопровождать Самусева и незнакомого ему, шикарно одетого мужчину.
Стянув пыльный и грязный рубероид, Самусев показал на два зеленых ящика. В таких обычно перевозят военное имущество, а иногда боеприпасы. На ящиках не было ни номеров, ни записей.
Абсолютно не боясь, что может испачкаться, Барановский взял верхний ящик, поднял.
– Тяжелый, черт, – хрипя, произнес он, опуская ящик на землю.
– Тяжелый, килограммов сорок будет.
– Тот такой же?
– Наверное, такой же. В них стержней поровну. Барановский порыскал глазами по сторонам,
увидел лопату со сломанным черенком, схватил ее. Его глаза горели, как у золотоискателя, напавшего на жилу. Он подсунул лезвие лопаты под крышку, резко нажал. Штык лопаты немного изогнулся, но крышка не поддалась.
– Что ты, что ты! Кто ж так делает! – сказал Адам Михайлович, беря топор. – Дай‑ка я. Смотрю, ты так ничему и не научился. Вот как надо!
Он ловко подсунул лезвие топора под крышку, резко нажал. Взвизгнули гвозди, вылезая из древесины. Ни один из них не погнулся.
– Смотри.
Барановский присел на корточки и принялся разворачивать сначала промасленную, а затем вощеную бумагу. Ниобиевые стержни были толщиной в мужской указательный палец и длиной сантиметров по сорок. Они тускло поблескивали, можно сказать, даже серебрились.
– Родные, – проведя по ним рукой, прошептал Барановский.
– Ну все, я на это смотреть не могу, слишком трогательное зрелище, – Самусев вышел во двор. Запрокинув голову, посмотрел на небо, его острый кадык на щетинистой небритой шее судорожно дернулся. Адам Михайлович сплюнул под ноги густую вязкую слюну.
Геннадий Барановский вышел из сарая с раскрасневшимся, вспотевшим лицом. Шляпа съехала на затылок, галстук сбился в сторону.
– Подгоняй машину, – спокойным голосом произнес Адам Михайлович.
Барановский буквально выбежал за калитку и замахал рукой. Джип заревел, сорвался с места и подъехал прямо к воротам.
– Багажник откройте, багажник! – с шипением приказал Барановский.
Багажник джипа открыли, и уже через минуту один из ящиков погрузили в машину.
– Забейте! Забейте! – так же тяжело дыша и с трудом переводя дыхание, сказал Барановский.
Абсолютно неумело охранник загнал гвозди, два из которых согнулись, а затем и второй ящик занесли в багажник.
– Поезжайте к дому и ждите меня там. Послушай, Адам Михайлович, может, твоему Федору денег дать?
– Ничего ему не надо. Я ему за это стакан водки налью.
– Ах да, совсем забыл, у меня в машине ящик водки, хорошей, шведской. Я его тебе оставлю.
Брать водку Адаму Михайловичу не хотелось. Но и отказаться силы воли не хватило.
У дома Самусева Барановский приказал своему охраннику:
– Коля, водку в дом, быстро!
Коля схватил картонный ящик, занес в дом и поставил на веранде, прямо у таза с рыбой.
– Выпьешь со мной? – поинтересовался у Барановского Самусев.
– Нет, не буду, некогда. Дела ждут, их невпроворот, выше крыши.
– Ты молодой, у тебя дела. Прощай и помни,о чем мы условились: ты меня не знаешь, ты меня не видел, и где я обитаю, тебе неизвестно. Да, Геннадий?
– Да, да, конечно, так оно все и будет.
– Ну а теперь прощай, – сказал старик Самусев, держа руки в карманах телогрейки.
– Прощай, Адам Михайлович, прощай, родной. Спасибо тебе, что сохранил металл, спасибо, что отдал. А может, тебе денег все‑таки дать? У меня есть с собой, – Барановский запустил руку во внутренний карман плаща и буквально выхватил пухлый бумажник.
– Нет, деньги мне не нужны. Я и пенсию с трудом трачу. Куда мне деньги, к чему они мне? Иди, Геннадий, и забудь сюда дорогу. Я сделал то, о чем ты мечтал в тюрьме. Мы с тобой в расчете.
– Да, в расчете. Ты рассчитался сполна, я не ожидал, – опять произнес Барановский и, пятясь, покинул дом.
Дверь за собой он не затворил, и на этот раз вскочил в джип так, как ковбой вскакивает на лошадь, когда надо куда‑то мчаться, кого‑то спасать.
– Коля, гони в Москву, мать его…
– Все в порядке, Геннадий Павлович?
– В порядке, Коля! Давай!
Джип, сорвавшись с места, сразу же умчался, пугая собак, бродивших по улице, и разгоняя кур, которые всполошенно взлетали на заборы.
Самусев улыбнулся. Так улыбаются мудрецы, которые познали жизнь и точно знают ее смыл. А затем Адам Михайлович неторопливо направился к своему соседу, к Федору Потапову, к человеку, в чьем сарае еще совсем недавно хранилось бесценного металла на несколько миллионов долларов. Естественно, бывший фельдшер представить себе такого не мог.
– Федор! – зайдя во двор, крикнул Самусев. Федор появился с газетой в руках и в очках, висящих на кончике носа.
– Пошли ко мне, по стаканчику водки выпьем. Я тебя угощаю.
– Хорошее дело. Я тут статью читаю о мафии в правительстве. Любопытнейшая статья! Говорят, они денег крадут несчетное количество.
– Может, крадут, а может, нет, – благодушно заметил Самусев.
С газетой в руках, в очках, подрагивающих на кончике носа, Федор двинулся вслед за Адамом Михайловичем.
– Кто это был, Адам Михайлович?
– Один старый знакомый. Работал когда‑то под моим началом.
– Наверное, не бедный мужчина?
– Да уж не бедный, особенно теперь.
– Почему это теперь?
– Я ему помог дела поправить.
– И сильно помог?
– Думаю, что да.
– Денег одолжил ему, что ли?
– Нет.
– Как же ты ему тогда помог?
– Совет один хороший дал. Советы – они же ничего не стоят, и деньги за них брать грешно.
Войдя на веранду, бывший фельдшер покосился на картонный ящик, испещренный надписями.
– Это чего такое?
– А это, Федор, шведская водка, меня за совет отблагодарили.
– О! —воскликнул бывший фельдшер. – Я бы ему тоже советов дал, по–моему, у него с печенью проблемы.
– Нет у него проблем, Федор, поверь мне.
– Мне показалось, с печенью у него непорядок, мешки под глазами темные, и ногти какие‑то не очень здоровые.
– Когда это ты, Федор, успел заметить мешки. под глазами, он же очки не снимал?
– Я врач, Адам Михайлович, это моя профессия.
– Хватит разглагольствовать, садись к столу, по стаканчику шведской водки выпьем.
Самусев взял нож, на ручке которого серебрилась чешуйка размером в десятикопеечную монету, разрезал коробку, где было восемь литровых бутылок «Абсолюта.» Несколько секунд смотрел на винтовые пробки, словно бы прикидывая, какую из бутылок выбрать. Затем увидел на одной пробке царапину и взял именно ее.
– Ага, – глядя на бутылку, с почтением произнес бывший фельдшер.
– Литр, – поддакнул ему Адам Михайлович, разглядывая бутылку с разных сторон. Он смотрел на нее так, будто это была не бутылка с водкой, а граната, которой предстоит уничтожить вражеский дот.
– Значит, тысяча граммов?
– Конечно, тысяча. Я уверен, грамм в грамм, шведы – люди пунктуальные, обманывать не станут, не в их интересах. Я Федор, решил дать тебе одну с собой.
– Зачем с собой? – удивился столь невиданной щедрости соседа бывший фельдшер.
– Да вот так. У меня их восемь штук, одну тебе, одну сейчас покатим.
– Думаешь, сдюжим? Говорят, шведская водка мягкая, это правда? – поинтересовался Федор Потапов.
– Сейчас мы с тобой это дело, так сказать, проверим. У нас будет возможность убедиться.
– Правда, Адам Михайлович, что после нее голова не болит?
– И это мы с тобой проверим, Иваныч.
– Ну тогда не томи, а то у меня уже слюна под самой гортанью стоит, вот–вот через нос полезет.
– Потерпи, – произнес Самусев, уверенным движением, словно бы он это делал каждый день или даже по несколько раз в день, свернул пробку. Та хрустнула неожиданно легко.
– Видал, пакуют слабо? – вставил свои пять копеек бывший фельдшер.
– Пахнет ничего, – втянув в себя запах из горлышка, сказал Самусев.
– Что за хрензя на ней такая? Из воска, что ли?
– Это называется, брат ты мой, дозатор.
– Дозатор? – изумился фельдшер.
– Да–да.
– На кой ляд он нужен, этот самый дозатор? Кому и что дозировать?
– Нужен он, Иваныч, лишь для того, чтоб в эти бутылки другую водку не наливали.
– А–а, – удивленно вертя в руках бутылку, бурчал фельдшер, – хитрые шведы, на честность они не рассчитывают. Сколько ж такая одна стоит?
– Вот тут я тебе не скажу, но, думаю, рублей двадцать стоит.
– Всего‑то? – изумился фельдшер.
– Двадцать американских рублей.
– А наших, российских, сколько будет?
Когда прозвучала цифра, фельдшер присвистнул и поморщился.
– Что‑то, знаешь, Адам Михайлович, мне и пить расхотелось. Это ж только подумать, столько денег в себя влить!








