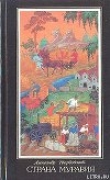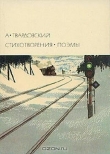Текст книги "Александр Твардовский"
Автор книги: Андрей Турков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Лирические же сценки, герои которых принадлежат уже новому поколению, улыбчивы. У молодежи совсем иные планы на будущее. Юноши и девушки раскованнее, самостоятельнее («Невесте», «Соперники», «На свадьбе», «Случай на дороге»).
Во многих произведениях того времени об «отцах и детях» безусые «новаторы» неизменно посрамляли седых «консерваторов». «Тонкий лирический такт» Твардовского, отмеченный В. Ф. Асмусом еще в рецензии на смоленский сборник стихов, счастливо избавлял его от подобных штампов, подсказывая, что новое вполне способно возобладать в жизни без насмешки и надругательства над старым, прежним (в позднейших воспоминаниях Евгении Антоновны Рыленковой сказано, что Твардовский в тридцатые годы говорил, что «и старое не все было плохо»), Асмус полагал также, что автор «Сельской хроники» «далек от преувеличенного представления о легкости, беспечальности, беспротиворечивости новой жизни». Однако в этом смысле «хроника» все же значительно уступала «Стране Муравии». Даже благожелательно настроенные к поэту критики упоминали о «некотором однообразии впечатлений» от прочитанного, об «игре на одной струне», чрезмерном «ликующем оптимизме», изображении некоего «золотого века».
При этом нельзя сказать, что рисуемое Твардовским не было правдой. Но это было лишь одной ее стороной.
Например, он гордился тем, что «по всем путям своей страны… идут крестьянские сыны, идут ребята наши»:
Кто вышел в море с кораблем,
Кто реет в небе птицей,
Кто инженер, кто агроном,
Кто воин на границе.
Или позже:
Всюду наши да наши,
Как в родимом дому.
Но то, что «многих нынче дома нет, они живут далече… а в их родном поселке тишь», объяснялось не только возросшей «социальной мобильностью», но и последствиями коллективизации и раскулачивания.
Уже в цикле о поездке в родное Загорье не стало излишне восторженных нот об этом «переселении народов», как было сказано в упомянутом выше письме. В этих стихах послышалось нечто другое, озадачившее критиков, которые стали иронически отзываться о некоей «элегичности» их. Сама интонация рассказа о родных местах отдает неясной тревогой, если не печалью, далеко не полностью объясняемой собственным прощанием автора с молодостью:
За недолгие сроки
Здесь прошли-пролегли
Все большие дороги,
Что лежали вдали.
……………………………………
Подрастут ребятишки,
Срок пришел – разбрелись.
Будут знать понаслышке,
Где отцы родились.
И как возраст настанет
Вот такой же, как мой,
Их, наверно, потянет
Не в Загорье домой.
Уже не стало в Загорье былых ровесников. «Большие дороги» не только приводили и привносили новое, но и уводили и уносили многих и многое. Война и ее разнообразные последствия надолго оттеснят эту мысль, но спустя десятилетия об этом во весь голос заговорит, закричит новая, «деревенская» проза.
Еще со времен «Муравии» критика норовила видеть в Твардовском «певца колхозной деревни». Однако случайно ли «Сельская хроника» не получила продолжения? Стихи о деревне появлялись у него после войны все реже – и были отнюдь не в мажорном духе.
А подготавливая в середине 1960-х годов собрание сочинений, Александр Трифонович, по собственному, правда, тут же слегка смягченному, выражению, «с огнем и мечом прошелся» по «Сельской хронике», много стихов исключив или сильно исправив, подсократив (например, «довесок» к «Братьям» и цитированные выше строки о деде из «Дороги»).
Редкий – но не для героя этой книги! – пример строжайшей самооценки!
Разумеется, Твардовский 1960-х годов не таков, каким был в 1930-е!
Тогда он еще полон «безоговорочной веры» и в колхозы, и в другие совершавшиеся перемены, и в то, что «отдельные» просчеты и ошибки (вроде ареста смоленских друзей) будут исправлены.
Прозвучало же на всю страну, что сын за отца не отвечает, – слова, которые, как гору с плеч, сняли клеймо «кулацкого подголоска» (что, однако, как мы знаем, не помешало примеривать к поэту новое «дело»). Удалось же, пусть и собственными немалыми трудами и с помощью верных друзей, и образование получить (МИФЛИ окончен в 1939-м), и выйти в первый литературный ряд, даже свою несчастную семью выручить и в Смоленск перевезти!
Похоже, талант Твардовского, как говорится, ко двору пришелся. И не к новому ли, сталинскому?
Свойственные его стихам традиционность, близость к фольклору, ясность и простота формы позволяют критике противопоставлять Твардовского ряду поэтов, периодически осуждавшихся в советской печати за так называемый формализм (понимаемый чрезвычайно расплывчато), в качестве образца «народности», «партийности» и «социалистического реализма».
Не открывается ли перед ним «зеркально блестящая» дорога к головокружительной карьере?
Конечно, время рассудит. Но нечто уже и в молодом Твардовском не располагает к положительному ответу на сей вопрос.
Словно какой-то врожденный иммунитет у него существует ко всем похвалам, возвеличиванию, к соблазну удовлетвориться достигнутым и сладко опочить на лаврах. В самый разгар повсеместного прославления «Муравии» автор пишет Беку 18 апреля 1937 года:
«Впереди жизнь, которую надо делать сначала, медленно и кропотливо, смиреннозаканчивать вуз, набираться ума… потом, если не будет каких-либо непредвиденностей, идти в люди, на несколько лет» (курсив мой. – А. Т-в).
И годом позже – Маршаку: «Дело в том, что я все больше страдаю от своей тоскливо-повествовательной манеры, давно хочу писать иначе, но все еще не могу». Твардовский даже говорит о «кризисе», которого со стороны не видно и из которого он «должен выйти» (18 августа 1938 года).
Наконец, уже «поэтом-орденоносцем», не столько родственника, начинающего литератора М. Г. Плескачевского наставляет, сколько формулирует собственную «линию поведения», если не всей будущей жизни:
«…Нужно выработать в себе прямо-таки отвращение к „легкости“, „занятности“, ко всему тому, что упрощает и „закругляет“ сложнейшие явления жизни… будь смелей, исходи не из соображения о том, что будто бы требуется (как то было в „Сельской хронике“. – А. Т-в), а из своего самовнутреннего убеждения, что это, о чем пишешь, так, а не иначе, что ты это твердо знаешь, что ты так хочешь…»
Без малого двадцать лет отделяет эти слова от уже известного читателю программного «Вся суть в одном единственном завете…», но как перекликаются слова давнего письма с финалом этого стихотворения:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.
Вглядимся напоследок в один прекрасный портрет Твардовского этой поры:
«Он был очень хорош собой, белокурый, с ясными голубыми глазами. Он был знаменитым поэтом, и слава его была не схваченная на лету, а заслуженная, обещающая (запомним это слово! – А. Т-в).
Он держался несколько в стороне, точнее сказать, между ним и собеседником сразу же устанавливалось подчас незначительное, а подчас беспредельное расстояние. Возможно, что это связано с прямодушием Твардовского: из гордости он не желал скрывать свои мнения (не о том ли писал и Лев Озеров? – А. Т-в).
…Для него – это сразу чувствовалось – литература была священным делом жизни – вот почему тех, для кого она была всего лишь способом существования, точно ветром от него относило.
Я бы солгал, уверяя, что уже задумался над хранившейся в душевной глубине силой Твардовского, может быть невнятной еще для него.
…Я только смутно заподозрил, что за резкостью его литературных мнений таится застенчивость, а за мрачноватостью и немногословностью – мягкость и любовь к людям».
Правда, это Твардовский уже весной сорок первого года, после первой тяжелейшей «непредвиденности» (помните сказанное в письме Беку?) – войны с Финляндией (впрочем, вообще-то войны давно ждали, но не этой и уж вовсе не такой, какой она оказалась!).
Но уже в нее он вступал таким, каким здесь увиден старшим коллегой Вениамином Кавериным, еще очень далеким тогда от Твардовского, но на редкость чутким человеком.
Глава третья
ПРЕДГРОЗЬЕ
«Однако ты и тогда уже был гуманистом…» – сказал Константин Симонов при появлении в печати в 1969 году дневниковых записей Твардовского «С Карельского перешейка. Из фронтовой тетради» (Новый мир. № 2).
Речь в них шла о тяжело складывавшейся для Советского Союза войне с Финляндией в 1939–1940 годах.
Первые победные реляции советского командования вскоре сменились однострочными сообщениями о том, что на фронте ничего существенного не произошло. Командовавший войсками Ленинградского военного округа К. А. Мерецков впоследствии в своих мемуарах признал, что нашей армии «пришлось буквально упереться» в мощную оборонительную линию Маннергейма, «чтобы понять, что она собой представляет». Прорвать же ее удалось лишь многие месяцы спустя после подвоза и сосредоточения большого количества крупнокалиберной артиллерии.
Только в самое последнее время, в начале XXI века, в нашей печати появились подробные свидетельства непосредственных, рядовых участников этой кровопролитной войны (например, воспоминания А. Н. Деревенца) [6]6
Подробнее см. мою статью «На той войне незнаменитой…» // Третьи Твардовские чтения [Сборник]. Смоленск, 2008.
[Закрыть].
Тем значительнее записи, сделанные по горячим следам событий Твардовским. Они, писал впоследствии Константин Симонов, «открыли мне все скрытое напряжение духовной жизни, какою жил он тогда, в преддверии надвигавшегося на нас трагического будущего, ту нелегко давшуюся ему духовную подготовку к этому будущему, которая без прикрас, во всей своей трезвой суровости, встает со страниц записей» [7]7
Воспоминания об А. Твардовском [Сборник]. М., 1978. С. 327.
[Закрыть].
Примечательны первые же, сугубо «конспективные»:
«Третья поездка – в 43-ю дивизию. Ощущение великой трудности войны…
Четвертая. Наступление и его печальные последствия. Раненые. Глухая неясность: как же все-таки быть дальше?.. Медсанбат».
Далее следуют более подробные, не чурающиеся и глубоко личных впечатлений. Так, в начале рассказа о поездке в 90-ю дивизию слышен отголосок давних, детских воспоминаний: «Шла артподготовка. Возле батарей пахло кузницей…» (Напомним, что возле отцовской кузницы прошло детство поэта.)
Но вот запись, заслуживающая быть воспроизведенной полностью:
«На командном пункте дивизии мы были в момент наступления. Дела шли явно плохо… Командир дивизии грозил командирам полков, командир корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался в каждый телефонный разговор, добавлял жару:
– Вперед. Немедленно вперед…
Вскоре же картина целиком выяснилась. Наши лежали на снегу у проволоки, продвинувшись на несколько десятков метров. Они не могли ни продвинуться вперед из-за исключительно точного огня из укреплений, ни уже отойти назад. Они лежали, и противник их расстреливал постепенно. Танки помочь не могли. Они сразу же выводились из строя».
Эти и подобные впечатления вскоре отзовутся в «Балладе о Красном знамени», хотя там речь пойдет и об успешном бое:
…мы – в снегу сыпучем —
Ничком лежали на земле
У проволоки колючей.
И смельчаки из наших рот,
Бесценные ребята,
С рукой, протянутой вперед,
С винтовкой, в ней зажатой,
В сугробах сделав шаг, другой,
Навек закоченели,
И снег поземкою сухой
Присыпал их шинели.
Однако продолжим запись: «К вечеру же мы видели, как потянулся поток всякого транспорта с передовой – везли раненых. Их везли на машинах, на танках, на санях, на волокушах, несли на носилках. Запомнилось на всю жизнь: везет боец раненого. Лежит он в санях на животе, протянув вперед темные, окоченевшие, должно быть, руки, и тихо, невыразимо жалостно стонет. Как собака, – пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и будто бы сурово и даже недовольно к лежащему:
– Больно, говоришь? Руки, может, замерзли? Сказал бы, что замерзли. Я тебе вот рукавички дам. Дать? А то возьми. Они с рук – теплые. Возьми, слышь».
Это запомнилось на всю жизнь: несколько лет спустя, «среди большой войны жестокой», в знаменитой главе «Книги про бойца» «Смерть и Воин» солдат «команды похоронной», вынося раненого Тёркина с поля боя, повторит сказанное тем давним возчиком:
– Что ж ты, друг, без рукавички?
Ha-ко теплую, с руки…
Даже до того, как побывать на передовой и ощутить «великую трудность войны», поэт уже предугадывал ее и всей душой сострадал тем, кого потом, в «Тёркине», назовет «нашими стрижеными ребятами»:
«Запомнился концерт плохонькой бригады эстрадников… Концерт шел в комнате, забитой до отказа бойцами (сменой одной). Ни сцены – ничего. И лица, лица, лица красноармейцев. Иные с таким отпечатком простоватости, наивного ребяческого восхищения и какой-то подавленной грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих милых ребят, беспрекословно, с горячей готовностью ожидающих того часа, когда идти в бой, скольким из них не возвратиться домой, ничего не рассказать… И помню, впервые испытал чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям. Впервые ощутил их, как родных, дорогих мне лично людей».
В этих записях, где уже предчувствуется «масштаб» будущего автора «Василия Тёркина» и «Дома у дороги», проявилась и свойственная поэту величайшая совестливость:
«Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение „писателя с двумя шпалами“ (то есть в звании майора. – А. Т-в) – оно не выслужено (не то слово). Я то и дело ставлю себя мысленно на место любого рядового красноармейца».
Поэт не только как бы стесняется отличия собственной участи от солдатской, но и откровенно, без утайки, нередко с иронией фиксирует свое поведение, поступки, душевные движения, которые «выдают» в нем новичка в боевых условиях:
«Виник (политработник. – А. Т-в)… должен был идти в батальон, лежащий на снегу у самого переднего края. Я тоже решил с ним идти, хотя и не очень решительно… Вообще говоря, я вернулся быстренько (в блиндаж во время обстрела. – А. Т-в)… Вдруг канонада усилилась, как внезапный порыв грозы… Мы, штатские люди в военных полушубках – как я… даже сидя в блиндаже, пригнули головы…»
Столь же характерно для Твардовского очень требовательное отношение к себе, постоянное недовольство сделанным: «Скоро должны прийти из редакции за стихами, а стихи страшно плохие – в них нет ни этой ночи, ни этих людей, ни себя». Или в другом случае: «…искренне подумал, что эти документы так и остались более сильными, чем мои стихи, написанные по ним…»
Между тем и его вроде бы беглые, неприхотливые записи, и некоторые тогдашние стихи таят в себе зерна мыслей, тем, образов, впоследствии определивших характер и своеобразие поэзии Твардовского военных и послевоенных лет.
Выше было сказано о горестном предвидении поэтом вероятного будущего многих слушателей немудреного концерта. Позже ему пришлось не раз столкнуться с этой жестокой реальностью: «Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец води-ночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все».
Зрелые, богатейшие плоды этих чувств и размышлений еще впереди. Вспомним хотя бы строки «тёркинской» главы «Переправа» (пусть вобравшие уже и впечатления новой, огромнейшей войны), посвященные погибшим:
…еще паек им пишет
Первой роты старшина.
Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрей идут, не тише
Письма старые домой,
Что еще ребята сами
На привале, при огне,
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине…
Но не явственным ли протестом скорому забвению звучит и написанная еще в самый разгар финской войны «Баллада о Красном знамени»?
Был первый Шилов, командир, —
Запомним это имя!
…Когда ж убитым он упал,
Бежавший вслед с другими
Схватил древко боец Лупан, —
Запомним это имя!
…И третий знамя подхватил,
Как в беге эстафету.
Героем третьим Зубец был, —
Запомним имя это!
Неотступной мыслью о павших проникнуты и многие другие тогдашние записи поэта:
«…Говорил, между прочим, с одним танкистом лейтенантом… спрашивал его о том, о сем. Женат ли? Женат. А дети? Да нет, какие же дети. Мы еще недавно совсем, перед войной только. Сколько вам лет? Двадцать два. Я подивился его молодости…
– А вот он еще моложе был, – показал лейтенант ногой на фанерную дощечку, торчащую из снега у самой стежки. „Геройски пал… 1921 г. рождения“. Я не заметил раньше этой дощечки. Сколько их, между прочим, этих дощечек с карандашными надписями, по пути от реки Сестры до Выборга. Сколько братских могил».
В публиковавшихся тогда во фронтовой печати очерках поэта ничего такого не было, да и быть не могло. Даже вроде бы совсем «невинные» черточки событий решительно отсеивались редакционно-цензурным «ситом»: очерк о нескольких прославленных танкистах, которые выглядели отнюдь не богатырски – «мал мала меньше», по выражению автора, – был первоначально озаглавлен «Экипаж малышей», но в газете превратился в «Экипаж героев» и подвергся таким изменениям, что Твардовский «ахнул и для себя отказался от него».
Зато живая запись рассказа командира танка Д. Диденко (Героя Советского Союза, как и весь экипаж) сохранила всю жестокость происходившего, вплоть до мучительнейших подробностей: «Надо было вытащить с поля боя другой, сгоревший танк. Полез я туда, – сказал Диденко, – дотронулся рукой до механика – он и рассыпался. Зола».
Подобная правда даже тридцать лет спустя будет «шокировать» и возмущать вышестоящие инстанции.
В марте 1940 года Твардовский, встретившись в Ленинграде с «Бекушей», как он ласково называл Бека, очень откровенно и горько рассказывал ему о виденном и пережитом на только что окончившейся войне.
Александр Альфредович был поражен происшедшими в поэте переменами. Он был, записывал Бек, «как-то отделенным от меня какой-то серьезностью, как бы находящимся на другой ступени». Несколько раз повторил, что не было в этой войне, «не нашлось» Суворова – настоящего полководца. Зато (и это он тоже твердил) сами офицеры и солдаты сделали в этих условиях невозможное.
Благодаря бековским записям известно о том, что поэт мало кому поведал: «Он мог погибнуть двадцать раз. Однажды ночью проводник вывел их по ошибке к финской линии. Стрельба, они лежали, потом бежали, согнувшись».
В другой раз наблюдательный пункт, на котором находился Твардовский, был сбит снарядом минут через десять после того, как он ушел оттуда.
Как-то, оказавшись на перевязочном пункте возле передовой, держал фонарь над операционным столом, где, как выразился поэт, «умирали и оживали».
Неудивительно, что он, как писал Бек, не только «до краев наполнен впечатлениями», но «как-то взбаламучен и много пил».
Значительность и точность очеркового свидетельства Твардовского о финской войне ныне подтверждена появившимися из-под спуда лет и цензурных запретов воспоминаниями ее непосредственных участников, которые порой прямо перекликаются со сказанным автором «С Карельского перешейка».
Так, уже упомянутый выше А. Н. Деревенец пишет об одном из павших: «Из головы у меня не выходит вмерзший в лед раненый мальчишка».
И как памятник этим «нашим стриженым ребятам» выглядит стихотворение «Две строчки» (1943):
Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего – ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.
В поисках кратчайших путей к солдатскому сердцу группа писателей, работавших той зимой в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины», изобрела некий условный, лубочный персонаж, который из номера в номер появлялся в серии занятных картинок с незатейливыми стихотворными подписями. Это был Вася Тёркин.
Твардовский написал вступление к этому циклу фельетонов, но в дальнейшем основным автором «Васи» сделался давний сотрудник газеты, поэт Николай Щербаков.
«Недостаточность „старого“ „Тёркина“, как я это сейчас понимаю, – писал впоследствии Александр Трифонович, заметно охладевший к этому герою, – была в том, что он вышел из традиции давних времен, когда поэтическое слово, обращенное к массам, было нарочито упрощенным применительно к иному культурному и политическому уровню читателя и когда еще это слово не было одновременно самозаветнейшим словом для его творцов, полагавших свой истинный успех, видевших свое настоящее искусство в другом, отложенном на время „настоящего“ творчества».
Тот «Вася» скрашивал солдатам трудности жизни, являясь в минуты отдыха, краткой передышки, или как бы служил веселым подспорьем в тяжелой солдатской науке, занимательным приложением к деловитым параграфам воинских уставов. Масштаб же новых и драматических размышлений Твардовского о воочию увиденном на войне был попросту противопоказан рамкам газетного фельетона.
Казалось бы, поэту было суждено расстаться со своим «крестником» Васей. Уже рисовалась ему какая-то поэма, которую он будет писать «всерьез»: «…уже представился в каких-то моментах путь героя. Переход границы, ранение, госпиталь, следование за частью, которая ушла далеко уже. Участие в решительных боях… Но ни имени, ни характера в конкретности еще не было».
И вдруг – как озарение!
«Вчера вечером или сегодня утром, – записал Твардовский 20 апреля 1940 года, – герой нашелся, и сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он, Вася Тёркин! Он подобен фольклорному образу. Он – дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу, а по форме почти то же, что он был на страницах „На страже Родины“. Нет, и по форме, вероятно, будет не то».
Парадоксальность обращения к прежнему герою для воплощения нового содержания – чисто внешняя. Как война увидена несравненно глубже, чем прежде, – по-новому осветилась и фигура героя, в которой обнаруживаются черты, которых прежде недоставало.
«Мороз, иней, разрывы снарядов, землянки, заиндевелые плащ-палатки – все это есть и у А. и у Б., – писал Твардовский о первоначальных поэтических картинах военных действий. – А нет того, чего и у меня покамест нет или есть только в намеке, человека в индивидуальном смысле, „нашего парня“ – не абстрагированного (в плоскости „эпохи“, страны и т. п.), а живого, дорогого и трудного».
Все любовнее, внимательнее, вдумчивее всматривается поэт в проступающий перед ним облик этого героя: «Соврать он может, но не только не преувеличит своих подвигов, а наоборот – неизменно представляет их в смешном, случайном, нестоящем виде».
Еще в начале тридцатых Твардовский мечтал о «веселой, увлекательной, жизнерадостной литературе». «…дух захватывает от желания написать такую книгу», – сказано в дневниковой записи 26 декабря 1933 года. Жизнь внесла серьезные поправки в эти планы.
«Это будет веселая армейская штука, но вместе с тем в ней будет и лиризм, – размышляет Александр Трифонович. – Вот когда Вася ползет, раненый, на пункт и дела его плохи, а он не поддается – это все должно быть поистине трогательно». Здесь, кажется, уже брезжит эскиз будущей главы «Смерть и Воин».
«Нет, это просто счастье – вспомнить о Васе», – радуется поэт. И это очень в его духе – вернуться к уже решенной, казалось, теме, чтобы разглядеть новые, прежде не использованные возможности.
Однако работа подвигалась медленно, а с началом войны с фашистской Германией и совсем было прервалась.