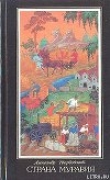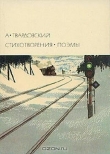Текст книги "Александр Твардовский"
Автор книги: Андрей Турков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Уже отчаявшийся, по собственным словам, увидеть это произведение в печати, Твардовский «всегда с благодарным чувством» вспоминал о Багрицком, обладавшем не только добрым сердцем, но и «той обширностью взгляда… которая позволяла ему отмечать своим вниманием работу, казалось бы, совершенно чуждую ему по духу и строю».
Но вот что примечательно. Еще недавно обещавший, что, если Анатолий Тарасенков поможет издать «Путь к социализму», он расцелует «Тольку на Красной площади», и «страшно» радовавшийся, что московский режиссер Варпаховский подумывает инсценировать поэму, автор вскоре после ее выхода книгой предостерегает Анатолия Кузьмича (13 сентября 1931 года): «Насчет „Путя к соц.“ не пиши, если собираешься хвалить(курсив мой. – А. Т-в), ибо хвалить нечего. У меня уже прошел даже тот период, когда я мучился, что вот у меня такая дрянная вещь издана первой, – теперь я уже спокоен совсем, т. е. еще дальше ушел от нее (как видим, тарасенковские слова о „быстро растущем“ человеке отнюдь не преувеличение! – А. Т-в). Но если собираешься как следует разругать, разобрать по-настоящему, чтоб и другим не повадно было, тогда – дуй!»
Он не обольщался ни «благословением» Эдуарда Багрицкого, ни «крайне восторженным», по свидетельству Тарасенкова, отзывом Бориса Пастернака. Зато остро ощущал, что в попытке рассказать о колхозе (носившем то же название, что и поэма), используя самые обычные, обиходные слова и интонации, он чрезмерно прозаизировал стих, как бы выпустив из рук ритмические «вожжи». Мало правдоподобия в изображении быстро достигнутого колхозом благополучия. Почти не отличимы друг от друга герои поэмы.
На рубеже тридцатых годов в жизнь Твардовского входит человек, необычайно много определивший в его дальнейшей судьбе.
В недатированном письме Тарасенкову Твардовский сообщает, что обещанные книги ему вышлет Маня Горелова («которую прошу любить») и что к ней можно обращаться по адресу: Смоленск, улица Кашена, дом 1, квартира 9. Далее следует шутливая угроза: «Если ты не будешь писать Мане (ласково), то я постараюсь, чтоб книжки лежали в магазине на своих местах. Попомни!»
«Маня» – Мария Илларионовна Горелова – одна из трех дочерей рано овдовевшей Ирины Евдокимовны Гореловой (отец, отставной солдат из смоленских крестьян, умер, когда девочке исполнилось только девять лет). Жили трудно. Мария Илларионовна училась в педагогическом институте, но не закончила его, выйдя замуж за Твардовского. Работала в газете «Рабочий путь», но печаталась и в Москве, в таких солидных журналах, как «Красная новь» и «Новый мир». О ее немалых литературных способностях говорят и письма мужу, лишь недавно частично опубликованные.
Еще не получив от нее ни книжек, ни подробнейшего, очень деловитого письма, послушный «тов. Тарасенков» (как она его поначалу именует) послал на улицу Кашена такую открытку, что «М. Горелова» решила: «вы очень чудесный». «Маруся хвалит тебя! Улестил! – весело „встревает“ в их завязавшийся эпистолярный дуэт Твардовский, возвратясь из командировки. – И я начинаю думать, что ты и в самом деле хороший малый».
Теперь «Маня» беседует с «Толей» (а то и «Толь-кой») раскованно и доверительно. Шутливо аттестует мужа как «поэта хоть и выявившегося (для своих знакомых), но молодого (это – с „высоты“ собственных двадцати двух! – А. Т-в) и принципы марксизма-ленинизма мало усвоившего», и даже с комическим беспокойством спрашивает: «Не испортит ли мою биографию это легкомысленное существо?»
…Ах, сколько же в их, отныне общей, «биографии», судьбе будет трудного, опасного, даже трагического, что, однако, только теснее свяжет поэта с этой не просто любящей женщиной, но и вернейшим другом, делившим все его радости и горести, первым читателем и вдумчивым советчиком!
В сентябре 1938 года, в пору житейской неустроенности, умер их полуторагодовалый сын Саша. «…Подумал, почувствовал, что вот полжизни прошло», – записал в эти дни Александр Трифонович. И лишь немного ошибся… Он тяжело пережил случившееся. Об этом мальчике, бывшем утешением поэта в трудное время, не раз говорится в дневниках и стихах… А уж что пережила Мария Илларионовна?!
Но это случится позже, а пока молодожены держатся стойко. Поддерживаемый (если не подстрекаемый) женой, Твардовский в 1932 году поступает в Смоленский педагогический институт. Партийный работник и редактор журнала «Западная область» А. Н. Локтев («очень-очень понимающий», «чудесный человек», по благодарным отзывам Александра Трифоновича) добивается, чтобы недоучившегося в школе поэта приняли без экзаменов – с обязательством: в течение года сдать все их, ранее пропущенные.
Твардовский учится, испытывая, как сказано в автобиографии, «высокий душевный подъем». И плоды этого вскоре скажутся на его творчестве.
Уже поэма «Вступление» («Путь Василия Петрова», 1932) знаменует большой шаг вперед.
Василий Петров во многом предваряет образ героя будущей «Страны Муравии». Так же ласков к своему коню, так же завидует зажиточному соседу. Приходит он и к мысли о неизбежности вступать в колхоз.
Только не слишком ли уж рьяно отказывается герой от былых привязанностей и привычек? Став колхозником, забежал как-то домой и вдруг, будто новыми глазами оглядев свое хозяйство, подивился:
За что я держался здесь?
Что ж тут такого есть?
Ну, двор, ну, изба, ну, крыльцо,
Ну, сад, ну, колодец новый…
Ну, конь, ну, дуга, ну, кольцо,
Чересседельник пеньковый.
«Частнособственнические бельма» с его глаз явно сняты торопливой авторской рукой! (Тем не менее не только тогдашняя, но и куда более поздняя, конца 1950-х годов, критика оставалась недовольна изображением этого «ограниченного человека, серьезно раздумывающего над вопросом, решение которого было уже предопределено историей»!)
Куда реалистичнее показана колхозная действительность в прозаических опытах Твардовского начала 1930-х. В «Дневнике председателя колхоза» (1932) приезжему руководителю отнюдь не легко найти общий язык с крестьянами – настороженными, предубежденными, каждый со своими ухватками и норовом. Особенно же интересны увидевшие свет только много лет спустя, в пору перестройки, наброски повести.
В ней отчетливо запечатлены и явное форсирование производимых перемен, и вызванный этим «гомон сдержанного недовольства» на колхозном собрании, и драматические последствия нахрапистой спешки:
«Скотина ревет. Ревет!.. И я прямо скажу: когда врозь жили, как ни жили – крыши весной не раскрывали. Кроме только самых тяжелых годов», – ворчит, возясь с самодельной соломорезкой (предназначаемой для измельчения соломы с крыш), Ефим Саушкин, который прежде, по его собственным словам, «жил остро, так остро, что другой раз – давнее дело – бабу в кусочки посылал» (то есть за милостыней, подаваемой хлебом, – это ярко описано в уже упоминавшейся книге Энгельгардта).
И ведь все это, говоря слогом будущего «Василия Тёркина», присказка покуда, сказка будет впереди. Еще не переходит «на басы» председатель сельсовета Быков в разговоре с «главой» колхоза Тихоновым об очередной сдаче хлеба, а только «с приятельским невниманием» на все его резоны твердит: «Ты брось, брось. А ты лучше нажми на них. У них есть. Брось…» Еще лишь смутно замаячила в повествовании фигура «озорника» и пакостника, «активиста» Лешки Петроченкова, который самодовольно хвалится сделанной «карьерой», радуясь, что не стал крестьянствовать. «Когда б вы хозяйством занимались серьезно, – угрюмо вставляет его собеседник, – вы тогда понимали б, как тяжело человеку. А так вы – что ж?.. От крестьянского труда вы отвыкли. А в колхозе вам – писчая должность. Вам колхоз – подай боже!»
Не подобные ли петроченковы и быковы вскоре начнут «править бал», выносить приговоры тем, кто, как будет сказано в последней поэме Твардовского «По праву памяти», «горбел годами над землей»?
Барахтаясь, по собственному выражению, с этой прозой, поэт одновременно нащупывает иной мотив и нового героя.
Глава вторая
ВЗЛЕТ СКВОЗЬ ТУЧИ
Со «Страны Муравии»… я начинаю счет своим писаниям, которые могут характеризовать меня как литератора.
А. Твардовский. Автобиография
Первоначальные записи о Моргунке (еще не Никите, а Филиппе, Фильке – таким мелькнет он и в неоконченной повести), персонаже «большого стихотворения, может быть поэмки» – «Мужичок горбатый» (24 сентября 1933 года), еще рисуют фигуру довольно жалкую и комическую – человека ленивого, праздного, даже нечистого на руку: «был он беспутным, бездельным и пр.».
Некоторые же важные, «опорные» пункты композиции будущей поэмы нащупываются быстро. Например, перекличка двух «гулянок» – кулацкой в начале и колхозной в конце, когда Моргунок уже «должен выступить новым человеком», перековавшимся, по ходкому тогда выражению. Но в целом работа подвигается медленно, и написанное часто вызывает разочарование у самого автора.
Определенную роль в развитии и уточнении замысла, в изменении самого подхода к изображению современной деревни сыграло его знакомство с поэмой Александра Безыменского «Ночь начальника политотдела», заканчивавшейся пространной картиной колхозной свадьбы.
Среди многочисленных замечаний, сделанных Твардовским по поводу «политотдельской свадьбы», как он иронически переименовал поэму Безыменского, есть такие, которые явно не прошли бесследно для его собственного замысла:
«Общий тон по отношению к „деревне“, если разобраться, недостойный пролетарского поэта. Здесь… люди – немножко дурачки, и, поэт не дает им думать и поступать более уважительно… Б. берет тем, что схватывает верхушки действительно существенных и волнующих моментов жизни, но в стихах так и нет того особенного, что нельзя подменить или подделать, – их можно подделать. Скучно все это доказывать. И трудно. Вероятно, доказать можно лишь иными стихами» (20 января 1934 года).
Так возникает важный побудительный стимул, активизирующий собственную работу, – доказать неверность и примитивность подобного изображения современной деревни иными стихамио ней.
Быть может, это побудило поэта форсировать темпы своей работы: примерно через неделю после приведенной записи «Мужичок горбатый» был завершен.
Завершен… и оставлен!
Видимо, подвергнув чужую поэму жестокой критике, Твардовский с неменьшей строгостью и на себя оборотился, остро осознав опасность сколько-нибудь небрежного и пренебрежительного по отношению к людям деревни тона, поверхностного, примитивного, схематического изображения серьезнейших современных событий.
В октябре 1934 года поэт сделал следующую пространную выписку из одной речи Александра Фадеева:
«Возьмите 3-й том „Брусков“(романа Ф. И. Панфёрова. – А. Т-в) – „Твердой поступью“. Там есть одно место о Никите Гурьянове, середняке, который, когда организовали колхоз, не согласился идти в колхоз, запряг клячонку и поехал на телеге по всей стране искать, где нет индустриализации и коллективизации. Он ездил долго, побывал на Днепрострое, на Черноморском побережье, все искал места, где нет колхоза, нет индустрии, – не нашел. Лошаденка похудела, он сам осунулся и поседел. Оказалось, что нет другого пути, кроме колхозного, и он вернулся к себе в колхоз в тот самый момент, как председатель колхоза возвращался домой из какой-то командировки на аэроплане. Все это рассказано Панфёровым на нескольких страничках среди другого незначительного материала. А между тем можно было бы всего остального не писать, а написать роман об этом мужике, последнем мелком собственнике, разъезжающем по стране в поисках угла, где нет коллективного социалистического труда, и вынужденном воротиться в свой колхоз – работать со всеми. Если внести сюда элементы условности (как в приключениях Дон Кихота), заставить мужика проехать на клячонке от Черного моря до Ледовитого океана и от Балтийского моря до Тихого океана, из главы в главу сводить его с различными народностями и национальностями, с инженерами и учеными, с аэронавигаторами и полярными исследователями, – то, при хорошем выполнении, получился бы роман такой силы обобщения, который затмил бы „Дон Кихота“…»
Этот момент можно считать переломным в работе Твардовского. Сам он писал в статье о «Стране Муравии» так:
«…Задумал я эту вещь под непосредственным воздействием извне, она была мне подсказана А. А. Фадеевым, хотя эта подсказка не была обращена ко мне лично и не имела в виду жанр поэмы. Началом своей работы над „Муравией“, первым приступом к ней я считаю 1 октября 1934 г., когда я занес в свой дневник выписку из появившейся в печати речи Фадеева».
Впрочем, как предложенный Пушкиным сюжет о ревизоре при всей его остроте и характерности не вызвал бы к жизни гениальную гоголевскую комедию, не обладай ее автор столь совершенным знанием тогдашней жизни и быта, так и рекомендованный Фадеевым фабульный поворот сам по себе отнюдь не предрешал успеха, не попади это «зерно» на такую благодатную, как бы поджидавшую его почву, как душа молодого Твардовского.
То, что поэт как бы сбрасывал со счетов предысторию «Страны Муравии», «барахтанье» в истории Филиппа Моргунка да и в повести, вряд ли справедливо, хотя фадеевская подсказка в огромной мере помогла ему, уже сильно настороженному в отношении своих прежних планов уроками поэмы Безыменского.
Употребленное Фадеевым сопоставление Никиты Гурьянова с Дон Кихотом, разумеется, не было воспринято поэтом как буквальный призыв «затмить» гениальную книгу Сервантеса, но надоумило перевести своего героя как бы в совершенно иное, по сравнению с прежним, измерение: сделать его фигурой по меньшей мере трагикомической и этим избежать самой возможности «обидного» по отношению к деревне тона.
Думается, что без тех долгих и часто безотрадных трудов, какие были потрачены на «Мужичка…», было бы невозможно, чтобы Твардовский, еще 6 октября не собиравшийся браться за «эпопею», два дня спустя «не выдержал, начал писать». Говоря словами из книги «За далью – даль»:
Взялся огонь, и доброй тяги
Бушует музыка в трубе.
Восемнадцатого октября как «проба размера» записываются некоторые строфы, вошедшие затем в измененном виде в окончательный текст «Страны Муравии». Еще через некоторое время – 16 декабря – в записи «Путешествие Никиты» (возможно, что это «рабочее» название поэмы) уже нащупывается эпизод, трансформировавшийся потом в сцену воображаемого разговора со Сталиным.
В этих планах и набросках еще много такого, что сам автор вскоре отбросит как «длинноты, размазывание и т. д.», и все же будущая композиция поэмы – уже узнаваема, как и вся ее художественная структура. Твардовский записывает, что «новые главки… обогащают трагичностью» и что лирические отступления надо «делать во что бы то ни стало».
Напряжение работы не ослабевает. И одновременно, несмотря на все увлечение ею, не оставляет автора настороженный, критический взгляд на сделанное: «Трудно, страшно и нет глубокой радости, – нет уверенности полной» (запись от 16 декабря 1934 года).
Не оставляя еще мыслей о второй или даже третьей частях поэмы, которые бы повествовали о путешествии Никиты буквально по всей стране (срабатывает инерция фадеевской подсказки), Твардовский, однако, реально занят работой над первой (ставшей единственной) частью. Его замысел тяготеет ко все большей простоте, реализму, отказу от соблазнявших было остросюжетных линий и эпизодов (пожар, поимка Моргунком поджигателя – беглого местного кулака и т. п.).

Страница рабочей тетради поэта. Запись 16 декабря 1934 г.
Поэт стремится избежать всего, сколько-нибудь бьющего на эффект, и ввести повествование в более обыденное русло, когда и события, в сущности, крайне драматические, изображаются, по примечательному выражению одного из первых чутких слушателей поэмы, профессора Валентина Фердинандовича Асмуса, без «рыкания» и «оскаленных зубов».
Новый, причем довольно драматический поначалу, толчок к продолжению напряженной работы дала оценка поэмы А. М. Горьким, который прочел ее первую редакцию, переданную автором в возглавляемый им журнал «Колхозник».
В свое время именно отзыв Алексея Максимовича сыграл важную, если не определяющую роль в судьбе книги Михаила Исаковского «Провода в соломе» и самого ее автора. И вполне вероятно, что работавший в редакции «Колхозника» Михаил Васильевич, да и сам Твардовский и на этот раз рассчитывали на поддержку главного редактора журнала.
Надежды не оправдались. Высказав мнение, что в «Стране Муравии» «ясно видны… подражания то Некрасову, то Прокофьеву, то – набор частушек и т. д.», Горький посоветовал автору «посмотреть на эти стихи, как на черновики», и наставительно заключил, что поэмы такого размера «пишутся годами, и не по принципу: „тяп-ляп может будет корабль“, или»:
Сбил-сколотил – вот колесо!
Сел да поехал – ох, хорошо!
Оглянулся назад —
Одни спицы лежат.
Однако, знакомясь с рабочими тетрадями Твардовского, легко убедиться в том, что он трудился отнюдь не по рецепту, высмеянному знаменитым рецензентом, и был очень требователен к себе. Характерно, что еще до получения горьковского отзыва поэт записывает: «После читки у Исаковского в Москве мне стало понятно, что еще делать, делать и переделывать порядочно». И далее следует обширная программа «переделок, исправлений», которая затем неукоснительно выполняется.
Однако в записи, сделанной 23 августа 1935 года после ознакомления с горьковской «резолюцией», сказывается вся свойственная Твардовскому твердость, независимость характера и суждений:
«Подкосил дед, нужно признаться. Но уже прошло два дня. Обдумал. Обчувствовал. Переживем. И да обратится сие несчастье на пользу нам. Слов нет, теперь для меня более явственны сырые места. А что продолжает оставаться хорошим, то, видимо, по-на-стоящему хорошо. Испытание, так сказать. Все буду слышать: и восхищение, и такие отзывы, как „колесо“, а работа будет продолжаться. Дед! ты заострил лишь мое перо. И я докажу, что ты „ошибку давал“».
Авторитет такого критика был для молодого писателя огромен, но дело касалось того жизненного материала, которым автор поэмы, по его справедливому убеждению, «располагал с избытком». «Все то, что происходило тогда в деревне, – сказано в автобиографии, – касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле».
Испытывая, по его словам, «настоятельную потребность… рассказать», что знает «о крестьянине и колхозе», Твардовский предпочитал доверяться собственному жизненному опыту.
Впоследствии он написал замечательное стихотворение, своего рода поэтическую декларацию:
Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых – знаю только я.
Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому
Нельзя. Не скажет – пусть себе он бог.
А я лишь смертный. За свое в ответе
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.
Конечно, здесь выразился сгущенный опыт всей жизни, сказались и те драматические обстоятельства, в которых эти стихи создавались, но, быть может, есть в них и какой-то отголосок давнего спора с другим литературным «богом», спора, исход которого утвердил «смертного» в возможности и необходимости идти «дорогою свободной, куда влечет тебя свободный ум», как было завещано еще Пушкиным.
Возможно, нынешний читатель усомнится, что в то время и в тех условиях, в которых создавалась «Страна Муравия», была какая-либо возможность свободной дороги. Напомнит, что уже фадеевская подсказка диктовала вполне определенный взгляд на происходящее в деревне: конец, то бишь колхоз – делу венец!
И вот уже Моргунок гостит в процветающем колхозе Фролова, гуляет там на развеселой свадьбе, где «ударницы-красавицы» бойко распевают: «Неохота из артели даже замуж выходить», и, наконец, встречает «богомола», который сам раздумал идти к «святым местам», в лавру, и Моргунку втолковывает:
Зачем, кому она,
Страна Муравская, нужна,
Когда такая жизнь кругом, —
прекрасная, словом…
Есть в поэме и кулаки, которые даже нападают на Фролова, энтузиаста коллективизации и раскулачивания (но не припомнить ли тут о наивном негодовании старинного путешественника: «Сие животное столь свирепо, что защищается, когда его хотят убить»?).
И только в черновом тексте «Муравии» была горестная и яркая картина последствий «великого перелома» – обезлюдевшие деревни, опустевшие избы:
Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Кто сам сбежал, кого свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.
Кто сам сбежал… «…Эти годы, – писал Твардовский автору этой книги 12 декабря 1957 года, – характерны массовым бегством из деревни в город, на новостройки и т. п., по вербовке и так, с настоящими и фальшивыми справками, с семьями и без них, – словом, это как раз время отъездов и прощаний с дедовскими местами – „переселение народов“ – в этом, по-моему, и типичность фантастического отъезда Моргунка из родных мест».
Между тем при своем появлении «Страна Муравия» была расценена в печати в фадеевском «духе» – как поэма о «последнем мелком собственнике» или «о последнем мужике», как было сказано на ее почти восторженном обсуждении в столичном Доме литераторов 21 декабря 1935 года, еще до публикации в журнале «Красная новь» (1936. № 4).
Иными словами – о чем-то единичном, даже исключительном и уж никак не типичном.
И потом целые десятилетия в статьях и книгах самых разных авторов утверждалось, будто в пору коллективизации «колебания, подобные Моргунковым, были для большинства позади», поскольку «духовный путь в колхоз, проделанный героем, основные массы крестьянства прошли в конце 20-х годов». Говорилось и писалось, что Твардовский выбрал главным героем повествования «крестьянина с наиболее отсталым сознанием».
«Юношеским задором и юношеским превосходством автора над колеблющимся героем брызжет полная заразительной веселости „Страна Муравия“, – читаешь, например, в статье А. Макарова конца 1950-х годов. – Автор с сочувственной, но иронической улыбкой устраивает (!!! – А. Т-в) для своего героя „хождение по мукам“, чтобы привести его к выводу, который самому поэту ясен с самого начала».
«…Как далек наш герой с его мечтами о маленьком личном счастье от бурной жизни страны!» – патетически сказано в книге того же времени, специально посвященной творчеству Твардовского. В действительности же, сами критики были безмерно далеки от этой бурной и бесконечно драматической жизни, которая весьма осязаемо выразилась именно в судьбе героя поэмы.
Если послушать их, выходит, будто читатель следит за путешествием Моргунка так же, как зрители на стадионе – за бегуном, который, безнадежно отстав от других, все еще трусит по дорожке, в то время как остальные давно финишировали!
Но почему же тогда вместо естественного в таком случае жалостливо-снисходительного сочувствия, а то и беззлобной насмешки герой поэмы возбуждает к себе совсем иное отношение?.. Перечитаем ее!
Просто ли бытовой картинкой она открывается?
Или эта переправа теперь в восприятии Моргунка ассоциируется с подступившей необходимостью отчалить от привычного, обжитого берега к другому, еще повитому туманом, загадочному? Кружение «от быстрины», туго натянувшийся канат, скрипящий под напором воды паром – все это как-то по-особому видится герою.
А его мир, который он вынужден покинуть, который у него из-под ног уходит (ославленный критиками как «узенькая дорожка», «маленькое счастье» и т. д. и т. п.), прост и вместе с тем поэтичен:
И дождь поспешный, молодой
Закапал невпопад.
Запахло летнею водой,
Землей, как год назад.
И по-ребячьи Моргунок
Вдруг протянул ладонь.
И, голову склонивши вбок,
Был строг и грустен конь.
Невпопад– потому что Моргунку теперь не пахать, не сеять. Покидает он родные места, а они томят душу, не отпускают, призывно, как и год назад, напоминают о себе, зовут назад, к привычному труду.
И конь недаром построжел, погрустнел, того и гляди, как в сказке, человеческий голос подаст… А ведь и в самом деле, «в ночь, как ехать со двора, с конем был разговор», да и позже спросит его Моргу-нок: «По той, а, может, не по той дороге едем, друг?»
Не раз еще в поэме повеет сказкой, – например, когда встанет перед героем выбор – единоличная ли деревня Острова или фроловский колхоз.
Да и совсем уж «собственной персоной» объявится «сказка-ложь, да в ней намек» в довольно будничных обстоятельствах:
На огне трещит валежник
Робко, будто под ногой.
Двое возчиков проезжих
Сонно смотрят на огонь.
……………………………………
Спит не спит, лежит Никита,
Слышен скрип и хруст травы.
Глухо тукают копыта
Возле самой головы.
Поправляет головешки
Освещенная рука.
После этой предельно реалистичной картины, достигающей в последних строках зрительной яркости кинематографического кадра, и возникает сказка про деда с бабой.
Дед – такой же «отказчик» от колхоза, как и Моргунок. Ему бы – жить по-прежнему, «на отлете от села», но тут подоспел могучий весенний разлив…
И случилась эта сказка
Возле нашего села:
Подняла вода избушку,
Как кораблик, понесла…
И качаются, как в зыбке,
Дед и баба за стеной.
Принесло избу под липки —
К нам в усадьбу —
Тут и стой…
Спали воды. Стало сухо.
Смотрит дед – на солнце дверь:
«Ну, тому бывать, старуха,
Жить нам заново теперь…»
Сказка – подсказка, что и Моргунку судьбы не переупрямить. Да и не «понесло» ли и его «кораблик» с телегой, и ему только кажется, что он держит путь сам? Вынесет-то на колхозную усадьбу: тому бывать, чего не миновать!
И если рассматривать происходящее с героем всерьез, а не тешиться некоей байкой о незадачливом простофиле, бегающем от собственного счастья, которое ждет его в колхозе, то станет ясно, что молодой поэт близко подошел к проблемам, волновавшим уже его великих предшественников.
Очевидное, бросающееся в глаза и в значительной мере обманчивое сходство фабулы «Страны Муравии» и знаменитой поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» [3]3
В отличие от Моргунка некрасовские странствующие герои скорее наблюдатели, нежели действующие лица. Их путешествие – это сюжетная нить, на которую «нанизаны» рассказы встречных и попутные происшествия. Снабженные скатертью-самобранкой герои сказочно избавлены от всех мытарств реальной дороги (не то что Моргунок), но вообще-то сказочная атмосфера, как писал еще К. Чуковский, существует лишь в прологе некрасовской поэмы, а потом «выветривается без остатка». В «Муравии» же ничего заведомо сказочного, «чудесного» нет, но поэтика сказки, как подземный ключ, исподволь питает собой повествование.
[Закрыть]так завораживало, что только немногими, да и то лишь в позднейших произведениях Твардовского, были расслышаны иные, пушкинские ноты. Между тем в сам о й интонации еще его первой значительной поэмы порой воскресает мажорный склад пушкинских сказок («Площадь залита народом, площадь ходит хороводом, площадь до краев полна, площадь пляшет, как волна»), а уж столкновение скромной мечты Моргунка с грозной действительностью, как это ни кажется парадоксальным, в чем-то перекликается с «Медным всадником».
Казалось бы, «злые волны» петербургского наводнения – не чета вешнему паводку в «Стране Муравии», но представление о сложности и драматизме взаимоотношений личности, народа – и государства почти неосознанно уже намечается в поэме, выбивающейся из строго предначертанных фадеевской подсказкой рамок на большой простор.
Впоследствии Твардовский говорил, что авторы книг о коллективизации считали, будто вступление крестьян в колхозы диктовалось «необходимостью самого единоличного хозяйства»: «„Мол, из нужды не выйти“ и т. п.».
«И это тогда, как мужик имел Советскую власть, – писал поэт Александру Григорьевичу Дементьеву 18 декабря 1953 года, – получил землю, построил хату из панского леса, пользовался сельскохозяйственным кредитом и т. п., но главное, конечно, земля. Он только начал жить, только поел хлеба вволю. И в этих условиях он мог, по моему глубокому убеждению, воздерживаться от „коммунии“ лет 200–300».
Вспоминаются мне и слова, сказанные Твардовским в одном разговоре осенью 1956 года, о том, что коллективизация была нужна не самому крестьянству, а государству. Та же мысль повторяется в более поздних рабочих тетрадях поэта.
«Не из нужды крестьянского двора», по его словам, произошла сталинская коллективизация, которая попрала, отбросила, уничтожила естественно складывавшиеся формы сотрудничества, совместного труда.
«Коллективизация (сплошная) смыла кооперацию, все эти маслозаводы, успешную конкуренцию с кулаком и т. д. Кооперация – экономический, хозяйственный путь, но коллективизация пошла другим путем – государственным, политическим, административным. Весь предшествующий путь кооперации (артели, маслосырзаводы и т. п.) она объявила кулацким путем» (запись от 1 декабря 1963 года).
А в наши дни уже и польский славист Петр Фаст следующим образом размышляет о «Стране Муравии»: «Произведение, признанное своеобразной апологией коллективизации, сегодня мы были бы склонны трактовать как симптом осознания едва ли не трагедийной доли крестьянства, для которого, кроме колхоза, другой дороги в ту пору не существовало. Неизбежность пути к коллективному хозяйству… Твардовский представляет таким образом, что сквозь апологию пробивается ощущение трагического фатума».
«Муравия» рождалась в очень сложных и противоречивых условиях.
В апреле 1934 года, выступая на первом областном съезде смоленских литераторов, представитель оргкомитета Союза советских писателей, критик Корнелий Зелинский не только сообщил, что как редактор столичного издательства «Советская литература» отклонил предложенный Твардовским сборник стихов, но обнаружил в них «душок не нашего представления о бедняке» и что это у автора не случайно.
Семнадцатого июля 1934 года давний преследователь поэта, сверхбдительный критик В. Горбатенков, резко отзывавшийся о нем уже и на апрельском съезде, напечатал в газете «Большевистский молодняк» статью «Кулацкий подголосок», после чего, как писала Мария Илларионовна Тарасенкову, в районных центрах «выносятся резолюции о том, что стихи Твардовского не помогают строить социализм», а некий «читатель» в письме, помещенном в той же газете, выражает недоумение, почему «подголоска» не выслали вместе со всей его семьей. Горбатенков же стал распускать «порочащие» поэта слухи, будто он хлопочет о возвращении родителей из ссылки.
Восемнадцатого августа Тарасенков в столичной «Литературной газете» оценил происходящее как травлю и «критическую порку» «одного из наиболее интересных и талантливых поэтов области» («О загибах по-смоленски»). Однако несколько месяцев спустя «Большевистский молодняк» снова опубликовал статью в прежнем духе, авторами которой были Горбатенков, И. Кац и Н. Рыленков.
Но на этот раз на состоявшемся в те же дни совещании областных поэтов в защиту Твардовского выступили московские критики Марк Серебрянский и Сергей Кирьянов. Они, в частности, первыми положительно отозвались о «Муравии», известной им по черновикам.
Вскоре, выслушав первые главы поэмы, к этому мнению присоединились Владимир Луговской, Михаил Голодный («Ничего подобного в советской поэзии нет»), Михаил Светлов (в своей улыбчивой манере: «сукно добротное»), а также философ, профессор В. Ф. Асмус, который к тому же 12 декабря 1935 года опубликовал в «Известиях» очень одобрительную рецензию на сборник стихов Твардовского, вышедший в Смоленске.