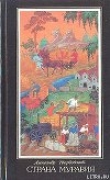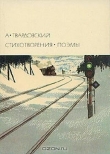Текст книги "Александр Твардовский"
Автор книги: Андрей Турков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Он открывает для себя Блока-критика, а в особенности радуется «живительному свету» (от которого тоже «вся муть стала уходить»), исходящему от прочитанных в больнице писем Цветаевой («чистое золото в поэтическом и этическом, в неразрывности этих смыслов»). С интересом и сочувствием читает записи покойного Тарасенкова о разговорах с Пастернаком и письма Бориса Леонидовича, видя в нем «умного, честного и глубоко несчастного человека, по-своему, но в общем правильно понимавшего… время и трагическую роль искусства».
Передышка, как и думали в редакции, оказалась недолгой, и «окончательное угробление» журнала, как выразился Твардовский, оставалось у его противников «задачей номер один».
Иначе и не могло быть в тогдашней атмосфере, когда не только упорно циркулировали слухи о предстоящей в декабре 1969 года в связи с 90-летием Сталина его «реабилитации», но и был напечатан откровенно сталинистский роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», не только оправдывавший террор тридцатых годов, но и, по словам Александра Трифоновича, выглядевший «отчетливым призывом к смелым и решительным действиям по выявлению и искоренению „отдельных“, то есть людей из интеллигенции, которые смеют чего-то там размышлять, мечтать о демократии и пр.».
Первый «звоночек» последовал уже в октябре все из того же «Огонька», организовавшего очередное возмущенное «письмо» – на этот раз против повести В. Быкова «Круглянский мост».
– Да, значит, угомону на них нет, – мрачно сказал Твардовский.
Накануне же октябрьской годовщины взялись за дело уже вполне по-кочетовски: исключили из Союза писателей Солженицына.
– Это катастрофа, – сразу сказал Дементьев, да и сам Александр Трифонович решил, что теперь «наш черед».
Тем более что исключенный снова преподнес «родителю» сюрприз, адресовав секретариату правления Союза писателей громовое письмо, означавшее совершенный разрыв со всеми «верхами», повинными в состоянии «тяжело больного общества».
Диагноз был верным и точным, но сам поступок – безоглядным, а уж для журнальной «колыбели» автора влекущим действительно самые катастрофические последствия. Расправа с «Новым миром» и так была уже не за горами (в эти же ноябрьские дни знакомая цензорша украдкой предупредила, что, похоже, принято решение об увольнении Лакшина, Кондратовича и Виноградова).
Солженицынское письмо могло только утвердить «верхи» в их намерениях.
– Мы его породили, а он нас убил, – горестно сказал Александр Трифонович. И неудивительно, что он снова «сорвался» на несколько дней.
По нему уже били прямой наводкой. «Мы, к сожалению, иногда являемся свидетелями девальвации мировоззрения у иных мастеров слова, которые в недалеком прошлом создавали талантливые реалистические произведения, достойные своего героического времени, своего народа-читателя», – говорил Сергей Михалков на декабрьском пленуме правления СП, и эта речь тут же была напечатана в «Московской правде».
Были опубликованы тезисы ЦК к столетию со дня рождения Ленина, где упоминалось, что «партия отвергает любые попытки направить критику культа личности и субъективизма против интересов народа и социализма, в целях очернения истории социалистического строительства, дискредитации революционных завоеваний, пересмотра принципов марксизма-ленинизма».
Услышав это, Александр Трифонович, по свидетельству Кондратовича, даже потемнел. «Любые попытки, – сказал, покачивая головой. – Так это значит – ничего нельзя».
Поэма «По праву памяти» вполне могла быть охарактеризована теперь как такая «попытка». А она и без того уже на долгие месяцы застряла в цензуре. Тем временем, по слухам, уже печаталась за границей.
Примечательная деталь: председательствовать на юбилейном вечере Исаковского в Концертном зале имени Чайковского его давнему ближнему другу даже не предложили. И в то время как собравшиеся в зале встретили Твардовского продолжительной овацией, сидевший в президиуме крупный цековский чин Беляев весь напрягся, даже подался вперед, словно готовясь кинуться к оратору, от которого мало ли чего можно ожидать.
А неделю спустя Беляев с Воронковым показывали Александру Трифоновичу зарубежные публикации его поэмы и настаивали, чтобы он дал «отпор». От обсуждения же ее всячески уклонялись, а «между делом» снова возобновляли разговор о необходимости «укрепить» редколлегию и в этой связи называли… того самого Большова, который выступал против плучековского спектакля и его литературной первоосновы.
Четвертого февраля 1970 года – в отсутствие Твардовского – состоялось заседание узкого состава секретариата правления Союза писателей, на котором Большов был назначен заместителем главного редактора журнала, а в редколлегию вместо Лакшина, Кондратовича и Виноградова вводились В. Косолапов (дотоле директор Гослитиздата; ему и предстояло сменить Твардовского), прозаики О. Смирнов (второй зам главного) и А. Рекемчук, а также литературовед А. Овчаренко.
Последний только что, в самом начале февраля, выступил на обсуждении журнальной прозы минувшего года с грубой демагогической речью о поэме «По праву памяти» и назвал ее «кулацкой».
Газетное сообщение о переменах в редакции составили так, что можно было подумать, будто поэт на заседании присутствовал и принимал участие в обсуждении.
Словом, было сделано все, чтобы, как давно мечталось «автоматчикам», «выманить медведя из берлоги», поставить поэта в глубоко оскорбительное и совершенно невыносимое положение. Его обращение в ЦК с протестом против решения секретариата осталось без ответа.
Двенадцатого февраля Твардовский подал заявление об уходе, немедленно удовлетворенное, но еще несколько дней приезжал в редакцию в тщетном ожидании встречи с Брежневым, которому написал о «фактическим разгроме» «Нового мира», предостерегая:
«Осуществленные ныне мероприятия по „укрощению“ журнала не могут не иметь… самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических. В широких кругах наших читателей они неизбежно будут восприняты как рецидив сталинизма».
Однако «политический деятель ленинского типа», как угодливо именовали генсека, не соизволил ни принять «опального», ни ответить на его письмо.
Не возымели действия и многочисленные писательские обращения к «верхам».
«У нас нет поэта, равному ему по таланту и значению», – говорилось о Твардовском в письме, отправленном еще 9 февраля А. Беком, В. Кавериным, Б. Можаевым, А. Рыбаковым, Ю. Трифоновым, А. Вознесенским, Е. Евтушенко, М. Алигер, Е. Воробьевым, В. Тендряковым, Ю. Нагибиным и М. Исаковским.
«…Получив письмо, Брежнев поморщился, – вспоминал Анатолий Рыбаков. – „Что за коллективки такие? Пусть придут в ЦК, поговорим“.
„Коллективками“ назывались коллективные заявления, в армии они были запрещены, полагалось писать только индивидуальные рапорты…
Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию (не более пяти человек) по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию „Нового мира“.
…Прождали до полуночи. Никто не позвонил» (Рыбаков А. Роман-воспоминание. М., 1997).
Восемнадцатого февраля, как стало известно, Брежнев дал согласие на вынужденную отставку Твардовского.
«В пятницу (20 февраля. – А. Т-в) простился с редакцией, обошел все этажи и комнаты…» – записано в рабочей тетради поэта. А Дементьев предложил каждый год в этот день собираться – «пока будем живы».
За рубежом произошедшее с «Новым миром» вызвало, по словам Твардовского, «цунами». Писали, что его отставка «олицетворяет собой конец целой эры».
Нечего говорить, что в советской печати ничего подобного не было. Об уходе Твардовского, в сущности, не сообщалось. И отклики на это событие поневоле носили устный или «нелегальный» характер. Появился, например, листок «После умерщвления „Нового мира“. Вместо некролога». Автор, философ Г. Г. Водолазов, писал, что власти и не могли сказать о произошедшем правду, потому что это «значило бы обнаружить перед всем миром действительное бессилие противостоять могучему духовному влиянию журнала духовными же средствами…».
«Очевидно, ничего другого, как исключить Солженицына, снять Твардовского, им не оставалось, – занес в дневник и Борис Бабочкин. – Даже, я бы сказал, осуществилась их заветная мечта: теперь картина будет уж совсем гладкая».
А живший в Костроме критик Игорь Дедков, прочитав «меленько набранное и неприметно заверстанное» в «Литературной России» сообщение о смене редколлегии, записывал в дневнике: «Так узнают обычно о несчастиях. Сразу. То, что произошло и что еще произойдет (отставка Твардовского и др.) – собственно, это одновременное, как бы ни хотели отделить Твардовского от других, – это происшедшее еще трудно оценивается, но на душе скверно, как при встрече с неизбежным. Едет огромное колесо – верхнего края обода не видно – и давит».
«Вполне здоров», – записано в рабочей тетради поэта в день, когда исполнился «ровно месяц, как принято решение об удовлетворении просьбы т. Твардовского» (об отставке). В последних словах нетрудно услышать и гневный, горький сарказм, и скрытую боль. Недаром на той же странице сказано: «записывать нет сил».
Лишь через несколько дней Александр Трифонович вернется к разговору о «здоровье». «Нынешняя моя весна света, – пишет он в конце марта, вероятно, припомнив излюбленное пришвинское выражение, – как после многолетней болезни оклемаюсь (оклемываюсь? – А. Т-в), еще не веря, что „болезнь“ позади. Именно, что болезнь – 12 лет (второй срок редакторства. – А. Т-в) без передышки (с „передышками“ известного рода, без отпусков и сроков). Как бы болезнь непонимания, невнимания к тому, что нельзя (не поощряется, запрещено. – А. Т-в) (авось, можно). Выбиваясь из хомута, боком, боком по скользкой глине изволока, под кручу, с замираньем в груди (сорвусь!), с мукой и отвращеньем и только с неизменным сознанием, что бросить нельзя – совесть заест. И весь мир понял, что „Новый мир“ тянул до последнего часа свой непомерной тяжести воз. Дотянуть заведомо нельзя было, но в том же и суть, что тянули, несмотря на эту заведомую невозможность дотянуть».
Замечательная по выразительности и страстности характеристика осиленного пути!
Еще когда после вторжения в Чехословакию над журналом стали сгущаться тучи, поэт невесело пошутил:
– Ну, если они снимут нас, то это уже бессмертие!
И в самом деле, разгром «Нового мира» – это одна из таких же трагических и памятных вех отечественной истории, как прекращение некрасовского «Современника» и щедринских «Отечественных записок».
«…Салтыкову это потеря личная, потеря родного детища», – писал один из друзей великого сатирика.
То же можно сказать о Твардовском.
Глава двенадцатая
«ВСЕ ТОНЬШЕ СЛОЙ ОСТАТНИХ ДНЕЙ…»
Что касается меня, то я покуда чувствую только повсеместную боль. Чувствую также, что я лишен возможности периодически беседовать с читателем, и эта боль всего сильнее…
Из писем Салтыкова-Щедрина после закрытия «Отечественных записок»
…И как он будет жить без своего редакционного дела?
Из переписки его друзей
Когда-то в самый разгар работы над «Тёркиным» поэт признавался жене, что его «охватывает порой такое тревожно-радостное чувство, такое ощущение честного счастья, как если бы… совершил подвиг».
В одном же из стихотворений поздних лет он высказался о сделанном в свойственном ему улыбчивом, чуть ли не тёркинском тоне:
На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенышке.
И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.
Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.
(«На дне моей жизни…», 1967)
Экое ведь приискал скромнейшее, «несерьезное» словечко, целомудренно скрадывая неиссякаемое «ощущение честного счастья»!..
Лишь после разгрома журнала и своей собственной разлуки с ним, в разговоре с навестившими его, такими же осиротевшими сотрудниками Александр Трифонович не скрыл этого ощущения, сознания значительности совершенного:
«Нам всегда казалось, что кончится „Н<овый> м<ир>“ и над мачтами сомкнутся волны. Но вот я читаю много писем, и не от писателей, а от читателей, пишут все – учителя, слесари, инженеры, студенты, – пишут о нашей беде, и пишут так, что я вижу: волны не сомкнулись, нет, не сомкнулись, – и мачта наша с нашим флагом еще трепещет над волнами. Наше дело живет» [63]63
«Мы торопимся, – писала, например, от группы читателей А. Шкодина 11 февраля 1970 года, – в те немногие дни, что все вы еще вместе – принести вам свою несказанную и невыразимую благодарность… Мы, ваши читатели, всегда с вами – знайте и помните это: мы вам всегда благодарны и гордимся вами. Спасибо вам за все то, что вы успели сделать. Спасибо вам за все то, что вы еще сделаете».
[Закрыть].
А двумя месяцами позже записывал: «Новая волна читательских (и отчасти писательских) писем в связи с получением на местах второго номера за подписью В. А. Косолапова. Волна не сказать чтобы высокая, но дает и мне представление о том, что „там, во глубине России“ [64]64
Строка из знаменитых некрасовских стихов:
В столицах шум, гремят витии,Кипит словесная война,А там, во глубине России —Там вековая тишина.
[Закрыть]уже довольно хорошо понимали значение „Нового мира“, и собственную популярность мне суждено было ощутить в наибольшей, может быть, мере в эти печальные, после-разгромные недели и месяцы».
Даже в вынужденно оставленной им «крепостце» хотя и убывающие – кто по болезни, кто по воле начальства – бойцы прежнего гарнизона некоторое непродолжительное время не только старались довести до печати принятые еще самим Александром Трифоновичем произведения, но ухитрялись «протаскивать» (по тогдашней терминологии) новые, но написанные в прежнем «новомирском» духе, что, как свидетельствовал близкий к журналу мемуарист, вызывало «очередные конвульсии… приступы раздражения у идеологического начальства».
Бывшим «новомирцам» приходилось нелегко. «…Все никак не могу приняться за дело. Не лежит душа ни к чему», – записывал Кондратович, «милостиво» назначенный членом редколлегии малоинтересного журнала «Советская литература на иностранных языках». А от Лакшина Александр Трифонович услышал «грустное до отчаяния признание… крик души для него необычный»: «Не могу ничего работать. Руки не берут. Все обессмыслилось…» (Его «трудоустроили» в журнал «Иностранная литература».)
Да и сам поэт постоянно возвращался к горькой мысли: «М<ожет> б<ыть>, жизнь кончилась, осталось дожитие, хоть и не верю в это, верю в жизнь, чую за собой еще силы и возможности» (запись 22 февраля 1970 года); «Нечего скрывать от себя, что жизнь, пожалуй, кончена, остается дожитие, обращенное вспять, на „героический период“ моей зрелости в „Новом мире“» (25 февраля).
Он задумывает книгу «16 лет в „Новом мире“» и перечитывает дневниковые записи этой поры. Да и не без какого-то ли расчета – быть может, в связи с давними, неотступными мыслями о «Пане» – на самой последней июньской странице рабочей тетради вновь переписаны (в первый раз это было сделано в марте 1969 года) стихи из тетради тридцатых годов:
Батя, батя, где ты, где ты
Нынче носишься по свету?
Под какой ночуешь кровлей,
Жив, здоров ли?
От годов, трудов и злости
Может только стал горбатей:
Или вовсе паришь кости
На неведомом погосте,
Батя, батя…
За трудами на дачном участке приходили строки:
Все тоньше слой остатних дней,
Но не поникну в горести…
Незадолго до близящегося шестидесятилетия, узнав о водворении видного генетика Жореса Медведева в Калужскую психиатрическую больницу (частый тогда метод «полемики» с диссидентами!), Твардовский поехал туда поговорить с врачами, «посмотреть им в глаза» и высказал свое возмущение случившимся в телеграмме Косыгину. Благодаря и его, в числе других, протесту «больного» отпустили, зато юбиляру поступок стоил «умаления» в награде. Ходила легенда, будто он в результате лишился звания Героя Социалистического Труда и, узнав об этом, сказал: «А я не знал, что Героя дают за трусость!»
Начальственное неблаговоление отразилось и в печатных откликах на юбилей: в газете «Неделя» мою статью «Поэт народного подвига» сильно сократили и на «сэкономленное» место поставили заметку о гастролях третьестепенных французских артистов. В статье же Сергея Наровчатова «За далью – даль» в «Новом мире» (1970. № 6) небыли упомянуты ни «Тёркин на том свете», ни «Дом у дороги».
В Смоленске, записывает поэт, «утесняют сестру на службе (это синхронно – как со мной что-нибудь – тотчас отзывается на моих)»; верного друга АлГрига, Дементьева, увольняют из Института мировой литературы, неприятности возникают даже у жен Кондратовича и Лакшина. Сам Александр Трифонович на писательском съезде оказывается в одиночестве, его «не узна ю т» при встрече. Были и другие подобные последствия отставки.
На снимке еще недавних лет Твардовский, кажется, пышет здоровьем, особенно по сравнению со стоящим рядом худым и сгорбленным Ярославом Смеляковым. И кто бы мог подумать, что «доходяга» пусть ненадолго, но переживет «здоровяка»…
Между тем еще 23 мая 1970 года в рабочей тетради появились страшные своим спокойствием слова: «Все глубже ухожу в тину-трясину безразличия ко всему, думы и предположения насчет конца концов».
Десять дней спустя записи вообще оборвутся. Навсегда.
В своих дневниках 1970 года Кондратович и Лакшин упоминали то о появившейся у Александра Трифоновича еще в марте усталости, слабости, то об одышке, жалобах на эмфизему и боли в ноге и руке. Летом он уже с трудом делал дарственные надписи на своем двухтомнике, отправляемом многим поздравившим его с юбилеем.
Двадцать второго сентября у него случился инсульт; отнялась правая половина тела, пострадала и речь. А 14 октября, уже в больнице, был обнаружен рак легких. По словам мемуаристов, медики полагали, что хотя опухоль появилась (и не была замечена врачами) еще года два назад, но события последних месяцев сыграли роковую роль.
Заговорили о близком конце.
«Вверху» всполошились.
«На Старой площади (в ЦК. – А. Т-в) недовольны болезнью Твардовского», – записал слова Косо-лапова Лакшин и позже продолжал: «Каждый день начальник Кремлевки (так называемой Кремлевской больницы на Воздвиженке, тогда проспекте Калинина. – А. Т-в) звонит Демич<еву> и докладывает о состоянии Трифоныча… М<арии> Ил<ларионов>не звонил референт Брежнева и сказал, что отдано распоряжение сделать все возможное – предоставить любых врачей и лекарства…»
Простодушная цензорша прояснила причину этой озабоченности: «Только бы Твардовский не умер в нынешнем году – это была бы крупная неприятность» (слишком очевидна была бы связь с разгромом «Нового мира»).
Но богатырское здоровье позволило поэту еще больше года сопротивляться страшной болезни.
В феврале 1971-го Александра Трифоновича перевезли домой (хотя потом из-за ухудшения снова временно брали в больницу).
«Глаза синие, умные, – записывал часто навешавший его Лакшин, – и несчастные, когда „слово мечется“, как он выразился, а его не схватишь… Я упомянул в связи с чем-то „Новый мир“. Он сказал: „…Это боль, это боль“».
«Правая рука – крупная, тяжелая, неподвижно лежала на колене, – вспоминал Кондратович. – „Скрюченные персты“ – сразу же вспомнились его же слова об отцовской руке, руке кузнеца. Скрюченные персты уже не разгибались много недель. Он подал здоровую, левую, в ней была жизнь, в пожатии я почувствовал силу, которую еще надо было немного сдерживать, и меня это очень обрадовало. Потом я увидел, как он этой левой довольно легко достал из кармана пижамы сигарету и, зажав в коленях коробок спичек, сам прикурил, и во мне вспыхнула надежда: а вдруг, случаются же на свете чудеса!
И еще день был такой ослепительно мартовский. Я шел сюда от Калужского шоссе кратчайшим путем, лесом. Чистый звенящий наст слепил глаза, и надо было идти, глядя вниз, под ноги, а на веки ложилось блаженное тепло. Такой же теплый свет лился теперь в комнату, и он, улыбаясь, спросил: „Новости… Есть?“
Спросил, как прежде, только слова теперь существовали отдельно, не связываясь в одну слитную фразу. И я сказал, что кое-какие новости есть, и рассказал ему о них, и он слушал с вниманием, весь подавшись вперед, а за окном виднелся кусочек дачного участка с березами и елками, просвеченными мартовской синевой, маленький кусочек Смоленщины, или Подмосковья, или самой России – все, что осталось ему видеть каждый день. Но казалось, что он и этим доволен, он улыбался, слушая новости и вглядываясь своими синими-синими глазами за окно. И подумалось мне, что чудо и впрямь может случиться.
И тогда Александр Григорьевич Дементьев, который тоже пришел проведать Александра Трифоновича, сказал: „Давай-ка, Саша, пройдемся, ты же любишь ходить“. С помощью Дементьева он с удовольствием и без особого напряжения поднялся и, уверенно ступая левой ногой и приволакивая правую – еще месяц назад она была совсем неподвижна, – прошел всю длину комнаты и обратно. „Смотри, смотри, Саша, сейчас гораздо лучше, чем в последний раз“, – удивлялся Дементьев, и в голосе его тоже слышалась надежда.
„Какой прекрасный день! – сказал я. – По всему видно – началась весна“.
Сказать мне хотелось не то, мучительно хотелось сказать, что, может, все обернется по-другому, и болезнь пойдет вспять…
Почувствовав мое настроение, Александр Григорьевич нашел осторожные слова моей и своей, нашей общей надежде: „Да, Саша, хорошо на улице. Скоро все растает, не заметишь, как май пройдет, и ты выйдешь под те вот березки…“
И слушая его и продолжая улыбаться, Александр Трифонович в ответ медленно повел головой. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но смотрел он не за окно, а на нас, и медленно повернул голову в одну сторону, затем – в другую. „Нет, – безмолвно ответил он, – по траве я уже больше не пройдусь…“
Он все знал и ни на что не надеялся. И был спокоен. Только улыбка медленно стала сходить с лица. И, по-моему, он нас в это время не видел.
Я давно и отлично знал, что у Твардовского сильный характер – это знали многие. Но я не мог даже предположить все величие этого характера перед лицом самой смерти».
Он слабел и худел, но иной раз по-прежнему остро реагировал, если разговор касался того, что волновало.
Когда, еще в конце 1970 года, Солженицыну присудили Нобелевскую премию, Александр Трифонович сказал жене: «А ведь и нас вспомнят, как мы за него стояли», – и с улыбкой: – «И мы – богатыри». Выслушав же прочитанную ему ругательную статью в «Известиях» о новом лауреате проронил: «А я вот в нетях» (не в силах протестовать, что ли?).
«Ожил, повеселел, когда я стал вспоминать Маршака, – записывал Лакшин 15 Июля 1971 года, – даже пытался, как прежде, передразнить его.
Как-то невольно повернулся разговор на „Новый мир“, я сказал о письмах, какие все еще идут, и что дело-то не погибло. „Не погибло, не погибло!“ – вдруг вскричал он с каким-то ожесточением и азартом. „Не погибло!“ – и рукой замахал».
А вот каким запечатлелся Александр Трифонович в памяти поэта Константина Ваншенкина:
Он, словно между дел
И словно их немало,
Средь комнаты сидел,
Задумавшись устало.
Ушла за дальний круг
Медлительная властность,
И проступила вдруг
Беспомощная ясность
Незамутненных глаз.
А в них была забота,
Как будто вот сейчас
Ему мешало что-то.
Он подождал, потом
(Верней, слова, ложитесь!)
Негромко и с трудом
Промолвил: – Покажитесь…
Я передвинул стул,
Чтоб быть не против света,
И он чуть-чуть кивнул,
Благодаря за это.
И, голову склоня,
Взглянул бочком, как птица,
Причислив и меня
К тем, с кем хотел проститься.
А «наверху» одни все еще не могли уняться и бдительно следили, как бы не пропустить «лишнее» упоминание о поэте или колючую строчку из его стихов, другие же, похоже, несколько стеснялись всего содеянного и делали примирительные жесты: выдвинули на Государственную премию чуть ли не четырехлетней давности сборник «Из лирики этих лет» (1967).
Мария Илларионовна возмущалась этим запоздалым «ласкательством». Сам же лауреат был доволен, пока не увидел себя в списке награжденных рядом с затеявшим гроссмановскую «историю» Вадимом Кожевниковым. Отчаянно замахал руками: «Ну-ну-ну!» (что было у него знаком крайнего недовольства).
Как раз в эти дни мы приехали в Пахру вместе с вдовой Тарасенкова, Марией Иосифовной Белкиной, которую Александр Трифонович знал и любил с молодых лет.
Страшно исхудалый, он сидел в комнате с большим окном, откуда глядела поздняя осень.
– Рад… рад… – Он почти не мог говорить, но когда еще подошли дачный сосед Григорий Бакланов и АлГриг и разговор зашел о чем-то, всех тогда волновавшем, вдруг со страстью и болью воскликнул: «Да! Да!! Да!!!»
И было в этом что-то, напоминавшее эпизод из «Тёркина», когда смертельно раненный в разгаре боя командир крикнул замешкавшимся было бойцам:
– Вперед, ребята!
Я не ранен. Я – убит…
Полтора месяца спустя, 18 декабря 1971 года, Твардовского не стало.
Он умер во сне, глухой ночью. Незадолго до того стал зябнуть, его укрыли. И, быть может, в гаснущем сознании прошло что-то близкое мыслям любимого героя, совестившегося спать в тепле, когда «в поле вьюга-завируха, в трех верстах гудит война»:
Ах, как холодно в дороге
У объезда где-нибудь,
Как прохватывает ветер,
Как луна теплом бедна.
Ах, как трудно все на свете:
Служба, жизнь, зима, война.
Кончина поэта стала для начальства серьезной «неприятностью»: как бы чего не вышло! Запричитал же вдруг старый писатель Леонид Борисов над гробом Зощенко: «Миша, дорогой, прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам…» С той поры усопшие попадали под бдительную «опеку». «Только умер, а те, кого он ненавидел, уже тащат его к себе, – негодовал Твардовский, слушая рассказ Бека о проводах Паустовского. – Уже Михаил Алексеев (один из пресловутых „одиннадцати“. – А. Т-ов) выступает над гробом. Умрешь – и с тобой сделают то же» (из дневника А. Бека).
«Настоящая стратегическая операция готовится, как перед сражением», – записал в дневнике Лакшин вдень похорон, 21 декабря 1971 года, увидев у Центрального дома литераторов, где проходили прощание и панихида, «разводы милиции, цепи военных». Но операция началась много раньше – с работы над официальным извещением о смерти (здесь, как иронически писал один из «новомирцев» Л. Левицкий, «был установлен ранг покойного» – «выдающийся поэт») и некрологом (где в числе его произведений не были упомянуты ни «Тёркин на том свете», ни даже «Дом у дороги»), а также с цензурования (трудно тут иное слово употребить!) списка ораторов на панихиде и на кладбище.
«Как клеймятся порядки старой России. Какие слова выискиваются, когда обличаются произвол и безобразия царского самодержавия, – писал в дневнике Левицкий. – Но можно ли себе представить, чтобы в самые мрачные годы досоветской России ближайшие друзья умершего писателя были бы лишены возможности высказаться о нем на панихиде?» [65]65
Левицкий Л. Утешение цирюльника. Дневник: 1963–1977. СПб., 2005. С. 234.
[Закрыть]
«Если завтра будет какая накладка – головы полетят», – передавалась чья-то то ли угрожающая, то ли пугливая фраза. В Союз писателей приезжал «сам» Шауро, уговаривал Марию Илларионовну «доверять комиссии по похоронам» («У нас все продумано»), величал Твардовского «подвижником» и вынужден был выслушать от вдовы несколько резких слов: «Но ведь это вы его сняли…»
Незадолго до начала панихиды поток шедших проститься с поэтом неожиданно поредел. Потом выяснилось, что «вежливый кордон» пускать перестал: панихида, мол, уже началась.
«В час дня, после того как в почетном карауле отметились лучшие друзья покойного – Софронов, травивший Твардовского в „Огоньке“, и Овчаренко, клеймивший А. Т. как носителя враждебной идеологии, на сцену выползло союзное начальство и расположилось вокруг гроба», – свидетельствует Левицкий [66]66
Левицкий Л. Утешение цирюльника. Дневник: 1963–1977. СПб., 2005. С. 234.
[Закрыть].
Били все, кому не жалко,
Уложили наповал.
Вот стоят у катафалка
Те, кто бил и мордовал.
Знаем, знаем их замашки —
Супермены, туз к тузу.
У них речи на бумажке
И слезиночка в глазу.
Стихи эти, написанные поэтом Дмитрием Сухаревым по другому поводу (не одного Твардовского тогда затравили), и в данном случае к месту!
Речи произносили Алексей Сурков («к ужасу семьи», отмечает Лакшин: слишком памятна была роль оратора в событиях 1954 года), Григол Абашидзе (от имени многонациональной литературы), генерал Востоков («сплошные штампы», по отзывам провожавших), Сергей Наровчатов, Константин Симонов, единственный упомянувший о «Новом мире», произнесший слова: «великий поэт», а на кладбище Михаил Дудин и Михаил Луконин, – почти все – далекие от покойного люди, как и те, кто «обновлял» редколлегию «Нового мира»!
Свою долю в напряженную атмосферу похорон внес Солженицын. Родные поэта предлагали ему проститься с Александром Трифоновичем накануне, в морге, где собрались близкие покойного. Однако Александр Исаевич сослался на занятость, явно желая, чтобы его прощание с поэтом имело публичныйхарактер и получило огласку.
Несмотря на все принятые меры, чтобы не пропустить Солженицына на панихиду, он все же проник в Центральный дом литераторов, и это «эффектное» появление произвело сенсацию среди зарубежных корреспондентов, для которых «героем дня» стал он. Продолжал Александр Исаевич привлекать к себе внимание и на Новодевичьем кладбище, где картинно осенил гроб крестом.
Когда панихида закончилась и люди стали покидать зал, произошел примечательный эпизод, засвидетельствованный и Лакшиным, и Левицким:
«Какая-то женщина закричала в толпе: „И это все? А почему никто не сказал о том, что последняя поэма Твардовского не была напечатана? Почему не сказали о том, почему, за что сняли его из редакторов „Нового мира““?» (Лакшин) [67]67
Лакшин В. После журнала // Дружба народов. 2004. № 11. С. 154.
[Закрыть];
«…Какая-то женщина в очках негромким голосом сказала, что никто не упомянул главного. Никто не сказал о совести Твардовского, о том, что его последняя поэма была запрещена и что рот ему заткнули раньше, чем закрылись его глаза» (Левицкий) [68]68
Левицкий Л. Утешение цирюльника. С. 233.
[Закрыть].
При небольших расхождениях эти, дополняющие одна другую, записи сохранили прозвучавший после «казенных», по отзыву Давида Самойлова, речей искренний и взволнованный голос, который подал тот, к кому поэт всю жизнь обращался и чьим мнением дорожил:
Читатель!
Друг из самих лучших,
Из всех попутчиков попутчик,
Из всех своих особо свой…
(«За далью – даль»)
Много лет назад Вениамин Каверин, припомнив известное изречение: юбилей – это день заслуженных преувеличений, посетовал на то, что наша литература знала слишком много незаслуженных преуменьшений.
Увы, не избежал этого и герой нашей книги. И не только при жизни, но и за те почти сорок лет, которые прошли после его кончины.
Сначала по-прежнему годами держали под цензурным спудом и «Тёркина на том свете», и – в особенности – «По праву памяти», где, по докладу начальника Главлита, мало того что советское общество 1930–1940-х годов автор «оценивает… как искалеченное и развращенное… способное на любое предательство ради достижения „высшей цели“ и бездумного возвеличивания вождя» и говорит о «реальной опасности возрождения нового культа личности», но и «открыто выступает против какого-либо контроля в области идеологии, который он называет „опекой“ над мыслями».
Замалчивали деятельность поэта как главного редактора «Нового мира», – словно и не было этого! И если, например, выходила книга об Овечкине, там не найти было ни слова о том, кто же и где опубликовал восславляемые в ней «Районные будни».