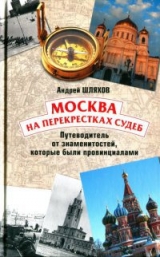
Текст книги "Москва на перекрестках судеб. Путеводитель от знаменитостей, которые были провинциалами"
Автор книги: Андрей Шляхов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Андрей Шляхов
МОСКВА НА ПЕРЕКРЕСТКАХ СУДЕБ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ОТ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВИНЦИАЛАМИ
Москва! – Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем.
Марина Цветаева. «Стихи о Москве»
Предисловие
Москва – город особый.
Хороший, прямо скажем, город и поэтому весьма и весьма привлекательный.
Так и влечет к себе людей Москва, так и манит. Люди поддаются, покидают родные места и едут в Москву.
В Москву!
В Москву!!!
Сестры Прозоровы, героини чеховских «Трех сестер», так и не добрались до Москвы. Не получилось у них, увы.
Зато получилось у многих других. У очень многих.
Поэтому исконных жителей в Москве куда меньше, чем приезжих. И, между прочим, знаменитостей среди этих самых приезжих немало. В том числе и таких знаменитых людей, чья слава в нашем представлении неотделима от Москвы.
Даже пресловутый Юрий Долгорукий, с именем которого связано первое упоминание города в летописях, был провинциалом – до переезда в Москву княжил в Суздале.
Литератор Гиляровский, написавший самую известную книгу о Москве и ее жителях, был родом из Вологодской губернии.
Архитектор Щусев, внесший немалый вклад в формирование того облика Москвы, который мы можем видеть сейчас, родился в Кишиневе.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Стихотворение, написанное одесситом Лисянским и положенное на музыку уроженца Полтавской губернии Дунаевского, стало гимном Москвы.
Эта книга о москвичах, которые родились за пределами своего любимого города. О мужчинах и женщинах.
Приезд в Москву стал важным, если не переломным моментом в судьбе каждого или каждой из них.
Поэтому-то она и называется «Москва на перекрестках судеб…».
Жаль, конечно, что обо всех интересных людях, связавших свою жизнь с Москвой, в одной книге рассказать невозможно. Но это только начало – если читателям захочется продолжения, автор непременно напишет еще одну книгу, а может быть, даже и не одну.
Все зависит от вас, дорогие и любимые читатели.
Но – автор больше не намерен злоупотреблять вашим терпением.
От предисловия пора переходить к самой книге.
К рассказам о тех, кто когда-то, давно или не очень, приехал в Москву…
И не пожалел об этом!
И нашел свое место в жизни и, разумеется, в Москве!
И прославился!
Я недолго думал о том, с кого начать эту книгу.
Владимир Гиляровский
Украдкой время с тонким мастерством
Волшебный праздник создает для глаз.
И то же время в беге круговом
Уносит все, что радовало нас.
У. Шекспир. «Сонеты» (Перевод С. Я. Маршака)
Благими намерениями ничего хорошего не добиться. Это известно всем.
Совершишь какое-нибудь хорошее дело или просто хороший поступок, и жди… нет, не награды – возмездия!
Представьте себе такую картину.
Ноябрь 1873 года. Москва. Лефортово, а если точнее – Лефортовский сад. Девятый час вечера. Уже стемнело, публики в саду мало – кое-где на главной аллее еще можно встретить редких припозднившихся гуляющих, но на боковых дорожках уже совершенно пусто. В тиши глухих аллей прогуливается юнкер расположенного поблизости Московского юнкерского училища Владимир Гиляровский. Дышит свежим осенним воздухом и постепенно приходит в себя после обильных возлияний в трактире «Амстердам», что на Немецком рынке, чтобы к девяти часам вечера явиться в училище в надлежащем виде.
Сделав несколько кругов, я пошел в училище. Почувствовав себя достаточно освежившимся, юнкер Гиляровский направляется в училище. Пора уже, времени осталось мало, того и гляди в карцер за опоздание угодишь. Но вдруг… впрочем предоставим слово самому Владимиру Алексеевичу, превосходному, надо сказать, рассказчику: «Вдруг передо мной промелькнула какая-то фигура и скрылась направо в кустах, шурша ветвями и сухими листьями. В полной темноте я не рассмотрел ничего. Потом шум шагов на минуту затих, снова раздался и замолк в глубине. Я прислушался, остановившись на дорожке, и уже двинулся из сада, как вдруг в кустах, именно там, где скрылась фигура, услыхал детский плач. Я остановился – ребенок продолжал плакать близко-близко, как показалось, в кустах около самой дорожки, рядом со мной.
– Кто здесь? – окликнул я несколько раз и, не получив ответа, шагнул в кусты. Что-то белеет на земле. Я нагнулся: прямо передо мною лежал завернутый в белое одеяльце младенец и слабо кричал. Я еще раз окликнул, но мне никто не ответил.
Подкинутый ребенок!
Та фигура, которая мелькнула передо мной, по всей вероятности, за мной следила раньше и, сообразив, что я военный, значит, человек, которому можно доверять, в глухом месте сада бросила ребенка так, чтобы я его заметил, и скрылась. Я сообразил это сразу и, будучи вполне уверен, что подкинувшая ребенка, – бесспорно, ведь это сделала женщина, – находится вблизи, я еще раз крикнул:
– Кто здесь? Чей ребенок?
Ответа не последовало».
Сердобольный юнкер пожалел младенца, осторожно взял его на руки, громко вслух оповестил мать подкидыша о том, что идет в полицейскую часть, где передаст ребенка квартальному.
Лишь тишина была ему ответом.
«И понес ребенка по глухой, заросшей дорожке, направляясь к воротам сада, – вспоминает Гиляровский. – Ни одной живой души не встретил, у ворот не оказалось сторожа, на улицах ни полицейского, ни извозчика. Один я, в солдатской шинели с юнкерскими погонами и плачущим ребенком в белом тканьевом одеяльце на руках. Направо – мост, налево – здание юнкерского училища. Как пройти в часть – не знаю. Фонари на улицах не горят – должно быть, по думскому календарю в эту непроглядную ночь числилась луна, а в лунную ночь освещение фонарями не полагается. Приветливо налево горели окна юнкерского училища и фонарь против подъезда. Я как рыцарь на распутье: пойдешь в часть с ребенком – опоздаешь к поверке – в карцер попадешь; пойдешь в училище с ребенком – нечто невозможное, неслыханное – полный скандал, хуже карцера; оставить ребенка на улице или подкинуть его в чей-нибудь дом – это уже преступление.
А ребенок тихо стонет. И зашагал я к подъезду и через три минуты в дежурной комнате стоял перед дежурным офицером…».
Все обошлось благополучно – с разрешения дежурного офицера юнкер Гиляровский отнес найденыша в полицию, откуда тот был отправлен на извозчике в воспитательный дом. Только вот на следующий день все славное Московское юнкерское училище, узнав о происшествии, хохотало, по словам Гиляровского, до упаду.
Ясное дело – юнкера. Возраст юный, кормежка сытная, сил и энергии в избытке – чего же и не похохотать? Пусть даже до упаду. Дело молодое, а развлечений мало. «Дисциплина была железная, свободы никакой, только по воскресеньям отпускали в город до девяти часов вечера. Опозданий не полагалось. Будние дни были распределены по часам, ученье до упаду…».
Хохотали юнкера так громко, что отголоски их смеха дошли аж до близких к вышним сферам, которые всегда озабочены только одним – как бы чего не вышло.
Тем более – в первопрестольной!
Тем паче – в юнкерском училище, кузнице, как сейчас принято говорить, офицерских кадров!
Начальнику училища «поставили на вид». Тот подсуетился и отреагировал – вышиб (по другому и не скажешь) юнкера Гиляровского обратно в полк, без указания причины.
В сто семьдесят третий Нежинский пехотный полк, расквартированный в Николомокринских казармах Ярославля, откуда он и попал в Московское юнкерское училище. Да не просто попал, а, по его собственному же выражению, «был удостоен чести быть направленным».
В тот самый полк, куда Владимир Гиляровский был принят вольноопределяющимся третьего сентября (по старому, разумеется, стилю) 1871 года.
Не вполне адекватное «вознаграждение» за добрый христианский поступок, согласны?
Гиляровский так обиделся, что по прибытии в полк сразу же подал начальству докладную записку об отставке. Двумя днями позже Гиляровский получил послужной список, в котором было написано, что он уволен из Московского юнкерского училища и препровожден обратно в полк «за неуспехи в науках и неудовлетворительное поведение».
Как вам формулировочка, а? Оставил бы младенца замерзать под холодным осенним небом – тогда поведение было бы примерным?
И при чем тут «неуспехи в науках»?
Кроме послужного списка бывший юнкер получил также гимназический аттестат, метрическое свидетельство и два рубля тридцать пять копеек причитающегося жалованья.
На этой печальной ноте закончилось знакомство Владимира Алексеевича Гиляровского с Москвой. Закончилось внезапно, неожиданно, не самым лучшим образом, оставив в душе будущего автора «Москвы и москвичей» неприятный осадок.
Гиляровский, будучи человеком решительным и не склонным к унынию, плюнул на военную карьеру и снова пустился бродяжничать.
Правда, он еще послужит родине на военном поприще, причем добровольно. В 1877 году Владимир Гиляровский примет участие в русско-турецкой войне в качестве пластуна – армейского разведчика.
Почти восемь лет проведет он вдали от Москвы.
Кроме участия в русско-турецкой войне, успел многое.
Послужил в пожарных.
Поработал на «вредном производстве» – белильном заводе.
Всласть побродяжничал.
Побывал в табунщиках.
Попробовал себя в качестве циркача.
И даже стал актером – еще до службы в пластунах, в 1875 году дебютировал на сцене Тамбовского театра. В роли Держиморды в пьесе «Ревизор». По словам самого Гиляровского, на сцене он имел определенный успех.
Актерская стезя и привела его в Москву во второй раз.
В 1881 году.
Возраст у Владимира Алексеевича был уже не мальчишечий – к тридцати годам близился. По всем статьям – зрелый мужчина. В самом расцвете сил. Такому Москва, по идее, должна была сдаться без боя. Сдаться и осыпать всеми мыслимыми и немыслимыми благами.
Как бы не так – держи карман шире!
«Москва молодцов видала», – говорят в народе.
Вначале Гиляровский продолжал в столице актерскую карьеру – служил искусству в театре Анны Алексеевны Бренко, первом русском частном театре в Москве. Располагался этот театр в помещении Солодовниковского пассажа, разрушенного в 1941 году при ночной бомбардировке Москвы гитлеровской авиацией. В театре Бренко Гиляровский был не только актером, но и помощником режиссера.
Хорошее начало, многообещающее. Однако долго Гиляровский в театре госпожи Бренко и вообще на сцене не удержался. То ли московская публика оказалась более взыскательна, нежели провинциальная, то ли душа к актерству все-таки не лежала…
«Осенью 1881 года, после летнего сезона Бренко, я окончательно бросил сцену и отдался литературе. Писал стихи и мелочи в журналах и заметки в „Русской газете“, пока меня не ухватил Пастухов в только что открывшийся „Московский листок“», – писал Гиляровский. Журналистикой он, кстати говоря, «баловался» еще в бытность актером – пописывал под псевдонимом «Театральная крыса» в газете «Современные известия» коротенькие заметки о московской театральной жизни.
Репортерская деятельность увлекла Гиляровского сразу же. Вот что писал он сам: «Я увлекся работой, живой и интересной, требующей сметки, смелости и неутомимости. Эта работа как раз была по мне».
Живая и интересная работа недаром требовала неутомимости – московскому репортеру Гиляровскому приходилось пробегать пешком солидные расстояния. От Сокольников до Хамовников, с одного происшествия на другое. «Трамвая тогда не было, ползала кое-где злополучная конка, которую я при экстренных случаях легко пешком перегонял, а извозчики-ваньки на дохлых клячах черепашили еще тише. Лихачи, конечно, были не по карману, и только изредка в экстреннейших случаях я позволял себе эту роскошь», – вспоминал он сам. Случались порой и проколы – потратит репортер-новичок, чтобы вовремя попасть к месту пожара, на лихача целых два рубля (весьма солидные деньги по тем временам), а за пятнадцать строк об этом происшествии получит всего-навсего семьдесят пять копеек. Рубль да двадцать пять копеек чистого убытку…
Как и всем новичкам, Владимиру Алексеевичу было трудно. Журналистский хлеб вообще несладок, а хлеб репортера, в чьи обязанности входит ведение хроники происшествий в таком большом городе, как Москва, несладок втройне. Но призвание обязывает: найдя свое место в жизни, Гиляровский уже не мог позволить себе его потерять.
Легкий на подъем, он поспевал всюду.
Общительный и, как это говорят сейчас, коммуникабельный, он легко заводил знакомства везде, где только можно. «У меня везде были знакомства, свои люди, сообщавшие мне все, что случилось: сторожа на вокзалах, писцы в полиции, обитатели трущоб. Всем, конечно, я платил».
Гиляровский был не только сторонним наблюдателем, но и активным участником многих событий.
Пожар? Гиляровский принимает самое активное участие в его тушении, тем более, что он когда-то успел побывать и пожарным. Был и такой опыт.
Полететь на воздушном шаре? Почему бы и нет?
Наведаться в зловещий трактир «Каторга», что на Хитровке? Пожалуйста!
Москва была сурова, а Гиляровский деятелен и настойчив.
Результат не заставил ждать себя очень уж долго – столица-матушка протерла свои ясные очи и взглянула вдруг на дерзкого провинциала с благосклонностью и приязнью.
Это слезам Москва не верит, а делам даже очень…
Первую свою сенсацию, сенсацию настоящую, не надуманную, не высосанную из пальца, репортер «Московского листка» Владимир Гиляровский «ухватил» в 1882 году, когда случился страшный пожар в подмосковном Орехово-Зуеве. На Морозовской мануфактуре, по нынешнему – текстильной фабрике. Погибли люди.
Несколько дней провел Гиляровский в Орехово-Зуеве. Даром времени не терял – терся среди рабочих, сидел в трактирах и даже сумел разговорить одного из полицейских, принявшего репортера за «коллегу в штатском» из ведомства полковника Муравьева, то есть из сыскного отделения. Гиляровский выудил часть сведений как агент, а затем предъявил словоохотливому полицейскому свое репортерское удостоверение и заставил болтуна продолжить «интервью», в качестве награды пообещав не называть его имя в газете. Полицейскому некуда было деваться – сказавши «а», пришлось говорить «б»…
Четвертого июня в «Московском листке» был опубликован детальный отчет о пожаре на Морозовской мануфактуре: «28 мая, в половине двенадцатого часа ночи, в спальном корпусе № 8, где находились денные рабочие с семействами, а равно семейства отсутствовавших, вспыхнул пожар и в одно мгновение охватил все здание. Люди в страшном испуге бросились к выходу, но немногие успели спастись этим путем. Остальные начали бить и ломать оконные рамы и бросаться с высоты второго этажа на землю. Ужасную картину представляло горящее здание: в окнах, из которых, прорываясь в разбитые стекла, валил дым и языками поднималось пламя, зажигая наружную часть стены, метались рабочие, тщетно стараясь выбить крепкие, наглухо заделанные рамы… …Причины пожара объяснить никто не может, но ввиду того, что громадная казарма, имеющая семнадцать окон по фасаду в каждом этаже, вспыхнула моментально, загоревшись в разных концах, предполагают поджог, тем более что, по уверению фабричных, все лестницы в корпусе были облиты керосином…»
Гиляровский весьма прозрачно намекал на то, что фабричная администрация при молчаливом согласии властей всеми силами старается «замять», замолчать трагедию, чтобы ничего не платить пострадавшим.
Вышел большой скандал, хорошо еще, что Гиляровский подписался не своим именем, а псевдонимом «Свой человек».
Хозяева фабрики, братья Морозовы, ходатайствовали перед московским градоначальником Владимиром Андреевичем Долгоруким о высылке автора «крамолы» из Москвы.
Однако обошлось. К Долгорукому был вызван редактор и владелец «Московского листка» Пастухов, человек хитрый и многоопытный. Именно он посоветовал Гиляровскому псевдоним «Свой человек». Пастухов доложил «хозяину первопрестольной» о том, что заметку ему якобы принесли какие-то неизвестные рабочие с фабрики. На том все и закончилось.
«„Московский листок“ сразу увеличил розницу и подписку. Все фабрики подписались, а мне он заплатил двести рублей за поездку, оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записал: поди узнай, кто писал!
Таков был Николай Иванович Пастухов», – писал Гиляровский в своих воспоминаниях.
Вскоре Гиляровскому представился случай прославиться открыто.
Правда, случай опять выдался печальным.
Очередная трагедия, на этот раз – железнодорожная.
Двадцать восьмого июня того же года ужинал Гиляровский в саду Эрмитаж, да не один, а в компании, где из чужих был только приятель Лентовского, управляющий Московско-Курской железной дорогой К. И. Шестаков. Ужинать сели своевременно – когда уже начало светать.
«Вдруг вбежал Михайла, любимец Лентовского, старший официант, и прямо к Шестакову.
– Вас курьер с вокзала спрашивает, Константин Иванович, несчастье на дороге.
Сразу отрезвел Шестаков.
– Что такое? Зови сюда! Нет, лучше я сам выйду.
Через минуту вернулся.
– Извините, ухожу, – схватил шапку, бледный весь.
– Что такое, Костя? – спросил Лентовский.
– Несчастье, под Орлом страшное крушение, почтовый поезд провалился под землю. Прощайте.
И пока он жал всем руки, я сорвал с вешалки шапку и пальто, по пути схватил со стула у двери какую-то бутылку запасного вина и, незамеченный, исчез».
На лихаче домчался до Курского вокзала!
«Вокзальными задворками» пробрался к специальному поезду с двумя вагонами третьего класса впереди и тремя зеркальными «министерскими» сзади!
Вскочил на подножку одного из «министерских» вагонов, дверь которого по-свойски (чужих ведь нет и не предвидится) была не заперта, и нырнул прямо в уборную!
Снял с себя пояс из сыромятной кожи и намертво привернул им ручку двери!
Так всю дорогу в уборной и просидел. Когда отмалчивался, а когда и грозно начальственно рычал и недовольно спрашивал: «Кто там?».
Поистине легок на подъем и сообразителен был репортер Гиляровский.
Двести девяносто шестая верста от Москвы… Место трагедии… Место без названия…
– Как называется ближайшая деревня? – спросил Гиляровский.
– Кукуевка, – ответили ему, и он телеграфировал в редакцию о катастрофе под деревней Кукуевка:
«Огромный глубокий овраг пересекает узкая, сажень до двадцати вышины насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов. На том и другом краю образовавшейся пропасти полувисят готовые рухнуть разбитые вагоны. На дне насыпи была узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба – причина катастрофы. Страшный ночной ливень 29 июня 1882 года, давший море воды, вырвал эту трубу, вымыл землю и образовал огромную подземную пещеру в насыпи, в глубину которой и рухнул поезд… Два колена трубы, пудов по двести каждая, виднелись на дне долины в полуверсте от насыпи – такова была сила потока…
Оторвался паровоз и первый вагон, оторвались три вагона в хвосте, и вся средина поезда, разбитого вдребезги, так как машинист, во время крушения растерявшись, дал контрпар, разбивший вагоны, рухнула вместе с людьми на дно пещеры, где их и залило наплывшей жидкой глиной и засыпало землей, перемешанной тоже с обломками вагонов и трупами погибших людей».
Четырнадцать дней провел Владимир Алексеевич на месте катастрофы. Условия, в которых ему приходилось там обитать, можете представить самостоятельно. Никаких, прямо говоря, условий.
Четырнадцать дней посылал он как с нарочным, так и по телеграфу подробные сведения о каждом шаге работ по ликвидации последствий крушения. Все это печаталось в «Московском листке», который шел буквально нарасхват.
«Все другие газеты опоздали», – вспоминал Гиляровский. «На третий день ко мне приехал с деньгами от Н. И. Пастухова наш сотрудник А. М. Дмитриев, „Барон Галкин“.
– Телеграфируй о каждой мелочи, деньгами не стесняйся, – писал мне Н. И. Пастухов, и я честно исполнил его требование».
Четырнадцать дней! С восьмого июля, когда на месте крушения устроили электрическое освещение, Гиляровский присутствовал на работах не только днем, но и ночью!
«Я пропах весь трупным запахом и более полугода потом страдал галлюцинацией обоняния и окончательно не мог есть мясо».
После кукуевской катастрофы Владимир Гиляровский и получил известность как корреспондент.
Зловещая Хитровка, шумный Эрмитаж, «благоухающий» Охотный Ряд, степенная Рогожская слобода – не было места в Москве, где не побывал бы Гиляровский.
Он писал обо всем и обо всех. Писал живо и увлекательно. Менялись времена, менялись люди, сменился даже общественный строй – на смену «отживающему свое», «прогнившему» капитализму пришел социализм, а главный, основной, герой заметок и рассказов Гиляровского оставался прежним. Героем этим была Москва.
Город, давший неугомонному Владимиру Алексеевичу возможность прославиться. В 1926 году Гиляровский «вернет Москве долг» – напишет свою главную книгу «Москва и москвичи». Небольшой, в четыре тысячи, тираж разойдется мгновенно.
Репортерская слава обычно не переживает своего хозяина, такова уж специфика профессии. Не напиши Гиляровский столь проникновенную книгу о Москве, знали бы его в наше время только немногие из историков…
«Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.
– Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, – пояснил Костя.
Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года».
Михаил Нестеров
Лук сильных преломляется,
а немощные препоясываются силою.
Первая книга Царств
Сколько ни старайся, тебе до Нестерова далеко!
Эти слова сторож московского Училища живописи, ваяния и зодчества, располагавшегося на Мясницкой улице, говорил ученикам сего достойного заведения постоянно.
Хороший, должно быть, был сторож, добросовестный. Жаль только, что имя его не дошло до нас. Одна лишь фраза: «Сколько ни старайся, тебе до Нестерова далеко!»
– Какой ужас! Как непедагогично! – воскликнут современные педагоги. – Разве можно внушать ученикам пораженческие мысли?! Разве можно заведомо ограничивать их в развитии, да еще столь категоричным образом?! Да этот сторож, небось, и в живописи не разбирался толком, а ученикам на старте подрезал крылья! Бедные, бедные ученики! Вот она – изнанка самодержавной власти! Позор!
Поспешу успокоить всех, кто может взволноваться, и вообще – внесу ясность.
Нет, сторож в живописи не разбирался. В ваянии и зодчестве тоже.
Не его это дело – картины рассматривать и мнение выражать. Другие у сторожа задачи, и главная из них – чтобы порядок был! Основа основ любого учебного заведения. Да и не учебного тоже.
А за порядком сторож следил ревностно. Держался за место или еще по каким-то соображениям – этого нам уже не узнать. И всем шалунам говорил строго:
– Сколько ни старайся, тебе до Нестерова далеко!
Не о талантах живописных речь шла, а о способностях совсем иного толка.
Проказничать Михаил Васильевич Нестеров и впрямь был мастер. С самого детства. Шалун, баловник, озорник и вдобавок любитель рисовать. Причем рисовать на особицу – не так, как видится, а так, как мечтается. Реалист Нестеров всегда был противником натурализма.
– Для этого существует фотография, – мягко отвечал он своим критикам.
А чаще всего – вообще не отвечал, отмалчивался и продолжал рисовать так, как считал нужным.
Михаил Васильевич Нестеров родился в Уфе, девятнадцатого мая (по старому стилю) 1862 года.
А вот знаменитый художник Нестеров, автор «Святой Руси», «Свирели», «Девушки у пруда», родился в Москве.
На Мясницкой улице.
В том самом, уже известном нам Училище живописи, ваяния и зодчества.
Отец Михаила Нестерова, Василий Иванович Нестеров, был для своего времени человеком передовых взглядов. Можно даже сказать – оригиналом.
Имел Василий Иванович в Уфе большую торговлю мануфактурными и галантерейными товарами, но торговать особенно не любил и даже сына Мишу не понуждал продолжить фамильное дело. Более того – убедившись, что его сын и единственный наследник не имеет никакого интереса к коммерции, Василий Иванович и вовсе прикрыл свое торговое дело, отдавшись общественной деятельности – работе в качестве товарища директора в Уфимском общественном банке, одним из основателей которого он был сам.
Мечта у Василия Ивановича была другая – он видел своего сына инженером, а еще точнее – инженером-механиком. Поэтому и отправился Миша Нестеров после недолгого и бесславного пребывания в уфимской гимназии в Москву, где три года проучился в реальном училище К. П. Воскресенского.
Однако отцовской мечте не суждено было сбыться. Будущий инженер Нестеров был не в ладах с математикой, враждовал с иностранными языками, но зато очень дружил с рисованием. Весьма и весьма. Настолько, что директор училища Константин Павлович Воскресенский убедил Василия Ивановича Нестерова в том, что его единственному сыну лучше учиться живописи, а не инженерному делу.
А может быть, директору просто надоел неугомонный проказник, носивший громкую (и заслуженную) кличку «Пугачев», и он попросту решил «сплавить» его из училища? Так вот, деликатно и ненавязчиво. Кто его знает?
Но это и не важно.
Важно то, что в 1877 году Михаил Нестеров был принят в Училище живописи, ваяния и зодчества, или, как его еще называли – Московскую школу живописи. Так вот и родился тот самый известный нам художник Нестеров.
Душою этой школы был Василий Григорьевич Перов.
«Ему была одинаково доступна „высокая комедия“, как и проявления драматические. Его художественный кругозор был широк и разнообразен, – писал о Перове Нестеров. – Его большое сердце болело за всех и за вся. И мы знали, что можно и чего нельзя получить от нашего славного учителя. А он такой щедрой рукой расточал перед нами свой огромный опыт наблюдателя жизни. Все, кто знал Перова, не могли относиться к нему безразлично. Его надо было любить или не любить со всею пылкостью молодости, и мы, за редкими исключениями, его любили».
Жили будущие художники свободно и привольно.
Вволю проказничали, и Нестеров, как и следовало ожидать, был среди них заводилой.
Учебой Нестеров со товарищи себя не изнуряли – больше сил (да и времени) тратили они в иных местах.
Нет, не в галерее Павла Михайловича Третьякова в Лаврушинском переулке, хотя захаживали они туда довольно-таки часто.
Как и положено людям, ведущим богемный образ жизни (а художники, если кто не знал, – это самая главная, самая-самая богема и есть), просиживали они в трактирах и прочих заведениях подобного рода.
Москва – город веселый. Есть где погулять. Да и дирекция школы живописи – это вам не начальство Первого Московского кадетского корпуса тех времен.
Если кому-то из москвичей того времени требовался художник – портрет написать, вывеску обновить, фотографии ретушировать, детей рисованию обучать – то проще всего было найти его… в трактире, этой своеобразной бирже московских живописцев.
Начальство либеральное.
Родители далеко.
Молодечество в крови так и бурлит.
Да еще и деньги свободные, от халтур всяческих, в кармане шуршат-звенят!
В такой ситуации до беды один шаг.
Нестеров почувствовал, что богемное пьяное болото начало засасывать его, и принял решение уехать в Петербург, в тамошнюю Академию художеств.
Любимый учитель, Перов, настойчиво отговаривал Нестерова от подобного шага, утверждая, что пресловутая Академия не даст ему ничего полезного (и оказался совершенно прав!).
Нестеров, обуянный «охотой к перемене мест», стоял на своем и в конце концов настоял. Или – выстоял? Короче говоря – временно переселился в Петербург.
Была еще одна причина, толкнувшая Михаила Нестерова на подобный шаг. Тогда он ее не афишировал, но впоследствии, уже в зрелые годы, признался: «Время шло, а я все еще не мог сказать себе, что скоро будет конец моему учению. Хотя и видел, что меня считают способным, но меня „выдерживали“ и медалей не давали».
А ведь человек устроен так, что медалей ему хочется.
Душу согреть и родителям похвалиться. Да и не просто похвалиться, а доказать – верной дорогой идет ваш сын, правильной! К грядущим, как говорится, свершениям.
Проводы Нестерова в северную столицу выдались долгими, бурными и запоминающимися. Как участникам, товарищам по живописному цеху, так и московским трактирщикам. Было пролито много вина и… много слез.
Шебутного весельчака Мишу Нестерова в училище любили.
Еще одна порция напутствий, еще одна толика пожеланий, и поезд наконец-то начал удаляться от перрона Николаевского вокзала. Прощай, Москва!
– До скорого свидания! – ответила Москва, и не ошиблась.
Академия художеств не понравилась нашему герою сразу же.
Чопорная, холодная, бездушная и вся какая-то унылая, она сделала все для того, чтобы разочаровать Нестерова.
Прав оказался Перов, ой как прав!
Имен громких много, но что с того?
– Скучно мне! – вздыхал Нестеров, однако возвращаться обратно не спешил.
Не хотел выглядеть этаким суетливым вертопрахом, героем анекдотов.
И еще – в Санкт-Петербурге был Эрмитаж!
Настоящую Академию художеств Нестеров нашел в Эрмитаже. Именно там, в Эрмитаже, часами стоял он перед полотнами великих мастеров. Учился и восхищался, восхищался и учился…
«Жизнь в Эрмитаже мне нравилась все больше и больше, а академия все меньше и меньше. Эрмитаж, его дух, стиль и проч. возвышали мое сознание. Присутствие великих художников мало-помалу очищало от той „скверны“, которая так беспощадно засасывала меня в Москве», – напишет он многими годами позже.
Эрмитаж навсегда остался для Нестерова самой главной Академией художеств, Академией в которой он проучился всю жизнь.
Рубенс, Рембрандт, ван Дейк, Тициан, Беллини, Рафаэль… Бессмертные полотна манили художника к себе и пытались пленить его душу. Но она уже была покорена Москвой.
Этим теплым, живым и немного бесшабашным городом.
Городом, в котором мальчик, любящий рисовать, превратился в художника. Пусть пока еще и без медалей.
Весною 1882 года Нестеров побывал в Москве, но повод для побывки выдался печальным – Перов был при смерти.
«Горе мое было великое, – вспоминал Нестеров. – Я любил Перова какой-то особенной юношеской любовью».
После похорон учителя Нестеров вернулся в Петербург. В постылую, если не сказать сильнее, Академию художеств, чуть ли не единственной пользой от которой он считал знакомство со своим тезкой Михаилом Врубелем.
Вдобавок в Петербурге Нестеров перенес тиф. Долгая, изнурительная болезнь, да еще и с рецидивом, не прибавила любви к северной столице…
В конце весны 1883 года Михаил Нестеров оставил Академию художеств, лето провел в родной Уфе, а с осени вновь приступил к занятиям в московском Училище живописи.
Кстати, в Уфе в это лето Нестеров познакомился со своей будущей женой, Марией Ивановной Мартыновской, которая гостила в Уфе у брата Николая, преподавателя Землемерного училища. Москва – она и в Уфе достанет.








