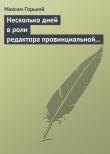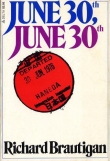Текст книги "Дороги веков"
Автор книги: Андрей Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
45
Казалось бы – что мне? – а последние дни не могу отделаться от какой-то тайной тревоги после разговора с Даниловым и Королёвым. Как будто что-то должен сделать… но что и как? Озеро меня волнует, озеро! Его судьба. Впрочем, судьба озера – судьба края: маленького древнего города, чей чистый и тихий облик сложился за восемь столетий, этих лесов, полей, болот, лесных речек… А центр всего, сердце этих мест, которое управляет и климатом, и уровнем почвенных вод, мощью леса, цветением и увяданием трав, птичьими голосами, словом, жизнью всей, – оно, Плещеево озеро.
И чем больше я думаю о его дальнейшей судьбе, чем больше вспоминаю всё, что собрано его исследователями, что сам я о нём знаю, тем тревожнее на душе.
Насколько удалось выяснить, план реконструкции Переславля действительно существует. Ведь, кажется, что проще: хочешь создать новый большой промышленный центр – так и создавай на пустом месте, удобном для подъездных путей, сырья, железнодорожных магистралей, или в ещё только осваиваемом краю, куда отовсюду потянутся новые молодые жители, у которых их собственная судьба окажется тесно связанной с судьбой нового города. Так нет же, всё наоборот! Почему-то для таких «реконструкций» выбирается всегда город древний, который надо не то что перепланировать – снести с лица земли и заново построить!
А при этом, естественно, и расходы в десятки раз больше, и вред для окружающей природы, и неудобство для жителей – старых и новых одинаково – не подсчитать…
Всё это грозит Переславлю, который собираются увеличить в шесть с половиной раз. Зачем?! Неужели нельзя нигде в другом месте построить комбинат киноплёнки? Достаточно того, что первый же выброс сточных вод с маленькой фабрики, построенной здесь в середине тридцатых годов, уничтожил всех раков не только в Плещеевом озере, Вёксе, озере Сомино, но и по всей Нерли Волжской. Очистные сооружения? Ну допустим, что они будут, даже очень хорошие. Предположим даже, что, как запланировано, все сточные воды после очистки пойдут не в озеро, а в обход него, куда-то за Сомино, в Нерль. Ладно. Пусть гибнет Нерль, часть Верхней Волги у Скнятина, где давно уже царствуют сине-зелёные водоросли. Главное-то не в этом. Главное – в той воде, которая необходима для нового города и его новой промышленности, воде, которую рассчитывают качать и прямо из озера, и из скважин, опущенных к тем водоносным пластам, что питают само озеро.
Сердце края. А что произойдёт с сердцем, если перерезать сосуды, подводящие к нему кровь?
Чем больше я наблюдаю озеро, чем больше я о нём знаю, тем увереннее говорю: нет, Плещеево озеро – не чаша, налитая водой. Её нельзя пополнить или убавить, вычерпать до дна и снова налить, как те рыборазводные садки, куда по весне запускают молодь, чтобы к осени спустить воду и снять урожай рыбы.
Озеро – это живое существо, сложный организм, или, говоря современным языком, «система» со своим кровообращением, своими уникальными обитателями, энергетическим балансом. И всё это складывалось, создавалось не за годы, не за столетия, а за десятки тысячелетий, проверялось, притиралось, видоизменялось, чтобы наконец отлиться в эту столь совершенную форму, пленяющую наш глаз и воображение.
Всё ли мы знаем о нём?
О Плещеевом озере – его растительности, рыбах, планктоне, микро– и макрофауне, химическом составе, температурном режиме написано вроде бы много. Листая зимой в библиотеке эти труды, прикидывая и сравнивая с собственными наблюдениями, я видел, что и это «множество» не так уж велико. Известен ли нам секрет его чистоты? Нет. Как и почему в этом уникальном водоёме – нашем европейском Байкале – со времён последнего ледникового периода сохранился уникальный вид сига, переславская ряпушка? Что такое его воронка: карстовый провал? Или, может быть, это чудо природы было создано ударом гигантского метеорита миллионы лет назад? А может быть, это остаток широкого и глубокого каньона, который проточили в осадочных породах ледниковые потоки предшествующих оледенений? Всё это лишь догадки, более или менее вероятные.
А вот доказательство того, что это действительно живой организм, в котором ничего «ни убавить, ни прибавить» нельзя, – такое доказательство существует.
Одна из удивительных особенностей Плещеева озера – обилие родников, поднимающих из его глубин к поверхности мощные восходящие струи ледяной воды. Зимой, когда снег и лёд покрывают озеро толстой бронёй, струи протачивают эту броню снизу, как будто бы на дне озера установлены мощные гидромониторы. Приток извне в озеро невелик – весенние паводки и дожди поднимают его уровень всего лишь на несколько десятков сантиметров, в обычное же время лета мелководные закраины и обширность зеркала водоёма, по логике вещей, должны были бы привести к его испарению и загниванию: несколько ручьёв и три маленькие речки, к числу которых можно причислить и Трубеж, в водном балансе озера особой роли не играют. Всё оно держится на глубинных подводных фонтанах, которые создают в озере сложную систему внутренних, роднящих его с живым организмом течений, охлаждают его в самые жаркие месяцы, освежают, препятствуя развитию гнилостных бактерий, и сохраняют возле дна, где держится ряпушка, температуру, близкую к нулю, – температуру древнего приледникового водоёма, в котором эта ряпушка когда-то прижилась.
Там, глубоко в земле, созданный за миллионы лет природой, работает безотказный гигантский рефрижератор, регулирующий и поддерживающий эту уникальную гидросистему. Выключи его, переведя его фреоновые потоки на городской водопровод, – и придёт конец озеру…
Об этом и говорил Королёв, нападая на нашего главного инженера, который был ни в чём не виноват. Впрочем, на Вёксу-то он и сейчас покушается. Хочет ещё выше плотину поднять, чтобы было своё, «Купанское море». Ему что, он приезжий, городской, не понимающий, что ничего нет проще, как безвозвратно погубить водоём. Стоит его только запрудить, остановив бегущую живую воду, как она начнёт застаиваться, загнивать; из края в край, а потом и вглубь её захватят вездесущие сине-зелёные водоросли, возникшие ещё в докембрии, от засилья которых природа мучительно очищалась два с половиной миллиарда лет, – и придёт конец водоёму, ибо что делать с этими водорослями, никто сейчас не знает…
Неужели такая судьба когда-нибудь может постичь и Плещеево озеро? Страшно подумать. Реальная опасность уже нависла, и надо что-то делать для его спасения. Впрочем, тут ведь вопрос не частный: создавать на месте маленького древнего города новый, современный – не то ли самое, что на старое дерево посадить молодой привой? Опытные садовники знают, что старые корни держат только свой ствол; новым побегам нужны новые корни и новая почва…
46
Мы прорвались сквозь четыре тысячелетия, слагавших этот чёрный и маркий культурный слой, где перемешаны народы, эпохи, культуры, и очутились на белом песке древней озёрной отмели. Вот тут-то и начал я хоть что-то понимать. Если не в людях, то хотя бы в собственном раскопе.
Нет, не случайно оказалась здесь и костная труха, и волосовская керамика.
На фоне белого озёрного песка теперь хорошо виден огромный коричнево-серый овал, заполненный черепками, кремнем, костями рыб и животных. То там, то здесь из этой толщи появляется типичный для волосовцев широкий, с прямым краем скребок, обломок какогонибудь костяного орудия, мягкие, размокшие от сырости, но такие характерные для них пористые черепки. Жилище. Точнее, вытоптанное в полу углубление от жилища, очерчивающее его прежнее жилое пространство. Маловато осталось? Что поделать – спасибо и на этом! И сохранилось всё только потому, что после волосовцев на этом месте долго жили берендеевцы, засыпав впадину своими черепками и отбросами, плотно утрамбовав всё своими пятками.
Такая «начинка» сохранила низ впадины от размыва, когда уровень Вёксы поднимался и культурный слой, лежащий сверху, оказывался полностью смытым вот до этого основания. В этом и заключена разгадка «костеносности» волосовских слоёв. Владельцы балтийского янтаря, изготовлявшие такие характерные сосуды, прекрасные кремнёвые ножи и фигурки, появились в наших местах, когда уровень рек и озёр стоял чрезвычайно низко – ниже, чем когда бы то ни было после. Вот почему довольно скоро места их поселений стали подтапливаться водой, были перекрыты новыми отложениями песка и ила, надёжно законсервировав в своей толще от быстрого разрушения кости рыб, животных и изделия из них.
Сейчас мы методично разбираем рыхлый рыжеватый слой, выстилающий дно жилой впадины, пытаясь извлечь из него максимум информации.
Слава опять идёт ко мне – значит, что-то нашёл.
– Ничего особенного, снова волосовская керамика, – говорит он в ответ на мой вопрошающий взгляд. – А вот это, посмотри, мне кажется, костяная подвеска. Только странная она какая-то. И не из зуба, а просто из куска кости…
Да, на кость похожа, и лёгкая она, только, сдаётся мне, материал этот поплотнее кости будет… И не камень: маленький чёрный кусочек с округлыми краями, как бы несколько обгоревший. Заметив у одного края углубление, я попытался травинкой выковырнуть набившиеся туда песчинки, но ямка оказалась сквозным отверстием, просверлённым с двух сторон.
Игорь, который и нашёл эту подвеску, заглядывал через плечо Славы.
– А на плане вы отметили, Игорь?
Он кивнул и показал план: подвеску нашли внутри жилища, возле одной из не существующих уже его стенок.
Странная всё же эта кость… Смочив палец, я притронулся к ней, но, убедившись, что на воду подвеска не реагирует, опустил её в реку. От пальцев по воде поплыла струйка коричневой мути, и…
Ах, как был хорош этот золотисто-красный кусочек ископаемой смолы, когда он лежал на моей ладони и в паутине его трещинок, в свежем изломе маленького скола билось и горело – не наше – жаркое солнце третичного периода! Время изъело поверхность, она стала матовой, тусклой, но стоило её опять намочить, как на минуту к янтарю возвращалась его молодость и он снова сверкал и горел, как в то время, когда впервые был извлечён из синеватой плотной глины Куршской косы…
– Янтарь? – чуть дрогнувшим голосом спросил Слава. – Вот недаром, значит, ты говорил, что с волосовцами всегда янтарь бывает… А ты чего глядишь? – накинулся он на подошедшего Михаила. – Игорь вон нашёл янтарь, а ты почему не находишь?
– Вот посмотрю и тоже найду, – парировал тот. – Мне проще найти, я копаю, не то что некоторые…
Выписана этикетка с указанием места находки, найден пустой спичечный коробок, а я всё перекатываю на ладони эту янтарную подвеску, украшавшую ожерелье неведомой мне женщины, и понимаю, что никакая фантазия, никакая логика не позволят мне узнать, при каких обстоятельствах, в какой трудный час была потеряна эта драгоценность – всего лишь для того, чтобы через четыре с половиной тысячи лет определить возраст таких вот черепков… И только-то?
47
Ди-ка-ри-ха… Мягко, с придыханием я произношу это слово, перекатывая его во рту, словно спелую ягоду земляники, наслаждаясь запахом её и предвкушая острую сладость сока, который разольётся пронзительной свежестью с чуть уловимой кислотой, когда языком прижмёшь к небу шероховатый упругий плод.
Третий год я повторяю это имя.[15]15
Раскопки Дикарихи начаты в 1959 году. (Никитин, А. Л. Дикариха (По материалам раскопок 1959–1960 гг.) / А. Л. Никитин // Материалы и исследования по археологии СССР. – М., Л.: Издательство АН СССР, 1963. – Т. 110. – С. 203–226.) – Ред.
[Закрыть] Третий год, как на свидание с любимой, я вырываю из переславского лета две недели, забыв на это время о коричневых подушках торфяных болот, покинув Вёксу с её бесчисленными комарами, стоянками, черепками, вырвавшись из плена смолистых сосновых боров, променяв всё это на крутые высокие склоны над озером, поросшие дубняком и орешником, на далёкие горизонты в предвечерней дымке, куда каждый вечер скатывается шарик солнца, сплющиваясь и растекаясь, словно капля расплавленной меди из маленького фатьяновского тигелька…
Обычно это случается в августе, когда из окрестных садов тянет острым, кисловатым ароматом наливающихся соком яблок и будят меня по утрам не гудки мотовозов, а разноголосая перекличка деревенских петухов и самые первые лучи солнца, ещё не добравшиеся до тенистой низины Вёксы.
Здесь всё иначе, всё по-другому. Вместо большой, многолюдной экспедиции – всего лишь десяток ребят, славных деревенских мальчишек и девчонок, которым не надо объяснять, как держать лопату, которым всё интересно, и дело, которое ты делаешь, оказывается и их делом тоже, потому что это самая что ни на есть «их» земля, на которой и Криушкино стоит без малого десять, а то и больше веков. Куда до Криушкина Москве! Так оно и есть. Стоит только полазать по откосам, продираясь сквозь чащу кустарника, чтобы под деревней на склонах увидеть разрытые курганы, а чуть выше, на месте современных огородов – чёрное пятно самого раннего поселения, первоначальной деревни, от которой пошла и эта, Криушкино, – пошла как побег от корня.
Плотно садится человек на землю!
И всё здесь основательно и добротно, начиная от земли, пласты которой из года в год, из столетия в столетие удобряли, засевали, вскапывали и боронили, придавая ей густо-чёрный благородный цвет плодородия, и кончая густым яблочным настоем осени, каждый год отмечающим радостный конец страды земледельца; добротно, как эта широкая деревянная кровать, на которой можно разметаться хоть поперёк, – «княжеская» кровать, на которую клали новобрачных в той же клети, где я лежу сейчас, скинув алое стёганое одеяло и чувствуя, как сквозь кожу входит в тело свежесть и бодрость раннего солнечного утра…
За маленьким, полузабитым досками окошком сверкает глянцевая листва раскидистой вётлы, шелестящей возле дома. У завалинки что-то кудахчут куры, слышится наставительное «ко-ко-ко» петуха. Всё, как было год и два назад, как будет ещё не раз в этом году, а может быть, и на следующий год.
Вот только нет ещё яблок, прячущих свои зелёные завязи в листве садов, тех яблок, от запаха которых я выходил немного одуревшим каждое утро.
Под окном большой деревянный ларь, кадки. Притулился в углу оставшийся от прошлого сезона рулон упаковочной бумаги – не надо в этом году сюда брать! – рейка для теодолита, полосатые разноцветные метровые рейки. Тут же в ящике лигнин, пёстрые коллекционные мешочки, связки колышков, что из года в год забиваем на новых раскопах. Под потолком на железном крюке висит старый фонарь, в другом углу – полушубки и телогреи. Под ними стопкой сложены чистые – выколоченные и выстиранные – мешки для яблок и для картофеля… Вот ведь совсем из головы вон, что приехали мы сюда не для отдыха, а за картофелем – кончилась в Купанском картошка!
Впрочем, об этом пусть заботится Слава, к которому от Саши перешли обязанности нашего экспедиционного завхоза: Криушкино его родная деревня, здесь у него в каждом втором доме родственники или свойственники, всех он знает здесь, пусть и добывает.
За приоткрытой дверью скрипят половицы.
Сторожко, боясь разбуди меня, ставит самовар Евдокия Филипповна, маленькая, ссохшаяся старушка, как-то полузабытая сыном, уехавшим в Переславль. Поэтому нас, приезжающих на раскопки, она встречает как собственных детей, не зная порой, как обогреть и обиходить. И, с благодарностью принимая хлопоты её, всякий раз я думаю со щемящей болью, что порою совсем немного нужно для старого, завершающего жизнь человека: даже не забота и внимание, а лишь разрешение проявить заботу, разрешение принять участие в чужой жизни, внося в неё свою посильную лепту как утверждение смысла своего, ещё длящегося существования.
Вот и теперь она суетится спозаранку, боясь разбудить ненароком и в то же время стараясь, чтобы всё было готово, лишь только я открою глаза… Но сегодня – воскресенье. Сегодня можно и не торопиться вставать, благо день «неприсутственный».
Я снова утыкаюсь в подушку и чувствую себя словно плывущим по озеру. Веет ветер; от висящих в углах сухих связок трав тянет запахом полыни и ромашки; с плеч моих сваливаются все заботы, и я снова такой же, каким бродил здесь много лет назад с рюкзаком и ружьём, ещё ничего не зная ни о неолите, ни о фатьяновцах, разбивая на берегу палатку и выкидывая на шесте – ох уж эта романтика! – чёрный «роджер», пробитый достаточным количеством утиной дроби…
Но как же начиналась Дикариха?
Может быть, с первой разведки? Или раньше, ещё в первый приезд на охоту? Кольнуло ли в сердце тогда предчувствие, дрогнуло ли что-нибудь во мне, когда с набитым рюкзаком, с ружьём за плечами я проходил внизу по берегу? Что-то было, но что? Теперь не вспомнить, как это всё начиналось, исподволь, намёком, как начинается где-то на равнинах путь среди однообразных полей, приводящий к холоду горных вершин.
Это было буйной и радостной весной 1959 года, когда разом начали сходить снега, обнажая дымящуюся в истоме пара волглую землю, когда на озере лопался громами лёд и половодье затопило низкие берега Вёксы, так что на лодке можно было идти напрямик, расталкивая льдины, борясь с водоворотами и вылезая по колено в воду на зелёные топкие луговины…
Дикариха началась для меня внезапно той буйной и радостной весной, когда разом начали сходить снега, обнажая дымящуюся в истоме пара волглую землю, когда на озере с пушечным громом лопался лёд, а половодье затопило низкие берега Вёксы так, что на лодке можно было идти напрямик, расталкивая льдины, борясь с водоворотами и только изредка влезая по колено в воду на зелёные топкие луговины, чтобы одолеть неожиданно подвернувшийся бугор или корягу.
Мы жили тогда в Усолье втроём – моя приятельница, её друг и спутник, числившийся тогда лесником и поэтом, молодые, влюблённые друг в друга, в весенний лес, в плотву, что золотистой стопкой подавала нам на завтрак из печи хозяйка, – плотву, которую мы ловили утром и вечером, а днём бродили по тёплому солнечному лесу, взбирались на дюны у Куротни и смотрели, как, пробираясь через навороченные у берега ледяные торосы, входят по пояс в воду рыбаки с длинными тонкими удочками.
В один из таких дней мы отправились на озеро. Оно было вспухшим и солнечным. Справа в тростниках гомонили рыбаки, которых никак не могли разогнать патрули рыбнадзора, а здесь вода подступила под самые кусты, и в переплёте их корней в любовном азарте билась и плескалась ошалевшая от весны и солнца плотва. В прозрачной холодной воде над песчаным дном метались чёрные стрелы спинок, а в озере, далеко, что-то ухало и лопалось, словно из его глубин поднимались огромные пузыри газа.
Жизнь наполняла нас всклень, как это озеро, выступившее из обычных своих берегов. Каждое ощущение, каждый звук, каждая мысль или слово, произнесённые тогда, отпечатывались в памяти глубоко и резко, как будто этому дню было суждено стать переломным в наших судьбах, открыв перед каждым нечто такое, что повернёт его жизнь и будет направлять её все последующие годы.
От Кухмаря в нашу сторону по воде брёл человек. Я заприметил его ещё далеко, когда он казался лишь чёрной точкой, медленно перемещавшейся по вспухшей воде и временами исчезающей в кустах, если встречалось преглубокое место. Наконец он приблизился к нам настолько, что стало видно – это ещё один рыбак из местных, стремящийся, как и все, в тростники за Вёксой. И тогда, не сговариваясь – лишь только он поравнялся с нами, – мы пригласили его к нашему костерку. Будто специально предназначенная для него, в лодке нашлась свободная кружка, и пускай рубиновая жидкость далеко не доставала до её половины – дело было не в вине, он это понял без объяснений, – всё это разворачивалось каким-то символическим, нам самим до конца непонятным действом всеобщей взаимосвязанности. И хмельны тогда мы были не от сухого грузинского вина (ну что, в самом деле, одна бутылка для четверых здоровых и молодых людей?), а от воды, воздуха, от солнца, от нашей молодости, когда всё, казалось нам, ещё только начинается…
Уже прощаясь, рыбак пригласил нас к себе в Криушкино, видневшееся на высоком восточном берегу озера.
– Вы Вальку Рыжего спросите, – говорил он, широко улыбаясь, – меня, значит, так меня кличут! И лодка у меня есть, всегда на озеро сходим…
Я ответил, что в Криушкино, конечно, приеду, только мне нечего там делать, нечего копать.
– И всё равно приезжайте! – тряхнул головой на прощание Валька Рыжий. – Ваше дело такое, может, что и найдёте…
Он ушёл дальше по берегу, к тростникам, где ждали его другие рыбаки.
Майские праздники кончались, но, собираясь в Москву, мы решили идти в Переславль пешком, вокруг озера, – мимо Кухмаря, мимо Александровой горы с Ярилиной плешью, где славяне славили своего весеннего солнечного бога, жгли костры на Ивана Купалу и водили хороводы.
Тогда-то, проходя под Криушкином и по привычке смотря на стенки свежих канав вдоль дороги, я увидел черепок. Сапёрная лопатка в ту пору всегда была у меня в рюкзаке, а этого черепка я ждал давно. Три или четыре года подряд я проходил по бугру перед большим оврагом и шестым чувством ощущал, что здесь должно что-то быть. Но каждый раз ничего не находил. А тут была свежезачищенная канава, и в её стенке, словно специально для меня, была обнажена половина сосуда с непонятным орнаментом.
Другая половина, разбитая на куски, лежала на дне кювета.
Большой овраг, выходивший на этот бугор, назывался Дикарихой.
Я приехал сюда на раскопки через два месяца. Здесь не было видно чёткого культурного слоя, и было непонятно, как оказался тут целый сосуд, да ещё всего-навсего в пятидесяти сантиметрах от поверхности земли? Три лаборанта – Илья Морозов, Римма, Света Фингерт – и восемь криушкинских ребят составили мой отряд. Мы заложили траншею через весь бугор от дороги к озеру и начали раскопки.
Приехал я сюда тем же летом, через два месяца после находки. Здесь не было видно чётко обозначенного культурного слоя, и совсем было непонятно, каким образом тут оказался целый сосуд, да ещё так близко от поверхности?
Три лаборанта, приехавшие со мной, да восемь криушкинских ребят составили нашу экспедицию. Мы заложили траншею через весь бугор, от дороги к озеру, и начали раскопки. Каждое утро мы спускались по крутому склону, скользя по ещё влажной траве, а назад поднимались тяжело дыша, останавливаясь, чтобы перевести дух, потому что лето было самое жаркое из всех, которые я помню в этих местах, и озеро отступило от берегов, обнажив илистые закраины, по которым бродили пёстрые колхозные коровы.
Случилось это на второй… нет, всё же на третий день раскопок: мы успели не только снять дёрн, но углубились ещё на сорок сантиметров ниже.
В сухой пыльной супеси нельзя было увидеть никаких пятен. Изредка под лопатой взвякивал кремнёвый отщеп, иногда лопата выбрасывала черепок с ложнотекстильным узором. Два или три скребка – вот и весь наш улов за те два с половиной дня, что мы здесь работали. Нечего говорить, особенного энтузиазма это не вызывало ни у нас, археологов, ни у криушкинских ребят. А тут ещё и летний зной! После опыта первого дня работы мы решили изменить распорядок дня и делать большой обеденный перерыв на четыре часа, во время которых можно было не только спокойно отобедать, но и переждать в тени дома полуденную жару.
Но пообедать не удалось.
Едва мы успели сесть за стол, как в окно постучали. Я выглянул. Возле крыльца стояла целая делегация, мал мала меньше, а во главе её – здоровый парень, как потом оказалось, брат того самого Вальки Рыжего, с которым я познакомился весной. По виду его чувствовалось, что он очень собой доволен.
Я вышел на крыльцо.
– Вы там не всё ещё докопали, – с довольной улыбкой сообщил мне парень под восторженными взглядами ребятни. – Мы там покопали сейчас… и вот что нашли…
С этими словами он протянул мне маленький горшочек – целый, без единой трещинки, по наружному краю которого шла змейка зубчатого зигзага. Остатки земли внутри и снаружи, его общий вид, схожий с первым, найденным в майские дни сосудом, – всё это не оставляло сомнения в его происхождении.
Накричать на таких «помощничков», отвести душу. Ну а толк из этого какой? Они-то из лучших побуждений, и в мыслях не держали напортить, сами и принесли… Э-эх!
– Лучше бы вы этого не делали, – наконец проговорил я, стараясь унять дрожь в руках, которыми крепко держал горшочек. – Ведь мы там ещё не кончили работу. А вы нам теперь очень многое испортили!
Парень был обескуражен. Улыбка неловко сползала с его лица.
– Извините, когда так… Конечно… Не знал я, как говорится. А то мы помочь хотели, чтобы как лучше, значит…
– Помочь? Да. Хм! Помочь… Очень хорошо, помочь! Хотели! Только в следующий раз вы сначала спросите, как это лучше сделать, ладно? – сказал я как можно мягче. – Хоть место-то вы помните, где его нашли?
– А как же! – Парень явно обрадовался перемене разговора. – Там и ямка осталась, всё как есть… Пойдёмте, сейчас покажу! Да вы же обедали, наверное?..
Обед? Какой уж там обед!
Сказав своим, что жду их на раскопе, что перерыв отменяется, я скатился вниз по зелёному склону оврага вслед за малышнёй. Второй сосуд. Значит, могут быть и ещё? Но почему они здесь?
Место, где стоял второй горшочек, ничем не отличалось от окружающего его грунта, как я ни вглядывался. Но в тот же день мы нашли ещё два сосуда, а на следующий день, когда к уже бывшей траншее был прирезан новый раскоп, – ещё три.
Все они были примерно на одной глубине и все различались. Одни сохранились целыми, другие были раздавлены тяжестью земли, но их можно было целиком собрать и склеить. Были среди них горшочки с плоским дном, чаши вроде пиал, горшки с яйцевидным низом, крутыми боками и вполне современной горловиной с перехватом. Одни были украшены очень скромно – всего поясок под венчиком из трёх ямок, или, наоборот, выпуклин-жемчужин; другие несли на себе сложный узор из перемежающихся оттисков зубчатого штампа с зигзагами и свисающей книзу бахромой.
Ничего подобного до этого видеть мне не приходилось, но главное всё же заключалось не в узорах, которыми были украшены сосуды, а в их целости. После россыпей неолитических черепков, из которых в редком случае удавалось собрать часть сосуда, так странно было расчищать, фотографировать, а потом вынимать из земли, осторожно заворачивая в лигнин, целые сосуды!
Находить их было не только интересно – находить их было приятно…
И лишь на пятый день, когда у нас прибавился и опыт и сноровка, а главное, глаза привыкли к грунту и почва стала чуть более влажной, я увидел светло-серые пятна, в которых стояли эти сосуды. Пятна могильных ям
На этом месте был могильник. Могильник без погребённых.
Если бы я видел только культурный слой, то сказал бы, что копаю плохонькое поселение культуры ложнотекстильной керамики, потому что черепки были почти все ложнотекстильные, от больших яйцевидных сосудов с отогнутым венчиком, под которым шёл ряд ямок или выпуклин-жемчужин.
Но в этом же культурном слое были обломки… фатьяновских сосудов! Причем фатьяновцев не ярославских, а большей частью восточных, балановских.
Так, может быть, это фатьяновское поселение, перекрытое слоем ложнотекстильной керамики? Но причём здесь тогда могильник?
В могильнике была загвоздка. В могилах стояли разные сосуды!
Загадкой был уже самый первый. Он был похож на высокую чашу или пиалу с круглым дном, вертикальными стенками и чуть профилированным венчиком, так что края слегка отгибались наружу. Нижняя его часть не была орнаментирована, и только от перелома круглой чаши дна к вертикальным стенкам вплоть до венчика всё пространство было разделено на зоны отпечатками тонкого зубчатого штампа, а в этих зонах помещался зигзаг из пяти-семи косых зубчатых насечек – типичный фатьяновский узор! А тесто сосуда, наоборот, ложнотекстильное: чистая глина и в ней большие зёрна толчёного гранита – дресва. Итак, орнамент фатьяновский, тесто местное, как и выделка – ленточный налеп, а форма приближается к формам сосудов ещё одной культуры бронзы – к абашевской. И все три культуры оставили в Переславском районе свой след, даже абашевцы.
В двух километрах от Дикарихи, на Кухмаре, П. Н. Третьяков нашёл абашевский курганный могильник
Но ведь от этого не легче! Если растения и животных можно скрещивать и получать гибриды, в которых присутствуют признаки обоих компонентов, то о гибридизации культур (читай – сосудов) речи быть не может. Правда, о том, что такое «культура», археологи спорят до сих пор.
Но таков был только первый сосуд. Второй походил на него отчасти, но имел уже уплощённое дно и не такой великолепный орнамент. А третий был просто ложнотекстильный – невысокий, сплошь покрытый мелкой рябью от зубчатого штампа. У него было плоское дно с закраинами, и, встреть я его в другой компании, ничтоже сумняшеся отнёс бы к началу, если не середине первого тысячелетия до нашей эры…
Трудно смириться с тем, что переиначивает прежние представления, не укладываясь в привычную схему опыта. Ну как может быть могильник без погребённых? Может быть, они просто исчезли, растворились в этой лёгкой, пылевидной супеси? Недаром и ямы выкопаны так мелко… Ведь ничего другого предположить нельзя! Да, бывают могилы без погребённых, кенотафы – гробницы, курганы, склепы, – но только в том случае, если человек умер на стороне, на чужбине, пропал в безвестности. И чтобы оплакать его смерть, чтобы молитвами, плачем и жертвами утишить боль живых от утраты, а душе покойного, мятущейся и одинокой, указать путь в царство мёртвых, подобные кенотафы устраивались не только в глубокой древности, но ещё древними славянами.
А здесь – нет, здесь было не так.
Не были рассчитаны эти мелкие ямы на тела покойных – не оставалось для них места, потому что они были малы, а если и случались достаточно велики, то в центре их оказывались поставленные туда сосуды. Горшки с заупокойной пищей. Рядом с горшками лежал то кремнёвый скребок, порой несколько, то нуклеус-ядрище, от которого отщеплялись кремнёвые пластинки, то кремнёвые отщепы. И – о радость! – в одной из ям оказался маленький бронзовый кинжальчик, а в другой – бронзовое височное кольцо, вещи, прямо принадлежавшие умершему человеку. Впрочем, и от человека кое-что оставалось. В нескольких случаях рядом с каменными скребками и сосудами мне удавалось найти следы небольшого свёрточка – может быть, из кожи или ткани, – в котором лежали остатки молочных зубов, по-видимому сохранявшиеся при жизни человека, а после его смерти положенные в эти странные могилы.
Значит, с детских лет кто-то собирал и хранил эти свидетельства взросления, передавал их в чьи-то заботливые руки, чтобы после смерти человека предать земле и их…
Многое можно заметить при раскопках такого могильника. И следы оград вокруг ям, и остатки тропок, ведущих ко входу в ограду, и множество лёгких костров, горевших между могилами и вокруг всего могильника, – костров, на которых, вероятно, не раз и не два полыхала сухая золотистая солома, оставляющая не угольки, а только жар, прокаливающий докрасна почву, и лёгкий серый пепел.