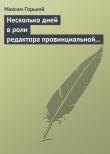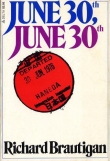Текст книги "Дороги веков"
Автор книги: Андрей Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
35
Как он ворвался, из каких времён, пригвоздив к раскопу мою сегодняшнюю тень, этот маленький железный наконечник стрелы, только что обнаруженный среди неолитических черепков?! Маленький, ржавый, выпущенный из тугого лука, может быть, кем-либо из тех, кого мы месяц назад раскапывали на купанских огородах, он пробил слои и эпохи, вонзившись глубоко в землю, исчез из своего времени, уйдя глубоко в прошлое, чтобы вынырнуть далеко в будущем. В том будущем, которое на какой-то миг стало нашим настоящим. И вот я держу на ладони маленький сгусток проржавленного металла, извлечённый из времени… Куда? В безвременье? Или в остановленное «сейчас», которое его будет сопровождать, которое будет возникать для него – или для человека? – каждый раз, как он будет смотреть на этот кусочек ржавчины и прикасаться к нему?
Но тогда где же оно, это прошлое? Или необратимость времени касается только нас, потому что каждому из нас не дано ни прошлого, ни будущего, а только лишь настоящее? Всё остальное – символ, знак, условность… Множество конечных бесконечностей, наделённых сознанием. И это – человек?
Как мало остаётся от человека!
Я хожу по раскопу, останавливаюсь у листов бумаги, на которых растут кучки черепков, рассматриваю их, зарисовываю украшающие их узоры, кремнёвые орудия, рассматриваю ножевидные пластинки, шлифованные долота, которые нет-нет да появляются из земли, и не могу отделаться от мысли, что всё то, что мы из неё извлекаем, относится к человеку так же, как стружка или мраморная крошка – к той статуе, во время рождения которой они летели на землю из-под резца ваятеля.
Мы можем восстановить последовательность каких-то простых действий, угадываем назначение предметов, восстанавливаем призрачную схему жизни. Но, собственно, к человеку это относится так же, как к действительной жизни – неуклюжий детский рисунок, пытающийся обозначить взаимосвязь отмеченных взглядом предметов. А как заметить среди них человека, если самая его суть – чувства, мысли, порывы – оказывается неуловимой и невоспроизводимой даже живущими рядом с ним? Да, материи присуще свойство мышления, но свойство, качество – понятия уже не материальные, не вещественные…
Материя и дух? Извечный дуализм?
Но стоит только придать материи форму, оформить косное, бездушное вещество, извлечь из материала предмет, как он оказывается наполнен идеей, которую передал ему человек. Идею топора. Идею скребка. Идею глиняного горшка. Идею копья – сложную идею, возраставшую по мере соединения разнородных её частей, разнородных идей, в свою очередь рождавших при своём соединении идею более высокого порядка. И опять вопрос: рождает ли? У человека? Да. Но опять получается, что, даже воплощённая в материи, идея сама по себе не существует. Она живёт только в мозгу человека, и каждый раз человек оплодотворяет предмет, который способствует этому оплодотворению или препятствует своей формой. Без человека, более того, без посвящённого в секрет идеи человека материя остаётся, как и прежде, мёртвой. Форма всего лишь символ идеи, знак причастности к человеческому духу…
И возникает новый вопрос: не оттого ли человек так окружает себя символами, созданными им самим, что не в силах разобраться в иероглифах природы?
36
Ветер дует.
Вначале соседство станции раздражало: гудки, крики в мегафон, сутолока… Польцо для меня всегда было зелёным и тихим, а тут оказалось шумным и чёрным.
Сегодня станция снова врывается в нашу жизнь. Ветер несёт к раскопу едкий дым горящего торфа. Торф горит в вагонах. Он залежался в караванах на фрезерных полях, перезимовал; его не успели вовремя вывезти, и теперь он самовозгорается. На запасных путях стоят почти целые составы, которые поливают из шлангов.
У нас ещё и пыль. Чёрная, сухая. Там, где была дорога, перебитый и перетёртый колёсами культурный слой похож на асфальт. И когда скоблишь его, вся эта пыль поднимается от ветра и въедается в поры. Хорошо, что рядом река.
Толя с Вадимом, взмокшие, притаскивают теодолит и рейку.
– Всё. Два коробка слепней!
– Кончили?
– Нет, ещё один соберём.
– Я о плане.
– А-а… С этой стороны осталось привязать.
Мимо, громыхая по шпалам, в сторону Талиц, проносится санитарная дрезина. Резкие гудки мотовозов.
Рабочие собираются, выжимая на себе трусы.
– Опять авария…
Игорь, который бегал к диспетчерской, возвращается с известием: столкнулись мотовозы. Кто-то не перевёл стрелку. Есть ли жертвы – неизвестно.
Работа не ладится. Все поглядывают в сторону станции, все ждут вестей. Почти у каждого или отец, или брат, или мать работают на дороге. С каждым может случиться.
Уже возвращаясь домой, встретил Прасковью Васильевну – запыхавшуюся, с красными от слез глазами, торопливо заматывающую на бегу платок.
– Пашку… Пашка в аварию попал! – всхлипнула она. – И не знаю – жив ли. Говорят, в город прямо повезли…
Только вечером удалось узнать, как это всё произошло. Везде здесь лежит одна колея. И когда с разъезда выходит состав, мотовоз или просто дрезина, то диспетчер предупреждает по телефону следующий разъезд.
Павел с подручным шёл на мотовозе к Талицам. И то ли диспетчер сначала отправил его, а потом позвонил на разъезд, то ли там прослушали – только оттуда вышел мотовоз в сторону Вёксы. На прямой оба мотовоза могли бы остановиться, но встретились они на повороте. Столкновение было неизбежно, можно было только замедлить ход. На встречном решили проще – мотористы спрыгнули с мотовоза, и тот без управления, не сбавляя скорости, понёсся вперёд.
– Прыгай! – приказал Павел своему подручному.
Тот замялся.
– А ты?
– Прыгай, тебе говорят! – крикнул Павел, закручивая колесо тормоза.
Удар был сильный. Лишь в самую последнюю минуту Павел успел не только затормозить, но и переключить на задний ход. Мотовозы были спасены, но сам он побился, получил рваные раны на лице, и боялись, что окажется трещина в черепе.
37
Из Переславля вернулась Прасковья Васильевна. С Павлом всё обошлось сравнительно благополучно: сотрясения нет, трещин тоже, только сильно побито лицо. Как бы то ни было, через неделю его обещают выписать домой.
Злополучные мотовозы стоят на станции. Один всё-таки свалился под откос, и его пришлось поднимать. Помят капот, поломана кабина, и сам он похож на пьяного калеку.
Жарко. Вадим наконец кончил снимать план, стоит на отметках, а Толя, потеснив десятиклассников, забрал себе сразу четыре квадрата и возится на них, весь чёрный от летящей пыли. Струйки пота прокладывают розовые дорожки по его телу и засыхают; время от времени он звонко шлёпает ладонью, наводя новую кляксу, и кладёт в спичечный коробок оглушённого слепня.
Ребята прослышали про нашу рыбалку, и теперь по всем раскопам слышны осторожные шлепки. Дурной пример заразителен.
38
Только что ушли школьники из Копнина – села, расположенного между Усольем и Нагорьем. Они путешествуют по родному краю и почти полдня провели у нас на раскопках. Уф! Теперь можно и за дело приняться, только вот отдышаться от бесчисленных объяснений…
Впрочем, разве это не дело?
Пожалуй, если разобраться, именно это «дело» поважнее самих раскопок, ибо иначе зачем они? Ведь не для пополнения музеев выпытываем мы у прошлого его подноготную, собирая осколки минувших времён; не из любопытства только переворачиваем пласты земли, а из-за тех редких удач, когда удаётся ощутить непрекращаемое биение пульса жизни, почувствовать непрерывающуюся живую связь времён и оттуда, из прошлого, принять эстафету, чтобы передать её в будущее.
Вот, казалось бы, приехали два-три посторонних человека, стали что-то размечать, копать, фотографировать, живя своей, не совсем понятной для окружающих жизнью. Люди, по сути своей, они разные, не такие уж близкие, но общее дело объединило их на какое-то время, и вот уже возникло некое ядро со своими полями тяготения, со своими центростремительными силами, притягивающими других людей, образуя нечто вроде звёздного скопления или планетной системы. Из хаоса личных отношений, из каких-то случайных структур постепенно строится то упорядоченное целое, что именуется «экспедицией», «коллективом», начиная свой, никем до того не предусматриваемый путь в пространстве, влияя своими полями, своими излучениями на окружающий «космос», перестраивая его, влияя на орбиты чужеродных «планет».
Действительно, стоило только начать работать, собрать на раскопе ребят, как потянулись к нам гости – самые разные.
То, соскочив с одной и в ожидании следующей дрезины, присядет над черепками вечно бодрый и вечно спешащий Данилов, сверкая всегдашней дружелюбной улыбкой; то – редкий гость! – хмурый и молчаливый, посидит в раздумье над раскопом Вячеслав Королёв; то Виктор Новожилов остановится по пути домой перекинуться словами, посмотреть, что нашли; то – не менее редкий теперь гость – появится Володя Карцев, работающий на другой линии, которая связывает Купанское с Мшаровым. То несколько машинистов с мотовозов во время вынужденного перерыва – путь закрыт встречным составом – соберутся возле раскопа, и случайная, зацепившись с полуслова, с обмолвки, завяжется беседа, а то схлестнётся и спор, потому что человек жаден на новое, но, прежде чем принять, приладить его к себе, не один раз перевернёт, вывернет, рассматривая на свет новую телогрею, – ладно ли швы прострочены, нет ли прорех, не на живую ли нитку смётана, сядет ли так, чтобы и телу и душе удобно было?..
Следом за ними идут другие: туристы, нет-нет да появляющиеся на байдарках из-за поворотов Вёксы, пешим строем двигающиеся по родному краю группы школьников, как эти из Копнина… Наконец, просто соседи, уезжающие и приезжающие, для которых наши раскопки стали делом привычным, а потому получившим не только смысл, но, как бы сказать, и «права гражданства» наряду с любой другой работой, за которую платят деньги, а стало быть, приносящей государственную пользу.
С каждым из таких гостей надо найти язык, понять, что его волнует, к чему он тянется, что хочет узнать, не всегда умея правильно выразить свои желания. Иногда поспорить, пошутить. Иногда пристыдить. И всегда рассказать.
Конечно же, в этом случае школьники – самые благодарные из всех. У них ещё нет устоявшихся привычек, не сложился ещё штампованный ритм мысли, и на окружающий мир они смотрят жадными, широко раскрытыми глазами, готовые весь его принять, понять, отдаться ему без оглядки. Каждый их шаг в этом мире приносит множество открытий. И разве не потрясением для них, проживших всего только двенадцать-пятнадцать лет на Земле, оказывается встреча с черепком, сделанным пять тысяч лет назад?
Бесплотное время, тикающее часовым механизмом, принимающее сколько-нибудь ощутимые очертания лишь в виде протяжённости урока, от звонка до звонка, здесь обретает внезапно реальный вес, плотность, форму и положение.
Ребята смотрят, раскрыв рты, на тебя, как на волшебника, когда, рассказывая им, жестом фокусника извлекаешь из беспорядочной кучи два приглянувшихся тебе черепка и, прижимая их друг к другу, показываешь им как бы из ничего вдруг возникший сосуд – пусть даже не целый, но он уже наполовину извлечён из бесформенности, из небытия, и время, давно минувшее, вдруг возвращаясь, обретает форму… Память об этих минутах они сохранят на всю жизнь, и пусть никто из них не станет ни историком, ни археологом, но в глубине подсознания у них будет тлеть маленькая искорка, напоминающая, что каждый из них – не первый и не последний человек на земле и его жизнь точно так же принадлежит будущим поколениям, как поколениям уже прошедшим…
Во всяком случае, мне хочется верить, что вместе с подаренными им черепками ребята уносят после нашей встречи отблеск именно этой мысли… И ребята, и взрослые.
39
Вчера под конец рабочего дня появилось пополнение: приехал Слава, мой старый лаборант, и привёз с собой приятеля.
Ребята соскочили с дрезины на станции и, волоча по отвалам рюкзаки, пришли прямо на раскоп. Славу я ждал, тем более что сегодня должны уехать Вадим с Толей, так что помощь человека, с которым я уже привык работать, просто необходима. У Славы скуластое лицо, голубые глаза с раскосинкой, белый вихор на голове, который он старательно приглаживает и причёсывает, и московский говорок, в котором нет-нет да и проскользнёт ярославское оканье. Родители его из здешних краёв, да и сам он родился в Хмельниках возле Сомина озера.
Михаил, его приятель, совсем иной. Высокий, широкоплечий увалень с толстыми оттопыренными губами, мясистым носом и длинными, почти до плеч патлами. У него нагловатый вид подростка, привыкшего шлифовать московские тротуары. И хотя он пытается казаться «бывалым человеком», чувствуется, что всё для него здесь внове…
Стрелка приближается к двум часам пополудни.
– Ну что ж… Пора!
Вадим проверяет рюкзак, застёгивает клапан и выпрямляется.
– Ты, Леонидыч, свечи в моторе смени, обгорели они. Сегодня утром опять чихали.
– Да уж как-нибудь! Новгороду своему кланяйся. И нам пиши!
Наступает минута напряжённой тишины. Молча, исполняя старинный обычай, сидим, думая каждый о своём и об общем, как то испокон веку положено на Руси: о дальней дороге, казённых домах, о тех, кто остаётся и кому уготована своя дорога, тоже дальняя и неведомая. И разом, разрушая всё незримо созданное, как выход: «Пошли!»
– Счастливо!
– Счастливо!
По тропке над Вёксой, мимо буйно зеленеющих огородов, мимо мостков с примкнутыми к ним лодками, мимо соседей, которые напутственно машут отъезжающим, мы проходим гуськом, неся удочки и рюкзаки наших товарищей. Сколько раз уже было пройдено здесь за эти дни, сколько раз ещё нам самим ходить по этой тропке! А вот им – когда ещё они опять попадут на Вёксу? Может быть, поэтому, не сговариваясь, перейдя мост, Вадим и Толя спускаются со шпал к раскопам и дальше к станции идут по отвалам, которые сами набросали за эти дни.
Я вижу, как, нагнувшись, Толя поднимает и кладёт в карман черепок – последнюю память об ещё одном приключении в своей жизни…
Маленькая, глубоко врезавшаяся в песчаные берега Куротня, берущая начало из далёких лесных болот на юго-западе от Плещеева озера, как-то естественно стала границей леса на западном берегу, тогда как Кухмарь, столь схожий с Куротней, – на северном. За Куротней к Переславлю открываются обширные пространства болотистой поймы, вклинивающейся между песчаными грядами дюн, поросших сосновыми борами, и высокими склонами коренного берега, на котором разбросаны деревни и пашни. Этот угол зарос черёмухой, ивой, кустами смородины, густым, непроходимым ольшаником, обвитым цепкими лианами хмеля, и в глубинах его крапивных джунглей в конце июля таятся крупные и сочные глянцевочёрные гроздья смородины, до которых добирается не всякий ягодник. Но привлекают сюда меня не эти радости лета, которым ещё время не пришло, а прямая гряда довольно высокого песчаного вала, прорезанного течением Куротни, – такого же вала, какой можно видеть на северном берегу озера, возле Кухмаря.
Эти валы интересуют меня так же, как когда-то, в начале века, интересовали географов и геологов, работавших на берегах Плещеева озера.
Тогда, в двадцатых годах, по инициативе главного историка здешних мест Михаила Ивановича Смирнова был создан не только местный историко-краеведческий музей и биологическая станция в усадьбе «Ботик» на горе Гремяч, где двести с лишним лет назад находилась резиденция Петра Великого, но и печатались «Труды» и «Доклады» Переславль-Залесского научно-просветительного общества, составившие своеобразную энциклопедию края. Это Смирнов пригласил к сотрудничеству с переславскими краеведами профессоров Московского университета, и он же уговорил приехать для работы с краеведами М. М. Пришвина, навсегда прославившего эти места…
Всякий раз становится не по себе, когда, листая ломкие, пожелтевшие страницы изданий тех лет, открываешь своих предшественников, ломавших головы над теми же вопросами, которые волнуют сейчас тебя; медленно, шаг за шагом извлекаешь из забвения забытые на людей, прокладывавших тропы, по которым идёшь, нащупываешь в сумерках прошлого оборванные нити человеческих судеб…
Вот и эти валы. Когда они возникли? Отделяют ли их от нас тысячелетия или десятки тысячелетий? Хранят ли они в себе следы древних поселений, как равные им по высоте береговые террасы древнего озера, или к тому времени, когда человек стал селиться на здешних берегах, кромка воды убежала уже далеко от этих песчаных гряд?
На выяснение нужно время, его оказывается всё меньше и меньше, но вот сегодня, благо впереди половина дня – считай, целый день! – я решаю, что вместе с приятным можно соединить и полезное: проводив на полпути до Переславля Вадима с Толей, вернуться от Куротни пешком по берегу.
И прогулка хорошая, и вал осмотрим.
Теперь мы стоим на дюне, прислушиваясь к пропадающему шуму мотовоза. Его хриплый гудок долетает из-за кустов за поворотом, и перестук колёс окончательно затихает. Вот и всё.
Сверкают ниточки рельсов, синеет над кустами озеро, белеют вдали на противоположном берегу стены Никитского монастыря, а на нашем, впереди и несколько справа, поднимается зелёная купа берёз, между которыми видны небольшие строения и арка над входом. Это и есть усадьба «Ботик» на горе Гремяч, которую облюбовал во время своих приездов в Переславль Пётр I. Там слышалась голландская и немецкая речь, на берегу скрипели блоки, визжали пилы, разделывавшие окрестные леса для «царской потехи», дымились костры, на которых в чанах кипела смола, стучали топоры, а между всем этим ходил долговязый юноша, учившийся дотоле неизвестному плотницкому и корабельному делу.
От верфи, от причалов остались только сваи на дне озера и в топкой почве берега. Здания музея построены уже в прошлом веке, когда на средства, собранные жителями Переславля и его уезда, равно жертвованные дворянами, мещанским населением, крестьянами и духовенством, гора Гремяч была откуплена у тогдашних её владельцев и сюда с торжественной церемонией был перенесён бот «Фортуна» – единственный оставшийся в живых от «потешной» флотилии. И уже потом, с течением времени, собирались со дна озера топоры, котлы для смолы, остатки деревянных резных фигур от галер, шкивы, блоки, остатки шпангоута – всё то, что выставлено теперь здесь и в краеведческом музее.
Я оглядываю своих спутников. М-да, братья-разбойнички! Освободившись от цивильного городского платья натянув на себя минимальное, не требующее внимания и заботы одеяние, лёгкое, пригодное на все случаи жизни ребята являют зрелище достаточно устрашающее, если бы не полупустой рюкзак одного и сапёрная лопатка на бедре другого.
Михаил обмотал рубашку вокруг пояса и теперь осторожно поглаживает вздувающиеся на плечах пузыри от солнечных ожогов.
– Так что, отцы-благодетели, двинулись? А то если копать по дороге придётся, домой до язей не успеем!
Слава старательно щеголяет подхваченным за эти дни экспедиционным жаргоном, который вместе с уличным московским образует столь же причудливый сплав, как и его внешний вид: подвёрнутые до колен тренировочные брюки, закатанная снизу вверх, до подмышек, выгоревшая футболка, на голове пилотка из газеты. Что ж, обстановка, по-видимому, определяет и словарь, и внешнее проявление себя человеком. Вероятно, и я в экспедиции говорю несколько иначе, чем в городе.
Мальчишество? Переимчивость? Стремление расковаться? Или нечто иное, о чём я думал несколько дней назад, наткнувшись в начале одного из рассказов Александра Грина на следующие слова. «Есть люди, напоминающие старомодную табакерку, – писал Грин. – Взяв в руки такую вещь, смотришь на неё с плодотворной задумчивостью. Она – целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц и показывают гостям, но редко случится, что её собственник воспользуется ею как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие – геометрически – с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в соприкосновение – значит незаметно жить прошлым?»
Так, может, этот жаргон, шутливо-ироничные словечки служат для нас той инстинктивной защитой от прошлого, среди которого проходит наша жизнь в экспедиции? И этой защитой мы пытаемся подчеркнуть, лишний раз почувствовать свою современность, порой утрируя это чувство в языке, в манере, в одежде, чтобы прошлое не захлестнуло, не оторвало от «сегодня»?..
Вот он, вал. Прямой, как выстрел, насыпанный словно по нивелиру, он не так уж, оказывается, высок, как видится со стороны, и теперь на его теле нашим глазам открывается множество старых и совсем свежих ран – ямы, карьеры, откуда и сейчас ещё берут песок для ремонта дороги, заплывшие учебные окопы. Я прошу Михаила то там, то здесь зачистить старые осыпи, и тогда в свежем срезе открываются ровные прямые слои с горизонтальными прослойками ржавых солей железа, отмечающих уровни древних поднятий Плещеева озера, – вал вырастал под водой. Если бы его складывал ветер, слои были бы косыми.
Широкоплечий мускулистый Михаил размахивает сапёрной лопаткой, как игрушечной, далеко отбрасывая в сторону песок и комья дёрна.
– А шлак здесь откуда? – спрашивает он с недоумением, извлекая из песка куски шлака со спёкшейся поверхностью и металлическим отливом. – Неужто от узкоколейки притащили?
– Может, здесь кузница была? – осторожно предполагает Слава и на всякий случай снимает рюкзак с плеча. – Ты как думаешь? – обращается он ко мне. – До узкоколейки здесь далеко, вряд ли кто стал сюда таскать…
– И здесь тоже… Потяжелее и железа побольше! А шлак – он должен быть лёгким. А это что за глиняная трубка?
Михаил подаёт мне обломок глиняной трубки с запёкшейся от высокой температуры вокруг её узкого конца как бы глазурованной массой. Рядом Слава поднимает такой же кусок. У обеих трубок внутренний канал сужается, и на стекловидной массе шлака можно разглядеть ржавые капли железа. Так вот что это такое: сопла древней доменной печи, домницы, в которой из болотной железной руды когда-то выплавляли железо! Оно получалось при этом не жидким, а как бы «сметанообразным» и, стекая в ямку под домницей, приобретало вид таких же лепёшек-криц, которые мы находили неподалёку от варниц, на месте исчезнувшего усольского посада.
– Так что, по этим трубкам металл стекал? – спрашивает Слава.
– Нет, Слава. Древние металлурги уже тогда знали, что высокую температуру можно получить, нагревая металл не снаружи, а изнутри. Даже не столько нагревая, сколько активизируя химический процесс. Через эти трубки они с силой вдували воздух, и из окислов восстанавливалось чистое железо. Эх, жаль, наш главный славяновед уехал!
– А что, в неолите таких не было? – с туповатой ухмылкой спрашивает Михаил.
– Голова! На то он и неолит, что в нём металла нет. В бронзовом веке здесь и медяшки не найдёшь а ты ещё железа захотел! – с чувством превосходства над приятелем произносит Слава. – Ты смотри лучше может, здесь и сама домница лежит…
Но, увы, поиски безуспешны. Несколько кусков шлака, ещё два обломка глиняных сопел – и всё. По-видимому, древнее производство располагалось в том месте, где сейчас виден обширный, уже поросший кустами карьер, в обрыве которого нам и посчастливилось углядеть эти остатки. Печальнее всего, что нет ни одного черепка, по которому можно было бы хоть приблизительно установить время, когда древние переславцы выплавляли на этом бугре железо из собранной тут же болотной руды, мешая её с древесным углем и раздувая огонь мехами. А может быть, всё это связано опять-таки с временем Петра I и его «корабельной потехи», как остатки глиняной корчаги со смолой, на которые мы как-то наткнулись при раскопках очередной стоянки, расположенной невдалеке от Польца? Конечно, не та техника, не тот размах, но как с уверенностью отрицать такую возможность?
Следы державного пребывания встречаются здесь в самых неожиданных местах и видах…
Захватив увесистые находки, мы отправляемся дальше по валу – к Куротне, к остаткам высоких песчаных дюн за нею, к уже известным мне стоянкам, лежащим на древнем берегу озера, по которому текут рельсы узкоколейки. Она прорезает древние мысы, пересекает давно заросшие заливы, но в целом довольно точно указывает ту границу, где влажное разнолесье сменяется сухими сосновыми борами.
Здесь облик прошлого выдаёт себя цветом мхов, сменой кустарника и деревьев, зарослями папоротника, отмечающими с неизменностью ту невидимую границу, за которой на песках наслоились пласты торфянистого заболоченного перегноя. Но главное, что привлекает меня, заставляя снова и снова возвращаться к узкоколейке, так это противопожарные борозды, змеящиеся с двух её сторон по опушкам леса. Почвенный слой здесь взрезан глубоко, отвернут в стороны плугом, и, подчищая время от времени лопаткой стенку борозды, бредя по ней, можно рассматривать бесконечный, почти не прерывающийся извилистый разрез, что тянется по всхолмлению берега на много километров.
В тот первый год, когда я открыл для себя Польцо, в одной из этих борозд я нашёл новую стоянку. Поэтому, вернувшись через две недели на берега Плещеева озера, я отправился шагать по этим бороздам, где углядывая, а где и просто нащупывая во влажном песке босой ногой кремнёвый отщеп, черепок, а то и наконечник стрелы. Теперь мне известно здесь уже девять стоянок, относящихся к разному времени. Если на Польце перемешаны остатки всех эпох, то здесь, на древнем берегу Плещеева озера, они лежат раздельно, позволяя изучать и сравнивать заключённый в них материал.
Мы идём по борозде, останавливаемся, присматриваемся, обманутые кусочками сосновой коры, так похожей на кремнёвые отщепы, снова идём, собирая и заворачивая в бумагу находки. Но до чего здесь условно само понятие «стоянка»! Девять пунктов – только девять центров наибольшего насыщения вещами. Отграничены, отделены друг от друга пересохшими руслами древних ручейков или заливами лишь три или четыре. Остальные протянулись по низкому песчаному берегу, который засыпан черепками и колотым кремнем. Почему на этот именно берег Плещеева озера собиралось в древности так много людей и с таким завидным постоянством? На какие-либо церемонии, общие празднества? Но в основе почти всех ритуалов древности лежали заботы хозяйственные: успех охоты, увеличение племени, забота о хлебе насущном… А ведь только здесь, вдоль этого берега, тянутся густые заросли тростника, только здесь нерестится плещеевская рыба и как раз сюда всегда собираются по весне местные и приезжие рыболовы. В камышах тесно от лодок, некуда закинуть приманку, а на берегу дымятся костры, стоят палатки, мотоциклы, автомашины и автобусы.
Как-то раз, возвращаясь из Ленинграда, я разговорился с попутчиком. Он оказался ихтиологом, и я поинтересовался: могут ли сохраняться неизменными места нереста в течение нескольких тысяч лет? Подумав, он ответил, что могут, безусловно могут, если только не изменились природные условия.
Насколько я мог судить, природные условия здесь не менялись. Колебания уровня озера происходили чрезвычайно медленно, позволяя зарослям тростников перемещаться вслед то за отступающей от берега, то за наступающей на него кромкой воды. Всё так же у подножия подводного обрыва били в глубине озера ключи, и солнце прогревало мелководье, давая тепло и пищу миллионам вылупляющихся из икринок мальков. Вот почему сюда и собирались всегда люди – собирались на весеннее обжорство, на праздник весенней рыбы, запасаясь едой впрок, решая племенные дела, заключая браки…
* * *
От века им неведомы пределы —
Мечты и страсти воспалённый бег —
Ловить зари взносящиеся стрелы
И слушать скрип уключин и телег.
На всех путях – и близких и далёких,
На всех причалах, памятью спеша,
Найдёшь оставленные ими строки,
Созвучные твоим, моя душа!
Потёртые баронские короны,
Кастилий ветхих старые гербы
Хранят лесов раскинутые кроны,
Чужих земель пещеры и гробы…
И, бороздя глубины океанов,
В горниле слова выплавляя стих,
Развенчиваем славой осиянных,
Чтоб возвеличить – малых и простых!